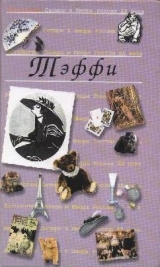
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Надежда Тэффи
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
О нежности
«А нежность… где ее нет» – сказала Обломову Ольга.
Что это фраза? Как ее следует понимать? Почему такое уничижение нежности? И где она так часто встречается?
Я думаю, что здесь неточность, что не нежность осуждается пламенной Ольгой, а модная в то время сентиментальность, фальшивое, поверхностное и манерное занятие. Именно занятие, а не чувство.
Но как можно осудить нежность?
Нежность – самый кроткий, робкий, божественный лик любви. Сестра нежности – жалость, и они всегда вместе.
Увидите вы их не часто, но иногда встретите там, где никак не ожидали, и в сочетании самом удивительном.
Любовь-страсть – всегда с оглядкой на себя. Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, все время боится упустить потерянное.
Любовь-нежность (жалость) – все отдает, и нет ей предела. И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». Только она одна и не ищет.
Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. Наоборот. Нежность идет сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. А ведь заботиться и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке.
Поэтому слова нежности – слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому.
– Деточка! Крошечка!
Пусть деточке пятьдесят лет, а крошечке – семьдесят, нежность идет сверху, и видит их маленькими, беззащитными, и мучается над ними, боится за них.
Не может Валькирия, несмотря на всю свою любовь к Зигфриду, назвать его «заинькой». Она покорена силой Зигфрида, в ее любви – уважение к мускулам и к силе духа. Она любит героя. Нежности в такой любви быть не может.
Если маленькая, хрупкая, по природе нежная женщина полюбит держиморду, она будет искать момента, принижающего это могучее существо, чтобы открыть путь для своей нежности.
– Он, конечно, человек очень сильный, волевой, даже грубый, но знаете, иногда, когда он спит, у него лицо делается вдруг таким детским, беспомощным.
Это нежность слепо, ощупью ищет своего пути.
Одна молодая датчанка, первый раз попавшая во Францию, рассказывала с большим удивлением, что француженки называют своих детей кроликами и цыплятами. И даже – что совсем уже необъяснимо – одна дама называла своего больного мужа капустой (топ спои) и кокошкой (топ cocotte)[1].
– И знаете, – прибавляла она, – я заметила, что и на детей, и на больных это очень хорошо действует.
– А разве у вас в Дании нет никаких ласкательных слов?
– Нет, ровно никаких.
– Ну, а как же вы выражаете свою нежность?
– Если мы любим кого-нибудь, то мы стараемся сделать для него все, что только в наших силах, но называть почтенного человека курицей никому в голову не придет. Но странное дело, – прибавила она задумчиво, – я заметила, что такое обращение очень нравится и даже очень хорошо действует на детей и больных.
Нежность встречается редко и все реже.
Современная жизнь трудна и сложна. Современный человек и в любви стремится, прежде всего, утвердить свою личность. Любовь – единоборство.
– Ага! Любить? Ну, ладно же.
Засучили рукава, расправили плечи – ну-ка, кто кого? До нежности ли тут? И кого беречь, кого жалеть – все молодцы и герои.
Кто познал нежность – тот отмечен. Копье архангела пронзило его душу, и уж не будет душе этой ни покоя, ни меры никогда.
В нашем представлении рисуется нежность непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью.
Ах, что мы знаем об этих «кротких женщинах». Ничего мы о них не знаем.
Нет, не там нужно искать нежность. Я видела ее иначе. В обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных.
1
В первый раз посетила она мою душу давно. Душе моей было не более семи лет. Огромные семь лет. Самые полные, насыщенные и значительные эти первые семь лет человеческой жизни.
Был вечер, была елка. Были и восторг, и зависть, и смех, и ревность, и обида, – весь аккорд душевных переживаний.
И были подарены нам с младшей сестрой картонные слоники, серые, с наклеенной на спине красной бархатной попонкой с золотым галуном. Попонка сбоку поднималась, и внутри, в животе у слоников, бренчали конфетки.
Были подарки и поинтереснее. Слоники ведь просто картонажи с елки.
Я высыпала из своего картонажа конфетки, живо их сгрызла, а самого слоника сунула под елку – пусть там спит, а за ночь придумаю, кому его подарить.
Вечером, разбирая игрушки и укладывая спать кукол, заметила, что сестра Лена как-то особенно тихо копошится в своем углу и со страхом на меня посматривает.
Что бы это такое могло быть?
Я подошла к ней, и она тотчас же схватила куклино одеяло и что-то от меня прикрыла, спрятала.
– Что у тебя там?
Она засопела и, придерживая одеяло обеими руками, грозно сказала:
– Пожалуйста, не смей.
Тут для меня осталось два выхода: или сказать «хочу и буду» – и лезть напролом, или сделать вид, что мне вовсе не интересно. Я выбрала последнее:
– Очень мне нужно!
Повернулась и пошла в свой угол. Но любопытство мучило, и я искоса следила за Леной. Она что-то все поглаживала, шептала. Изредка косила на меня испуганный круглый свой глазок. Я продолжала делать вид, что мне все это ничуть не интересно, и даже стала напевать себе под нос.
И мне удалось обмануть ее. Она встала, нерешительно шагнула раз, два и, видя, что я сижу спокойно, вышла из комнаты.
В два прыжка я была уже в ее углу, содрала одеяльце и увидела нечто ужасно смешное. Положив голову на подушечку, лежал спеленутый слоник, безобразный, жалкий, носатый.
Вылезающий из сложенной чепчиком тряпки хобот и часть отвислого уха – все было так беззащитно, покорно и кротко, и вместе с тем так невыносимо смешно, что семилетняя душа моя растерялась. И еще увидела я под хоботом у слоника огрызок пряника и два ореха. И от всего этого стало мне так больно, так невыносимо, что, чтобы как-нибудь вырваться из этой странной муки, я стала смеяться и кричать:
– Лена! Глупая Лена! Она слона спеленала! Смотрите! Смотрите!
И Лена бежит, красная, испуганная, с таким отчаянием в глазах, толкает меня, прячет своего слоника. А я все кричу:
– Смотрите, смотрите! Она слона спеленала!
И Лена бьет меня крошечным толстым своим кулаком, мягким, как резинка, и прерывающимся шепотом говорит:
– Не смей над ним смеяться! Ведь я тебя у-у-убить могу!
И плачет, очевидно, от ужаса, что способна на такое преступление.
Мне не больно от ее кулака. Он маленький и похож на резинку, но то, что она защищает своего уродца от меня, большой и сильной, умеющей – она это знает – драться ногами, и сам этот уродец, носатый, невинный, в тряпочном чепчике, – все это такой болью, такой невыносимой, беспредельной, безысходной жалостью сжимает мою маленькую, еще слепую душу, что я хватаю Лену за плечи и начинаю плакать и кричать, кричать, кричать… Картонного слоника с красной попонкой – уродца в тряпочном чепчике – забуду ли я когда-нибудь?
2
И вот еще история – очень похожая на эту. Тоже история детской души.
Был у моих знакомых, еще в Петербурге, мальчик Миша, четырех лет от роду.
Миша был грубый мальчишка, говорил басом, смотрел исподлобья. Когда бывал в хорошем настроении, напевал себе под нос: «бум-бум-бум» и плясал, как медведь, переступая с ноги на ногу. Плясал, только когда был один в комнате. Если кто-нибудь невзначай войдет, Миша – от стыда, что ли – приходил в ярость, бросался к вошедшему и бил его кулаками по коленям – выше он достать не мог.
Мрачный был мальчик. Говорил мало и плохо, развивался туго, любил делать то, что запрещено, и делал явно назло, потому что при этом поглядывал исподтишка на старших. Лез в печку, брал в рот гвозди и грязные перья, запускал руку в вазочку с вареньем, – одним словом, был отпетый малый.
И вот как-то принесли к нему в детскую, очевидно, за ненадобностью, довольно большой старый медный подсвечник.
Миша потащил его к своим игрушкам, к автомобилю, паяцу, кораблю и барану, поставил на почетное место, а вечером, несмотря на протесты няньки, взял его с собою в кровать. И ночью увидела нянька, что подсвечник лежал посреди постели, положив на подушку верхушку с дыркой, в которую вставляют свечку. Лежал подсвечник, укрытый «до плеч» простыней и одеялом, а сам Миша, голый и холодный, свернулся комком в уголочке и ноги поджал, чтобы не мешать подсвечнику. И несколько раз укладывала его нянька на место, но всегда, просыпаясь, видела подсвечник уложенным и прикрытым, а Мишу, голого и холодного, – у его ног.
На другой день решили подсвечник отобрать, но Миша так отчаянно рыдал, что у него даже сделался жар. Подсвечник оставили в детской, но не позволили брать с собою в кровать. Миша спал беспокойно и, просыпаясь, поднимал голову и озабоченно смотрел в сторону подсвечника – тут ли он. А когда встал, сейчас же уложил подсвечник на свое место, очевидно, чтобы тот отдохнул от неудобной ночи.
И вот как-то после обеда дали Мише шоколадку. Ему вообще сладкого никогда не давали – доктор запретил, – так что это был для него большой праздник. Он даже покраснел.
Взял шоколадку и пошел своей звериной походкой в детскую.
Потом слышно было, как он запел: «бум-бум-бум» и затопал медвежью пляску.
А утром нянька, убирая комнату, нашла его шоколадку нетронутой – он ее засунул в свой подсвечник. Он угостил, отдал все, что было в его жизни самого лучшего, и, отдав, плясал и пел от радости.
3
Мы жили в санатории под Парижем.
Санатория принадлежала русскому врачу, и почти все ее население было русское.
Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали.
Настоящих больных было только двое – чахоточная девочка, которую никто никогда не видел, и злющий старик, поправляющийся от тифа.
Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто-то проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза.
Вокруг старика трепетной птицей вилась его жена. Женщина немолодая, сухая, легкая, с лицом увядшим и с такими тревожно-счастливыми глазами, которые точно увидели радость и верить этой радости боятся.
И никогда она не сидела спокойно. Все что-то поправляла около своего больного. То перевертывала ему газету, то взбивала подушку, то подтыкивала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. Все эти услуги старик принимал с явным отвращением, а она от страха перед этим отвращением роняла ложку, проливала молоко, задевала его газетой по носу. И все время улыбалась дрожащими губами и рассказывала всякие веселые вещи. Расскажет – и засмеется, чтобы показать ему, что это смешно, что это весело. Он делал вид, что не слышит, и отворачивался.
Когда он засыпал в кресле, она позволяла себе сесть рядом и даже взять книгу. Но книгу она не читала, потому что, напряженно вытянув шею, прислушивалась к его дыханию.
Завтракал и обедал он у себя в комнате, и она одна спускалась в столовую. И каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала:
– Вот, может быть, вы мне поможете? Вот здесь крестословица. «Что бывает в жилом доме», в четыре буквы. Я думала «окно», но первая буква «и», потому что вертикально «женщина, обращенная в корову» значит Ио.
И поясняла:
– Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. Он всегда решает крестословицы, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. Ведь это единственное его развлечение. Так что уж мы с ним всегда после дневного отдыха предаемся этому занятию. Больные ведь как дети. Я так рада, что хоть это его забавляет. Чтение для него утомительно. Так вы не знаете, что бывает в доме в четыре буквы на «и»? Ну так я спрошу у той барышни, что сидит на балконе.
И летит, легкая, сухая, на балкон, к среднему столику, от столика еще куда-нибудь и всем приветливо объясняет, что ее мужа развлекают крестословицы и как она ему помогает в трудных случаях.
– Знаете, больные – они как дети!
И ласково всем кивала и посмеивалась, точно все мы были в каком-то веселом с ней заговоре и, конечно, тоже радуемся, стараясь угадать трудное слово крестословицы, чтобы быть полезными очаровательному Сергею Сергеевичу.
Ее жалели и относились к ней с большой симпатией:
– Умная была женщина, бактериолог. Много научных работ. И вот бросила все и мечется с крестословицами.
– А что он собою представляет?
– Он? Да как вам сказать – нечто неопределенное. Был как будто общественным деятелем, не из видных. Писал в провинциальных газетах. В общем, кажется, просто дурак с фанабериями.
Эти часа полтора во время завтрака были, кажется, лучшими моментами ее жизни. Это была подготовка к блаженному моменту, когда «ему», может быть, понадобится ее помощь.
И вот как-то он выполз на террасу раньше обычного, когда кое-кто из пансионеров еще не встал из-за стола.
Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. Он морщился и сердито отталкивал ее руку, если она не сразу угадывала его желания.
Наконец он успокоился.
Она, радостно поеживаясь, схватила газету:
– Вот, Сереженька, сегодня, кажется, очень интересная крестословица.
Он вдруг приподнял голову, выкатил злые желтые глаза и весь затрясся.
– Убирайся ты, наконец, к черту со своими идиотскими крестословицами! – бешено зашипел он.
Она побледнела и вся как-то опустилась.
– Но ведь ты же… – растерянно лепетала она. – Ведь ты же всегда интересовался…
– Никогда я не интересовался! – все трясся и шипел он, с звериным наслаждением глядя в ее бледное, отчаянное лицо. – Никогда! Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! И-ди-от-ка!
Она ничего не ответила. Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. Но кто же может отнестись серьезно к такому смешному и глупому горю?
Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал.
4
Он жил в одном доме с нами. Он был когда-то другом моего покойного отца, кажется, даже товарищем по университету.
Но в то время, о котором я сейчас хочу рассказать, он почти никогда у нас не бывал. Видали мы его только рано утром на улице. Он гулял со своей собакой.
Но слышали мы о нем часто. Он был очень важным сановником, очень нелюбимым и осуждаемым за ретроградство, за «непонимание момента», крутым, злобным человеком, «темной силой, тормозящей молодую Россию на ее светлом пути».
Вот как о нем говорили.
И еще говорили о том, что он тридцать пять лет состоит мужем женщины, выдающейся красотой и умом.
Пройти такой стаж было, вероятно, очень тяжело.
Быть мужем красавицы трудно. Но красота пропадает, и женщина успокаивается. Но если красавица вдобавок и умна – то покоя уже никогда не настанет. Умная красавица, потеряв красоту, заткнет пустое место благотворительностью, общественной деятельностью, политикой. Тут покоя не будет.
Жена сановника была умна, писала знаменитым людям письма исторического значения, наполняла свой салон передовыми людьми и о муже отзывалась иронически.
Впрочем, сейчас я не совсем уверена в том, что эта женщина была умна. В те времена была мода на вдумчивость и серьезность, на кокетничанье отсутствием кокетства, на наигранный интерес к передовым идеям и каким-то «студенческим вопросам». Если женщина при этом была красива и богата, то репутация умницы была за ней обеспечена.
Может быть, и в данном случае было так.
Сановник жил на своей половине, отделенной от комнат умной красавицы большой гостиной, всегда полутемной, с дребезжащими хрусталями люстр, с толстыми коврами, о которые испуганно спотыкались пробегавшие с докладами молодые чиновники.
Утром, гуляя с няней, которая ходила за булками, мы встречали сановника. Он гулял со своей огромной собакой, сенбернаром.
Сановник был тоже огромный, обрюзгший и очень похожий на свою собаку. Его отвислые щеки оттягивали вниз нижние веки, обнаруживая красную полоску под глазным яблоком. Совершенно как у сенбернара. И так же медленно ступал он тяжелыми мягкими ногами. И шли они рядом.
– Ишь, собачища! – сказала раз нянька.
И мы не поняли, о ком она говорит – о сановнике или о его собаке. «Собачища» ему подходило, пожалуй, больше, чем ей. У него лицо было свирепее.
Нас очень интересовала эта огромная собака. И раз, когда сановник остановился перед окном книжного магазина и собака остановилась рядом и тоже смотрела на книги, младшая сестра моя вдруг расхрабрилась и протянула руку к пушистому толстому уху которое было на уровне ее лица.
– Можно погладить собачку? – спросила она. Сановник обернулся, весь целиком, всем туловищем.
– Это… э-это… совершенно лишнее! – резко сказал он, повернулся и пошел.
Я потом за всю свою жизнь никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь говорил таким тоном с трехлетним ребенком.
Действительно – точно гавкнула собачища.
Дети страшно остро чувствуют обиду и унижение.
Я помню до сих пор, как она втянула голову в плечи, стала вся маленьким, жалким комочком и заковыляла к няньке.
Мы еще раза два-три видели их – его и собаку. Потом почему-то перестали их встречать.
И вот раз вечером, уже лежа в постели, услышала я нечто. Рассказывала горничная нашей няне, и они обе смеялись.
– И злющий был презлющий. Чиновника своего прогнал, и повара рассчитал, и швейцару нагоняй. Трех ветеринаров созвал. Ну, однако, пес евонный околел. Ну прямо и смех и грех, он его трогать не велел, а положил в зале в углу на ковер. Лакей Петро рассказывал – сидит, говорит, злющий, аж весь черный, у себя в кабинете, пишет-пишет, потом встанет да так тихомольно, крадучись, в залу пройдет, нагнется к собаке-то, лапу ей поцелует – ну, ей-богу, умора! Да опять тихомольно к себе в кабинет. Сядет и пишет. Попишет-попишет, задумается, да опять, да на цыпочках, раскорякой – и идет в залу.
Лакей Петро позвал Семена-кучера, да Ариша ихняя – там за дверью в передней все видно – так прямо все животики надорвали.
– Гос-с-споди, спаси и помилуй! – ахала нянька. – Собачью лапу!
– Да ведь всю-то ноченьку так и не ложился. Ну и похохотали же мы! Ноги, говорит, внутрь завернет, ровно барсук, брюхом переваливает, думает – никто и не слышит, как он в залу-то. Сущая комедь! Прямо, говорит, театру не надо.
– Ну-ну!
[1] Здесь: душечка, любимчик (фр.).
Кошки
Я позвонила.
За дверью голос Оли – я его отлично узнала – отчетливо проговорил:
– Анна! Открой скорее. Я не могу встать. Николай держит меня за плечо и дует мне в нос.
«Николай – подумала я. – Почему вдруг Николай? Ее мужа зовут Дмитрий. Митя. Положим, я не была здесь уже три года. За это время многое могло измениться. Был Митя, а теперь, значит, какой-то Николай…»
Горничная открыла дверь. И вдруг восторженный вопль:
– Милюсеньки мои маленькие! Дусики мои пусики!
«Однако как она меня любит!» – улыбнулась я.
Оля, пушистая, душистая, золотистая, такая же, как была три года тому назад, подбежала ко мне, рассеянно чмокнула меня в щеку и, повернувшись лицом в столовую, умиленно заговорила:
– Ну посмотри! Ну разве не прелесть!
В столовой на обеденном столе сидел толстый бурый кот и зевал.
– Это Николай, – представила мне Оля кота. – Но мы его чаще называем Яковом. Ты можешь его погладить, только не сверху головы, а по животу, и не делай, пожалуйста, резких движений – эти коты резких движений не любят.
У меня не было ни малейшего желания гладить толстого кота по животу, и я только сочувственно покачала головой.
– Франц! Франц! – позвала хозяйка.
Это она зовет лакея, чтобы он помог мне снять шубку.
– Не беспокойся, Олечка, я сама. Она посмотрела меня с недоумением:
– Как – сама? Он на твой голос не пойдет. Фра-анц! А вот и мы!
Из-за портьеры плавно вышел второй толстый бурый кот, потянулся и подрал когтями ковер.
– Франчик! – заворковала Оля. – Иди ко мне, моя птичка! Иди, моя звездочка! Иди, мой красавец неземной!
– Кссс… кссс! – позвала я. Исключительно из светской любезности, потому что мне было совершенно безразлично, подойдет к нам бурый кот или нет.
– Ах, что ты делаешь! – в ужасе воскликнула Оля. – Разве можно этих котов так звать! Это же не простые коты. Это сиамские. Это дикие звери. Они в Сиаме служат как стража. У королевского трона всегда стояли такие коты и стерегли короля. Они свирепые, сильные и абсолютно неподкупные. Они едят исключительно одно сырое мясо. Оттого они такие и сильные. Они еще едят варенье, копченую рыбу, жареную телятину, сухари, сыр, печенье, вообще очень многое едят, оттого они такие и сильные. И они безумно храбрые. Такой кот один бросается на бешеного буйвола.
– Ну, это, вероятно, не так часто встречается, – холодно сказала я.
– Что не встречается?
– Да бешеные буйволы. Я, по крайней мере, за всю свою жизнь…
– Ну, так ведь мы же не в Сиаме, – тоже холодно сказала Оля. – Ах да, я забыла – где же твои чемоданы? И почему ты не снимаешь манто? Вообще все как-то странно… Я так рада, так рада, что ты, наконец, согласилась у нас погостить. Сестра Мэри придет к завтраку. Она тоже безумно рада тебя видеть и требует, чтобы ты непременно, хоть один денек, погостила у нее тоже. Но это, конечно, между нами – она завела себе двух собак и совершенно от них одурела. Ну, понимаешь ли, совершенно и окончательно. Впрочем, ты сама увидишь. Но какая ты милочка, что приехала! Какая ты дуся!
Она сморщила носик и потерлась щекой о мою щеку. Совсем кошка.
– Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Вот здесь ты будешь спать, вот здесь – отдыхать, здесь письменный стол, радио, граммофон, тут лежат коньки, если случайно понадобятся. Окна выходят в сад. Тишина. Только я должна тебя предупредить, чтобы ты не закрывала дверь, потому что Франц любит иногда ночью приходить на эту кровать. Так что ты не пугайся, если ночью он прыгнет на тебя. А вот и Мэри!
Мэри, высокая, гладко причесанная, в строгом тайере, честно посмотрела мне прямо в глаза и, как писалось в старинных романах, «крепко, по-мужски пожала мне руку».
– Искренне рада! – сказала она глубоким контральто. – Три года не видались. Постарела ты, голубушка, изрядно.
– Мэри! – с негодованием остановила ее Оля. – Ну что ты говоришь! Наоборот, она такая дуся, она даже посвежела за эти годы.
Мэри сердито сдвинула брови:
– Прежде всего, почему я Мэри? Почему, когда мы одни, ты зовешь меня Марьей, а как здесь посторонние, я немедленно превращаюсь в Мэри? И потом – почему не сказать правду близкому человеку? Зачем уверять, что она посвежела? Ведь за глаза ты про нее этого не скажешь? Она чудная, прелестная, я ее обожаю, но лгать ей в глаза не намерена, потому что слишком ее уважаю. Смотри, – вдруг переменила она тон обличительный на испуганный. – Смотри, твой проклятый кот прыгнул на буфет, он разобьет чашечки!
– Никогда! – с гордостью сказала Оля. – Эти коты необычайно ловкие. Они часто ходят по столу среди хрусталя и никогда ничего не заденут. Это ведь совершенно особая порода.
– А голубой сервиз? – сказала Мэри. – А китайская ваза? А лампа, чудная фарфоровая лампа? А хрустальный бокал для цветов?
– Ну так что ж? – холодно отвечала Оля. – Они переколотили все хрупкое, теперь уж не страшно.
– Ага! – торжествовала Мэри. – Сама признаешь, что…
– Ну, однако, идем завтракать, – прервала ее Оля.
Толстые коты ходили между приборами, обнюхивали хлеб, тарелки.
– Милочки мои! – умилялась хозяйка. – Ну, разве не прелесть? Тютики мои чудесные!
А Мэри говорила мне вполголоса:
– Со мною она никогда так не нежничает, а ведь я ей родная сестра! А что бы она сказала, если бы я вот так влезла бы на стол, когда вы завтракаете, тыкалась бы носом в тарелки и возила бы хвостом по горчице?
– Ну как ты можешь себя сравнивать?..
– Конечно, могу. И это сравнение, конечно, не в пользу твоего паршивого кота. Я человек, царь природы.
– Ну перестань, пожалуйста!
Мэри сделала нетерпеливое движение, и вилка со звоном упала на пол. Коты вздрогнули, в одно мгновение спрыгнули на пол и, подталкивая друг друга, бросились вон из комнаты.
– Ах, какая ты неосторожная! Разве можно их так пугать!
– А ведь ты всегда уверяешь, что они чрезвычайно храбрые и бросаются на буйволов.
Оля покраснела.
– Знаешь, милочка, – обратилась она ко мне и этим подчеркивая, что совершенно не интересуется замечанием Мэри. – Знаешь, эти коты – удивительные охотники. Их в Сиаме дрессируют на слонов, на тигров. Недавно к нам в окно залетела птичка. И вот в одно мгновение Франц подпрыгнул и поймал ее в воздухе. И потом, как дикарь, плясал со своей добычей. Он держал ее высоко в передних лапах и плясал, плясал. Потом живо подбросил ее, подхватил и мгновенно сожрал всю целиком, с клювом, с перьями.
– Низость, – отрубила Мэри. – Гнусные инстинкты. Собака никогда…
Жизнь вошла в свою колею.
Уехала Мэри, взяв с меня слово погостить у нее.
Оли часто не было дома. Я оставалась одна в большой тихой квартире. Одна с двумя котами.
Один из них – тот, который плясал танец победителей с мертвой птичкой в лапах, – не обращал на меня ни малейшего внимания и даже подчеркивал, что я для него не существую. Он нарочно ложился на пороге, когда видел, что я иду из комнаты, шагал через меня, если ему так было удобнее пробраться в угол дивана. Когда я писала, он садился прямо на бумагу, причем, для пущего презрения, спиной ко мне. Сдвинуть его, тяжелого и толстого, было трудно, и я писала письма вокруг его хвоста.
Иногда неслышным диким прыжком он отделялся от пола и взлетал под самый потолок на кафельную печку и там, подняв хвост дугой, вертелся, как тигр на скале.
Но главное его занятие, наиболее выражающее презрение ко мне, заключалось именно в том, чтобы не давать мне проходу. Здесь он даже шел на известный риск, потому что сплошь и рядом впотьмах я наступала ему на лапу, и он с визгом бежал на меня жаловаться хозяйке. Но системы своей он не бросал. Может быть, надеялся, что, в конце концов, удастся свалить меня на пол?
Второй кот, Николай, он же Яков, вел себя иначе. Этот садился передо мной на стол и глазел на меня, как говорится, во все глаза. Глаза у него были огромные, бледно-голубые, с большими черными зрачками. Смотрели они неподвижно, не мигая, были почти белые, и оттого казалось, что смотрит кот в ужасе.
Так смотрел он на меня полчаса, час. И ничего ему не делалось. Спешить, очевидно, было некуда. Сидит и смотрит.
Как-то утром просыпаюсь оттого, что кто-то дотронулся до моих колен.
Кот! Кот Николай.
Он медленно, мягко переставляя лапы, насторожившись, словно прислушиваясь, шел к моему лицу. Я прищурила глаза. Он вытянул морду, подул мне носом на брови, на ресницы, на рот. Щекотно, смешно. Я открыла глаза. Он отодвинулся, прилег и зажмурился. Спит. Я тоже зажмурилась, будто сплю, и исподтишка через ресницы наблюдаю. Кот спит. Однако вижу – один глазок чуть-чуть поблескивает щелкой. Подлец подсматривает! Какое нечестное животное. Собака никогда бы… Положим, я сама тоже зажмурилась и подсматриваю. Но ведь я человек, царь природы, я произвожу наблюдения над животным. Одним словом, мало ли что.
Кот поднялся, подул мне прямо в нос, вытянул лапу и, втянув поглубже когти, вдруг потрепал меня по подбородку. Потрепал снисходительно, свысока и очень оскорбительно, как какой-нибудь старый жуир – понравившуюся ему горничную. Я открыла глаза.
– Сейчас же уходите отсюда вон, – громко приказала я. – Нахал!
Я произнесла эти слова совершенно спокойно, без всякой угрозы. Но эффект получился потрясающий. Кот выпучил глаза, вскинул лапы, мелькнул в воздухе вздернутый хвост, и все исчезло. Кот удрал.
Искали кота три дня, дали знать в полицию – кот исчез.
Хозяйка была в отчаянии. Я помалкивала.
На четвертый день, выходя из дому, увидела я своего оскорбителя. Он сидел на заборе, отделяющем наш садик от соседнего. Сидел спиной ко мне.
– Ага, – сказала я насмешливо. – Так вот вы где! Кот нервно обернулся, испуганно выкатил глаза, и тут произошло нечто позорное, нечто неслыханно позорное не только для сиамца, красы королевской гвардии, но и вообще для каждого существа котячьей породы. Кот свалился! Потерял равновесие и свалился по ту сторону забора. Треск сучьев, скрип досок. Все стихло.
Кот свалился!
Так кончился наш роман.
Вечером я уехала.







