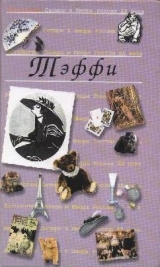
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Надежда Тэффи
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
И он смиренно ел вместе со слугами и, когда поел, встав, ушел в ту же ночь.
А дальше все пошло быстро, сжато, как послесловие. Филистимляне окружили израильтян, и бежали израильтяне, и падали, убитые, на горе Гелвуе.
И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили Ионафана и прочих сыновей его. И лучшие стрелки направили на Саула стрелы, и был он тяжело ранен.
Тогда сказал Саул оруженосцу своему:
– Обнажи меч свой и заколи меня им, чтобы не пришли враги заколоть меня и издеваться надо мною.
Но оруженосец не захотел. Страшно ему было поднять руку на царя своего. Тогда Саул пал на свой меч. Когда же оруженосец увидел это, то, думая, что Саул уже умер, сам тоже пал на свой меч.
Но не умер Саул. Один из воинов его стана взбежал на гору Гелвуйскую и увидел, как пал Саул на меч свой, и уже колесницы и всадники вражеские поднимались к нему. Тогда, оглянувшись, увидел Саул этого воина израильского и позвал его.
– Вот я, – сказал воин.
И просил Саул:
– Умертви меня, ибо смертельные страдания постигли меня, а душа все еще во мне.
И воин пожалел его. В последнюю минуту жизни своей встретил Саул сострадание, то, которого так искал. Сострадание, прекратившее наконец неизбывные муки его. Воин пожалел его и добил. Потом снял с Саула царский венец и запястье и отнес их Давиду.
– Я принес их государю моему, – сказал он.
И пеплом была посыпана глава его, и одежда на нем разодрана. Он рассказал Давиду, как нашел он Саула, павшего на меч свой, как исполнил его просьбу и добил его.
Услышав это, разодрал Давид одежды на себе, а бывшие с ним люди плакали и постились до вечера.
И спросил Давид воина, принесшего ему весть о гибели Сауловой:
– Как же ты не устрашился поднять руку на помазанника Господня?
И велел одному из служителей:
– Пойди и убей его.
И тот убил.
А Давид оплакал Саула и Ионафана, сына его, песнью плача: «Горы Гелвуйские! Да не будет на вас ни росы, ни дождя, ни полей плодоносных, ибо там опозорен щит доблестных, щит Саула. Дочери израильские! Плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с драгоценностями… Скорблю о тебе, брат мой Ионафан! Любовь твоя ко мне была превыше любви женской».
До сих пор бывало так, что торжествовали враги над телом побежденного, издевались, терзали его, плясали над ним и попирали ногами. И вот Давид, как некий предвозвестник нового светлого мира, оплакивает гибель врага.
И если бы знал при жизни своей Саул, что плачем Давида закончится его путь земной, может быть, было бы это наигорчайшим унижением для него. Не хотел он от Давида ни любви, ни слез.
А филистимляне, найдя Саула мертвым, отрубили ему голову и, сняв с него доспехи, прибили его тело на позор к стенам своего города.
МОИ СОВРЕМЕННИКИ
Ее тонкий, нежный и острый, ее прелестный талант воспринимается радостно и легко, без критической указки, без ярлыков и меток… Воспринимается непринужденно, как должное и необходимое, как одно из скромных чудес природы.
Александр Куприн
Аркадий Аверченко
Началось это приблизительно в 1909 году. Точно не помню. Я годы различаю не по номерам (год номер тысяча девятьсот такой-то), а по событиям.
Время тогда было строгое. Смех не имел права на существование. Допускался только так называемый «смех сквозь незримые миру слезы», пронизанный гражданской скорбью и тоской о несовершенстве человечества.
Как раздражали эти «незримые слезы» Достоевского!
«Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, чем про эти «незримые слезы».
А ведь как ценил Достоевский Гоголя! Как жил Гоголь в его подсознательном! Не, знаю, заметил ли кто-нибудь, что мать Раскольникова звали Пульхерия Ивановна и что в письме своем к сыну упоминала она о купце Афанасии Ивановиче, с которым вела дела. Ведь эти два имени-отчества теперь уже стали нарицательными, дать их Достоевский нарочно никак не мог. Они выскочили оба вместе из его подсознательного, из той потайной душевной кельи, где любовно запечатлелись.
А вот этих «незримых слез» он вынести не мог. Но в русской литературе требование на них укоренилось надолго.
Да, ирония, сатира на нравы – это извольте, но свободный смех, о котором Спиноза сказал, что он «есть радость, а потому сам по себе благо», – это было неприемлемо. Очаровательные юмористические рассказы Антоши Чехонте были прощены автору, только когда он прославился художественной грустью своего таланта.
Где-то на задворках чуть дышали «Стрекоза» и «Осколки». Грубый лейкинский юмор мало кого веселил. В газетах на последней странице уныло хихикал очередной анекдот и острые намеки на «отцов города питающихся от общественного пирога». При этом были и картинки. У действующих лиц изо рта вылезал пузырь, а на пузыре выписывались слова, которые это лицо произносит. Юмористические журналы продергивали тещу, эту неистощимую тему, свободную от цензурного карандаша.
Не могу указать точно, когда это началось, но в то время, о котором сейчас идет речь, газеты по понедельникам не выходили. И вот один предприимчивый журналист – Василевский He-Буква (этот странный псевдоним произошел оттого, что брат журналиста писал под именем «Василевский Буква») – задумал выпускать по понедельникам литературную газету. Газета имела успех. Я тоже принимала в ней участие, помещая мои первые рассказы. Тогда впервые появились остроумные фельетоны, подписанные именем Аверченко.
Мы спрашивали у He-Буквы, кто это такой.
– А это один остряк из провинции. Он даже собирается сюда приехать.
И вот как-то горничная докладывает:
– Пришел Стрекоза.
Стрекоза оказался брюнетом небольшого роста. Сказал, что ему в наследство досталась «Стрекоза», которую он хочет усовершенствовать, сделать литературным журналом, интересным и популярным, и просит меня сотрудничать.
Я наши юмористические журналы не любила и отвечала ни то ни се:
– Мерси. С удовольствием, хотя, в общем, вряд ли смогу и, должно быть, сотрудничать не буду.
Так на этом и порешили.
Недели через две опять горничная докладывает:
– Стрекоза пришел.
На этот раз Стрекозой оказался высокий блондин. Но я, зная свою рассеянность и плохую память на лица, ничуть не удивилась и очень светским тоном сказала:
– Очень приятно, мы уж с вами говорили насчет вашего журнала.
– Когда? – удивился он.
– Да недели две тому назад. Ведь вы же у меня были.
– Нет, это был Корнфельд.
– Неужели? А я думала, что это тот же самый.
– Вы, значит, находите, что мы очень похожи?
– В том-то и дело, что нет, но раз мне сказали, что вы тоже Стрекоза, то я и решила, что я просто не разглядела. Значит, вы не Корнфельд?
– Нет, я Аверченко. Я буду редактором, и журнал будет называться «Сатирикон».
Затем последовало изложение всех тех необычайных перспектив, о которых мне уже говорил Корнфельд.
Так произошло знакомство с Аверченко.
Встречались мы не часто. Я на редакционные собрания не ходила, потому что уже тогда не любила никакую редакционную кухню. Что они там стряпали, о чем толковали, что именно выбирали и что браковали, меня не интересовало.
Сам Аверченко производил очень приятное впечатление. В начале своей петербургской карьеры был он немножко провинциален – завивался барашком. Как все настоящие остряки, был всегда серьезен. Говорил особенно, как-то скандируя слова, будто кого-то передразнивал. Вокруг него скоро образовалась целая свита. Все подделывались под его манеру говорить и все, не переставая, острили.
Приехал Аверченко из какого-то захолустья Харьковской губернии, если я не путаю, со станции Алмазной, где служил в конторе каких-то рудников помощником бухгалтера. Еще там затеял он какой-то юмористический журнальчик и стал посылать свои рассказы в «Понедельник». И наконец, решил попытать счастья в Петербурге. Решил очень удачно. Через два-три месяца по приезде был уже редактором им же придуманного «Сатирикона», привлек хороших сотрудников. Иллюстраторами были только что окончивший академию Саша Яковлев, Ремизов, Радаков, Анненков, изящная Мисс. Журнал сразу обратил на себя внимание. Впоследствии его статьи цитировались даже в Государственной Думе.
Года через два встретился он как-то случайно в поезде со своим бывшим начальником, бухгалтером. Тот был от литературы далек и очень укорял Аверченко за легкомысленный уход со службы:
– Вы могли бы получать уже тысячи полторы в год, а теперь воображаю, на каких грошах вы сидите.
– Нет, все-таки больше, – скромно отвечал Аверченко.
– Ну, неужто до двух тысяч выгоняете? Быть не может! Я сам зарабатываю не больше.
– Нет, я около двух тысяч, только в месяц, а не в год.
Бухгалтер только махнул рукой. Он, конечно, не поверил. Ну да Аверченко известный шутник.
* * *
Аверченко любил свою работу и любил петербургскую угарную жизнь, ресторан «Вена», веселые компании, интересных актрис. В каждом большом ресторане на стене около телефонного аппарата можно было увидеть нацарапанный номер его телефона. Это записывали на всякий случаи его друзья, которым часто приходило в голову вызвать его, если подбиралась подходящая компания.
Аверченко был молодой красивый и приятный и, конечно, немало времени отдавал жизни сердца. Он долго дружил с милой актрисой Z, но, конечно, не был суров и по отношению к другим поклонницам своего таланта. Среди них оказалась очень видная представительница петербургского демимонда, прозванная «Дочерью фараона», потому что отец ее был городовым, а у нас тогда городовые носили кличку фараонов. Эта «Дочь фараона» часто бывала за границей, много читала и выровнялась в элегантную светскую даму.
Как-то Аверченко сговорился с ней позавтракать. Сказал своей актрисе, что у него очень важный деловой завтрак. И вот как раз, когда он под ручку с «Дочерью фараона» входил в ресторан, мимо проезжала на извозчике та самая актриса и увидела их.
– Вы говорили, что у вас деловое свидание? Так вот, я видела, с каким деловым человеком вы пошли в ресторан! – укоряла его Z.
– Видели? – невинно спросил Аверченко. – Чего же тут удивительного. Эта дама и есть тот деловой человек, с которым мне очень важно было поговорить. Она ведь… очень известная… это самое… она антрепренерша нескольких театров на юге… то есть в Харькове, в Ростове… и вообще. Уговорил ее поставить мои пьесы.
– Антрепренерша? – оживилась актриса. – Ради бога, познакомьте меня с ней. Я мечтаю поиграть один сезон в Харькове.
– Ну конечно, с удовольствием. Только она сегодня утром уже уехала.
Актриса очень жалела. Месяца через три были именины Аверченко, которые он всегда многолюдно праздновал в ресторане «Вена».
Дирекция «Вены» всегда подносила ему огромный торт с надписью шоколадными буквами «Аркадию Сатириконскому». Среди гостей оказалась и «Дочь фараона». Она поднесла имениннику золотой портсигар с бриллиантовой мухой – ну как же можно было не пригласить такую «поклонницу таланта».
Но тут произошел неожиданный пассаж. Как только вошла в кабинет актриса, так тотчас же и узнала знаменитую антрепренершу всех южных театров. Сейчас же подсела к ней и начала очаровывать. Как выкрутился из этой истории Аверченко, он мне не рассказывал, но, очевидно, «выврался» благополучно, или выручил кто-нибудь из друзей.
Аверченко был очень спокойный человек. Его трудно было чем-нибудь расстроить.
– Я кисель. Никакой бритвой меня не разрежешь.
* * *
«Сатирикон» раскрепостил русский юмор. Снял с него оковы незримых слез. Россия начала смеяться. Стали устраивать вечера юмора: «НАШИ ЮМОРИСТЫ: ГОГОЛЬ, ЧЕХОВ, АВЕРЧЕНКО, ОСИП ДЫМОВ, О.Л.Д'ОР, ТЭФФИ…»
Стали печатать книги юмористических рассказов. Спрос был большой, предложений мало. Оказалось, что во всей огромной России не нашлось ни одного остроумного незнакомца. Кроме маленькой группы «Сатирикона». Постоянное ядро «Сатирикона» составляли талантливый поэт-сатирик Саша Черный, Осип Дымов, Сергей Горный, Аркадий Бухов. Очень редко присылал кто-нибудь случайную вещь, которую можно было напечатать. Я была скорее гастролершей, чем постоянной сотрудницей. И очень скоро бросила «торговать смехом». Я очень люблю писателей с юмором, но специалистов-юмористов, старающихся непременно смешить, совсем не люблю.
Помню одно газетное начинание, само по себе анекдотическое. Редактор-издатель «Биржевых ведомостей» покорный духу времени, решил оживить свою газету юмором.
– Я сам напишу.
И – напечатал внизу перед покойниками:
МАЛЕНЬКАЯ УМОРИСТИКА.
– Где вы берете ваших, папирос?
– Это вы берете. Я покупаю.
– Вот и все.
Сотрудники очень повеселились.
* * *
Все воспоминания, связанные с Аверченко, всегда веселые и забавные.
Одна молодая дама рассказывала, как он не успел проводить ее из театра и представил ей почтенного господина, инспектора какого-то училища:
– Вот это мой друг Алексеев, он вас проводит.
Инспектор всю дорогу говорил ей самые приятные вещи, а когда уже подъезжали к дому, вдруг схватил ее за плечи и поцеловал. Она успела только наскоро шлепнуть его по лицу, распахнула дверцу автомобиля и выскочила. Виновный прислал ей на другой день целую корзину мимоз с запиской «От виновного и не заслуживающего снисхождения».
Дама, тем не менее, очень обиделась и сразу же позвонила Аверченко:
– Как вы смели представить мне такого хама!
– А что?
– Да он меня в автомобиле поцеловал!
– Да неужели? – ахал Аверченко. – Быть не может! Ну как мог я подумать… что он такой молодчина. Вот молодчина.
* * *
«Милостивый государь господин Аверченко. Обращаюсь к Вам как ученик жизни к учителю жизни. Помогите мне разобраться в сложном психическом процессе души моей жены. Положение безвыходное. Вы один как учитель жизни можете направить и спасти. С вашего разрешения позвоню Вам сегодня по телефону. Благодарный заранее.
А.Б
P.S. Мне сорок шесть лет, но положение требует немедленного облегчения.
А.Б.»
– Вот, – сказал Аверченко, дочитав письмо. – Все, наверное, воображают, что только к Толстому да к Достоевскому шли читатели обнажать душу и спрашивать указаний. Вот это уже не первое письмо в таком роде.
– Что же вы – примете этого А.Б.?
– Придется принять. Посоветую ему что-нибудь.
– Что же, например?
– А это зависит от случая. Может быть, просто – дать денег на «Сатирикон».
– Все-таки следовало бы отнестись серьезнее к этому делу, – сказал один из тяжелодумов, которые водятся даже в редакциях юмористических журналов. – Человек идет к вам душу выворачивать, так высмеивать его грех.
– С чего вы взяли, что я буду его высмеивать? – с достоинством ответил Аверченко. – Я намерен именно отнестись вполне серьезно.
– Вот это было бы интересно послушать, – сказала я.
– Отлично. Приходите в редакцию к четырем часам. Будете присутствовать при разговоре и потом можете засвидетельствовать мое серьезное отношение к делу.
– Да ведь он, пожалуй, не согласится открывать при мне свою душу.
– А уж это я берусь уладить.
На другой день ровно в четыре часа в редакторский кабинет всунул голову рассыльный и доложил:
– Господин пришел.
Я сидела в углу за столом и была «погружена в чтение рукописей». Аверченко сидел в кресле у другого стола.
– Пусть войдет.
Вошел пожилой человек с рыжеватой бородкой, в руках форменная фуражка с кантиками – кажется, акцизного ведомства.
– Я вам писал, – начал он плаксивым тоном.
– Да-да, – отвечал Аверченко. – Я готов вас выслушать.
– Но я… я хочу наедине.
– Можете не стесняться, – перебил его Аверченко. – Эта дама – моя секретарша.
– Я не могу, у меня дело личное.
– Ах, чудак вы эдакий! Да ведь она глухонемая. Разве вы не видите? Ну-с, приступим к делу. На что вы жалуетесь? – спросил он тоном врача по внутренним болезням.
– Я жалуюсь, увы, на жену! Это остро психологический случай. Женат я два года на младшей дочери протоиерея. И вот особа эта, забыв сан своего отца, ведет себя крайне легкомысленно. С утра поет, приплясывает и даже, видите ли, свистит.
– С утра? – мрачно сдвинул брови Аверченко.
– С утра. С утра до вечера. Бегает в кинематограф, в оперетку, и все с мальчишками, все с мальчишками. Треплет, одним словом, мое имя.
– А как ваше имя? – деловито осведомился Аверченко.
– Балюстрадов.
– Гм… Действительно, это не годится его трепать.
– Я человек занятой, у меня служба. Я просил племянника, студента, присмотреть за ней. А она его потащила на каток, да оба и пропали до вечера! Укажите мне, где здесь справедливость и где здесь выход?
– Так вы говорите – потащила племянника на каток? – переспросил Аверченко и покачал головой. – Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Куда мы идем! Ведь эдак недолго расшатать окончательно семейные устои, на которых зиждется государство. Это все ужасно. А скажите, она хорошенькая, ваша жена? Или, чтоб вам было понятнее, – обладает ли она внешней красивостью?
– Д-да! – горестно выдавил из себя чиновник. – Этим делом она вполне обладает.
– Брюнетка? – очень строго спросил Аверченко. – Д-Да!
– Скольких лет?
– Двадцати двух.
– Это уж форменное безобразие! Ну и что же вы намерены делать?
– Вся надежда на вас, господин Аверченко. Вы учитель жизни, вы читаете в душах, вы все можете.
– Пожалуй, я действительно кое-что смог бы. Вот что, дорогой мой, пришлите-ка вы ее ко мне. Я ее хорошенько проберу. В самом деле – что же это такое! Куда мы идем! Какой пример! Действительно, тяжелая картина! Непременно пришлите ее ко мне. Может быть, еще не поздно.
Балюстрадов восторженно привскочил.
– Я знал, что в вас я не ошибусь! – воскликнул он. – Завтра же виновница торжества – впрочем, какое уж тут торжество! – завтра же она будет у вас. Я ее заставлю. Спасибо, спасибо, вечное спасибо! Низко кланяюсь. Объясните вашей глухонемой, чтоб она никому ничего.
Через несколько дней встречаю Аверченко:
– Ну что, прислал вам этот чудак свою жену?
Он сначала притворился, будто не понимает, о ком я говорю. Потом ответил неохотно:
– Да, да. Вполне порядочная женщина. И очень серьезная. Мне удалось на нее повлиять, и она обещала, что больше с мальчишками на каток бегать не станет.
– Чудеса! Значит, муж ее оклеветал?
– То есть это все было, но теперь она изменилась.
– Муж доволен?
– Гм… он, чудак, почему-то уверен, что она по-прежнему не сидит дома. Вообще, это очень тяжелый случай и придется еще немало поработать.
– Хорошенькая?
– Недурна. И главное, вполне почтенная женщина. Очень такая любящая, привязчивая, постоянная. Может каждый день за завтраком есть баранью котлетку. Нет, вы не смейтесь, это тоже своего рода признак устойчивой натуры. Вообще достойна всякого уважения.
Недели через полторы, как-то в один из вторников – день, когда я принимала своих друзей, – явилась ко мне какая-то робкая, но пламенная «почитательница таланта».
Это была маленькая франтиха, довольно хорошенькая, но с чересчур большими густо-розовыми щеками.
Она поднесла мне букет фиалок, пролепетала что-то лестное, потом долго сидела молча и только облизывалась, как кот. В руках она держала большую горностаевую муфту, из которой все время что-то сыпалось – флакончики, коробочки, платок, кошелек, карандашик. И она каждый раз всплескивала руками и бросалась подбирать. Вообще дамочка, видимо, нервничала. Смотрела на часы, вертелась, отвечала невпопад.
«Чего она засела?» – удивлялась я. Никого из моих гостей она не знала, в общем разговоре участия принять не могла, а меж тем сидит и сидит. Что бы это могло значить?
Гости стали расходиться. Остались двое-трое близких друзей. Наконец прощаются и они. А та все сидит. Как ее выкурить?
Я вышла в переднюю проводить последних гостей.
– Что это за особа? – спрашивают они.
– Не знаю. Какая-то читательница.
– Чего ж она не уходит?
– Не знаю.
– Да гоните ее вон!
– Да как?
– А вот как, – придумала моя приятельница. – Иди в гостиную, а я тебя позову.
Я пошла в гостиную, и тотчас моя приятельница появилась в дверях и громко крикнула:
– Так переодевайся же скорее, мы будем ждать тебя у Контана. Пожалуйста, поторопись.
– Хорошо, хорошо, – ответила я.
Тогда, наконец, поднялась моя бедная упорная гостья.
– До свиданья, – растерянно пролепетала она.
– Ах, я очень жалею, что должна торопиться, – светским тоном ответила я. – Надеюсь, когда-нибудь вы еще доставите мне удовольствие, мадам… мадам…
– Балюстрадова, – подсказала дама и облизнулась как кот.
И в тот же миг влетел в комнату запыхавшийся журналист «Петербургской газеты»:
– Ради бога, умоляю! Всего два слова для нашей газеты. Я был уже два раза и все не заставал! Клянусь, только два слова.
Пока он суетился, Балюстрадова успела уйти. Беседу с журналистом прервала горничная, передав мне огромную коробку и письмо, принесенные посыльным.
И то и другое оказалось от Аверченко. В коробке – ливонские вишни от Иванова, в письме – загадка: «В отчаянье, что так и не успел забежать к вам сегодня – задержали в типографии».
Это вступление очень удивило меня. Аверченко никогда не бывал на этаких вторниках и я совсем его и не ждала.
Читаю дальше:
«Целую ваши ручки и по-товарищески очень прошу передать тем, кто у вас сидит, что я целую их ручки и умоляю их сказать мне поскорее по телефону, как они к этому отнеслись».
«Эге! – думаю. – Это, значит, было условленное свидание с обращенной на путь истины Балюстрадовой. Ну так подожди же».
– Это письмо от Аверченко, – сказала я репортеру. – И, признаюсь, очень странное письмо. Наверное, оно и вас удивит. Аверченко просит меня передать вам, что он целует ваши ручки и умоляет, чтобы вы поскорее сказали ему по телефону, как вы к этому относитесь.
– Это… это… – растерялся репортер. – Это форменное декадентство. Боже мой! Боже мой! Что же мне теперь делать?
– А уж это ваше дело, – холодно сказала я.
И с чувством исполненного долга принялась за конфеты. Ведь он же не назвал Балюстрадову, а написал: «тем, кто у вас сидит».
А сидел репортер.
Не знаю, чем это дело кончилось, но до сих пор считаю, что поступила правильно и по-товарищески.







