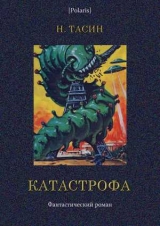
Текст книги "Катастрофа. Том I"
Автор книги: Н. Тасин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
XIII
Ночью опять имел место жестокий налет зоотавров, от которого особенно сильно пострадал левый берег Сены и который стоил жизни по меньшей мере шести тысячам человек.
Кабинет министров и подземная комиссия работали, под грохот рушившихся зданий, почти всю ночь напролет. Спешно был напечатан в государственной типографии, и к семи часам утра уже расклеен, декрет о трудовой мобилизации.
В первую очередь обязаны были явиться все безработные, люди без определенных занятий, рабочие предприятий, вырабатывающих предметы роскоши, служащие и приказчики модных магазинов, театров, цирков, синематографов, кабаре, дансингов, кафе-шантанов и других увеселительных заведений, а также рантье, банкиры, артисты, поэты, музыканты, художники. Изъяты были от трудовой повинности только рабочие и служащие предприятий, вырабатывающих предметы первой необходимости. Были мобилизованы для работ даже солдаты и офицеры, причем только десятая часть парижского гарнизона была оставлена для поддержания порядка в столице.
Все подлежащие трудовой повинности обязаны были явиться в тот же день, не позже полудня, в соответствующие мэрии, где им выдавали нужные инструменты и рабочие блузы, если у них не было собственных.
Не явившиеся к сроку карались конфискацией всего имущества и заключением в тюрьму на все время продолжения работ по постройке подземного города.
Почти одновременно был расклеен по городу другой декрет, в силу которого все частные капиталы облагались прогрессивным налогом в размере от 30 до 80 процентов.
Оба эти декрета вызвали в городе огромную сенсацию. Возбужденные толпы народа собирались у стен и столбов, на которых они были наклеены, и горячо обсуждали их содержание.
Блузники ликовали.
– Наконец-то! – говорили они. – Зоотавры ввели всеобщее равенство. Давно пора!
Группа анархистов попыталась было использовать благоприятный момент и обращалась к толпе с зажигательными речами.
– Товарищи рабочие! – кричал один из них, взобравшись на тумбу и отчаянно жестикулируя. – Власть дезорганизована, буржуазия растерялась и готова сдать свои позиции. Такой момент вряд ли когда-либо повторится. Используем же его, товарищи рабочие! Сметем с лица земли последние остатки буржуазного владычества и на развалинах его водрузим наш стяг, стяг действительной свободы, равенства и братства! Нашими мозолистыми руками мы построим баррикады и дадим решительный бой нашим вековым угнетателям…
Увы! Эти речи не находили никакого отклика в сердцах толпы, и мозолистые руки продолжали спокойно оставаться в карманах брюк.
– Какие там баррикады! – благодушно усмехались ра-бочия. – Все равно зоотавры их разметают. А что касается развалин, то их, слава тебе Господи, немало теперь в Париже: иди и водружай себе на здоровье какие хочешь стяги.
Если декреты вызвали ликование в бедняках, то господа в рединготах и лайковых перчатках хмурились и ворчали.
– Это что же такое! Это уж хуже всякого социализма! – говорили они. – Только бунтовщикам да всяким агитаторам на руку!
На собрании, в спешном порядке созванном союзом «Друзей порядка», в который входили почти исключительно фабриканты, банкиры и крупные рантье, возбуждение умов достигло крайнего предела.
– Это возмутительно! – задыхаясь от гнева, кричал знаменитый «стальной король», Адольф Прюно, маленький толстый человечек с апоплексической шеей и выпуклыми рачьими глазами, испещренными сетью красных жилок. – Мы должны протестовать со всей энергией. Пусть там не забывают, что на нас держится вся промышленность, вся экономическая жизнь страны. Сегодня у меня отбирают 80 сантимов с каждого франка, а завтра, чего доброго, и остальное заберут. Вдобавок, многие из членов нашего Союза должны одеть блузу и идти копать землю рядом с какими-нибудь золоторотцами…
После долгих дебатов выбрана была делегация, которой было поручено сегодня же добиться свидания с президентом Стефеном и вручить ему обстоятельно мотивированный протест союза «Друзей порядка».
Стефен принял делегацию довольно сурово и от чтения протеста отказался.
– Мне некогда! – заявил он. – У меня каждая минута на счету. Говорите, в чем дело.
– Но, господин президент…
– Никаких «но»! Вы пришли хлопотать об отмене или смягчении опубликованных сегодня декретов? Да? В таком случае возвращайтесь к тем, которые вас послали, и скажите им от моего имени, что декреты останутся во всей своей силе и будут проводиться самым неуклонным образом. Больше скажу: очень возможно, что не сегодня-завтра мы объявим все капиталы, вплоть до последнего сантима, национальным достоянием. Тем хуже для вас и ваших друзей, если вы даже в этот трагический момент не можете возвыситься над узким, чисто шкурным эгоизмом!
– Но помилуйте, господин президент… Ведь эти декреты…
– Довольно! – резко перебил Стефен. – Я только считаю нужным предупредить вас, что за малейшее неподчинение или сокрытие истинных размеров капитала виновные будут заключены в тюрьму и с ними будут обращаться хуже, чем с ворами и убийцами. Об этом уж я позабочусь. Прощайте!
И он повернулся и вышел.
Уже с раннего утра мэрии были осаждены густыми толпами народа. Тысячи людей спешили ответить на призыв о трудовой мобилизации.
Преобладали рабочие, солдаты, мелкие ремесленники. У большинства вид был подавленный; но немало было и таких, которые смеялись, обменивались остротами.
– Эвона сколько народу валит! Этак мы, чего доброго, и до Америки докопаемся!
– Мы тута, а они там у себя в Нью-Йорке будут копать, – Бог даст, и встретимся!
– То-то на кротов страха нагоним!
– Дружбу с ними заведем: сами в кротов обратимся.
Тут же, в толпе, хмурые и пришибленные, стояли в ожидании очереди мобилизованные рантье, фабриканты, банкиры. Простой люд добродушно трунил над ними.
– Что, господа? И вас в работу запрягают? Ничего, это полезно.
– Вроде гимнастики!
– Для аппетита!
– Жира немного спустите, а то, того и гляди, кондрашка хватит.
– В Америке, вон, говорят, миллионеры черной работой заниматься стали: дрова колют, камни обтесывают, землю копают. Апоплексии боятся!
Какой-то рабочий, худой, изможденный, со впалой грудью и лихорадочно сверкающими на бескровном лице глазами, стал злобно ругать «буржуев».
– Ничего! – говорил он вперемежку с тяжелым удушливым кашлем. – Пускай поживут немного по-нашему! Довольно они из нас кровь пили!
– Оставь! – вмешался другой рабочий. – Чего уж там! Теперь мы все уравнялись. Им, чай, тоже не сладко; еще, пожалуй, хуже, чем нам. Нелегко после пиров да балов за лопату взяться. Чай, и тебе с непривычки трудно пришлось бы, если бы тебя вдруг заставили рябчиков жареных есть да шампанским запивать. Тоже, брат, нелегкая жизнь!
Несмотря на то, что декрет о трудовой повинности касался только мужчин до 55-летнего возраста, притащились и некоторые дряхлые старики.
– Что, дедушка? – обращались к тому или иному из них молодые рабочие. – Тоже на зоотавров войной пошел?
– Да уж как-нибудь… Дело святое, Божие! – отвечали спрашиваемые. – Не все же молодым. Все равно скоро в могилу, – ну, вот, мы сами себе ее и выкопаем, хе-хе-хе…
В толпе обращали на себя внимания некоторые хорошо известные Парижу писатели, художники, артисты. Общее любопытство возбуждал чрезвычайно популярный в массе артист Comedie Frangaise, знаменитый комик Леганьер. Высокий, широкоплечий, с добродушным, бритым, чрезвычайно подвижным лицом, он переходил от группы к группе, как старый знакомый, крепко пожимал рабочим руки, вел с ними веселую беседу, изображал в лицах комические сценки, сыпал цитатами из своих ролей, строил уморительные физиономии.
– Первым делом, – говорил он, – мы там, под землей, театр соорудим. Чтоб веселее работалось. А то посмотрите на этого вон господина, – указывал он на стоявшего поблизости толстяка с постной физиономией. – Он точно на своих собственных похоронах присутствует.
И Леганьер уморительно, вызывая улыбки на самых хмурых лицах, передразнил мрачного господина.
Народный поэт Делянкр, хорошо известный во всех кабачках Монмартра и Бастилии, напялив на себя синюю рабочую блузу и взобравшись на фонарный столб, декламировал свою специально сочиненную на злобу дня поэму, которую он называл «героической» и в которой главными действующими лицами были зоотавры.
О зоотаврах же распевал только что сочиненные им комические куплеты не менее популярный в рабочих кварталах певец Барро, маленький человечек с огромной шевелюрой и с охрипшим от постоянного пьянства голосом. За каждым куплетом следовал припев, на мотив распевавшейся тогда в Париже гривуазной песенки о злоключениях молоденькой швейки Мариэтт.
Барро из сил выбивался, чтобы заставить толпу подхватывать припев.
– Ну же, друзья мои! – кричал он. – Нечего нос вешать! Раз, два, три!
И скоро сотни голосов, дружно, по команде маленького Барро, стали распевать веселый, подмывающий припев:
Прилетели зоотавры
С Марса!
Мы отправим зоотавров
К черту!
Подростки, дети улицы, шныряли среди взрослых, веселые, возбужденные, необыкновенно счастливые, как если б на их долю наконец-то выпал давно жданный праздник. С поднятыми вверх носами, они как бы принюхивались к чему-то, торопливо перебегали от одной группы к другой, словно боясь пропустить что-то чрезвычайно важное и интересное. Иногда они вдруг, без всякой видимой причины, начинали кувыркаться, издавали, заложив два пальца в рот, резкий, пронзительный свист и, вообще, шалели от беспричинного, беспредметного восторга. Многие из них, чтобы производить возможно больше шума, предусмотрительно запаслись свистульками, игрушечными трубами, флейтами, гармониками.
Везде, пред всеми мэриями, было людно, шумно, точно на ярмарке. Недоставало только балаганов, каруселей, тиров, лотков с дешевыми сладостями да уличных оркестров. Толпа как бы совершенно забыла о надвинувшейся на нее беде и беззаботно, по команде охрипшего Барро, распева-вала ставший уже достоянием улицы припев:
Прилетели зоотавры
С Марса!
Мы отправим зоотавров
К черту!
ХIV.
Землекопные работы шли полным ходом. Огромная армия рабочих, насчитывавшая до трехсот тысяч человек, разбитая на десятки отрядов, с восхода до захода солнца копошилась в разных пунктах Парижа, под землей и на ее поверхности.
Париж был обращен в гигантский трудовой лагерь.
В десятках пунктов, наряду с нагроможденными развалинами зданий, возвышались огромные элеваторы, груды вывороченных человеческими руками камней, и зияли, точно раскрытые зевы, ямы, в которых кипела лихорадочная работа.
Париж с каждым днем делался все более уродливым, безобразным, как если б он стал жертвой чудовищного землетрясения, которое выворотило и выбросило наружу его внутренности. Весь покрытый ранами и безобразными наростами, лежал он больной, умирающий, но все еще не сдающийся, с упорством отчаяния цепляющийся за жизнь. Как раненый, истекающий кровью зверь, он заползал в глубокую нору.
Чудовищные машины для выемки земли работали без устали. Подобно гигантским кротам, они рылись в недрах земли, упорно пробиваясь вперед, расчищая себе путь цепкими стальными когтями. Вырытая земля в тысячах вагонов, приводимых в движение электрической тягой, выбрасывалась на поверхность и по сотням специально проложенных рельсовых путей отвозилась за город, где все выше и выше росли земляные холмы, мало-помалу превращаясь в сплошные валы и целые горы.
С восхода до заката солнца на обезображенной груди Парижа копошились человеческие муравейники. Черные, зияющие ямы то поглощали тысячи работников, то снова выбрасывали их на поверхность. Оглушительно свистали и ревели тысячи машин, локомотивов, элеваторов. Как бранный клич неунывающего, несмотря ни на что, рода человеческого, дерзким вызовом поднималась великая симфония труда к небу, гордая, уверенная в победе, насмехаясь над всеми враждебными силами. Люди часто присоединяли к этому гимну труда свои слабые голоса, которые заглушались мощным ревом стальных чудовищ и поглощались им, как жалкий ручеек поглощается бурными волнами моря. Люди пели о величии труда, о всемогуществе человеческого гения, который столько раз торжествовал и еще не раз будет торжествовать над всеми препятствиями, над всеми стоящими на его пути преградами. Они пели, и глубокая неугасимая вера в будущее ярким пламенем сверкала в их глазах.
Но пели люди только на поверхности земли, на израненной груди своего родного Парижа; внизу же, на глубине сотен метров, они работали в угрюмом молчании, точно придавленные обступавшими их со всех сторон черно-бурыми, таинственными сводами и стенами. За этими безмолвными громадами земли им чудились притаившиеся враждебные призраки, и суеверный страх гасил смех и песни. Никогда еще люди не дерзали проникнуть так глубоко в недра земли, и казалось, что эта дерзкая попытка не останется безнаказанной. Люди работали среди гробовой тишины, хмурые, придавленные, и когда они снова выбирались на поверхность земли, облегченно вздыхали, как если б они вышли из могил на свет Божий.
Кресби Гаррисон командовал этой громадной армией труда с энергией и неутомимостью, которые скоро стяжали ему горячие симпатии всего Парижа.
Он казался вездесущим. На своем аэромоторе-лилипу-те, едва поднимаясь над землей на несколько метров, носился он с одного пункта работ на другой, отдавал приказания, подбадривал рабочих, пробирал недостаточно расторопных помощников своих, объяснял, показывал, набрасывал чертежи. В рабочей блузе и высоких охотничьих сапогах, с посеревшим от земляной пыли лицом, он то и дело спускался под землю, и там, где он появлялся, светлели лица, выпрямлялись спины, движения становились свободнее и смелее смотрели глаза.
Стефен, который за последний месяц потерял около тридцати кило, тоже целые почти дни проводил на работах. Его уже не звали зоотавром, но рабочие всегда встречали его любовно, и лица при виде его светились радостной улыбкой.
– Ну что? Как дела? – обращался он, как к старым знакомым, к тому или иному рабочему, без всякой рисовки и тени покровительственности пожимая серые от пыли, мозолистые руки.
– Ничего, господин президент, подвигаемся помаленьку, – отвечали ему. – Вы только почаще нас навещайте, тогда дело еще лучше пойдет.
– И рад бы, друзья мои, да не могу: дела много. Всякие там заседания, комитеты. Без этого тоже нельзя. Одних рабочих рук да машин недостаточно: надо и денег добывать и продовольствие. Ну, уж как-нибудь: кто под землей, а кто на земле, – авось что-нибудь и выйдет.
Дела у Стефена и его правительства действительно было по горло. Работы поглощали один миллиард за другим, которые точно в прорву падали. Богачи поднимались на всевозможные хитрости, чтобы платить возможно меньше налогов. Многие из них были изобличены и посажены в тюрьму, некоторые были, по пути в тюрьму, до полусмерти избиты толпой; но заметного улучшения это в дело не вносило.
Союз «Друзей порядка» вел исподволь злобную кампанию против правительства и особенно против Стефена. Доставалось и Кресби Гаррисону. Продажная печать, находившаяся в услужении названного союза, изо дня в день обливала их потоками грязной клеветы, приписывала им корыстные побуждения и довольно прозрачно намекала на таинственное исчезновение значительной части сумм, ассигнованных на сооружение подземного города.
Беднота не верила этим клеветническим толкам и смеялась над ними: Стефен и Гаррисон пользовались среди низов слишком большой популярностью. Случилось даже, что толпа, разъяренная слишком уж бесстыдными нападками одной продажной газеты на своих любимцев, разгромила редакцию и избила до потери сознания редактора. Но верхние слои общества глухо волновались, читая газетные инсинуации, со скрежетом зубовным говорили о том, что правительство идет на поводу у социалистов и ожесточенными нападками встречали всякое новое правительственное мероприятие.
Они находили крупную поддержку в правом крыле народного представительства. Реакционеры всех оттенков, среди которых доминирующую роль играли члены все того же всесильного союза «Друзей порядка», образовали тесный блок для борьбы с «красными», как они называли Сте-фена, Гаррисона и их друзей. С парламентской трибуны они произносили громовые, пропитанные ядом речи, будоража общественное мнение и подрывая веру в начатое дело.
Это нервировало, раздражало, мешало работать. В близких правительству кругах стали поговаривать о необходимости единоличной диктатуры, причем все единогласно прочили в диктаторы Стефена.
– В такие моменты необходима железная власть! – говорили ему. – Надо запереть на ключ двери парламента, который становится несносной и совершенно ненужной говорильней, надеть намордник на газеты, сурово подавлять всякие фанфаронады, которые только сеют недовольство и тормозят дело. Все это возможно только при диктатуре.
Но Стефен упорно отказывался.
– Не к чему, – возражал он. – У нас и без того теперь царит диктатура… в лице зоотавров. Пускай себе говорят, большого зла я в этом не вижу. Ведь это их последние опыты красноречия на земле!
И когда ему показывали напечатанные в газетах злостные выпады по его адресу и карикатуры, в которых его изображали с красным знаменем или же прикованным цепями к тачке с надписью «американский капитал», он добродушно смеялся и говорил:
– Недурно написано: чувствуется темперамент, да и стиль есть.
Или же:
– Талантливая карикатура! Не правда ли, похоже?
Между тем, зоотавры продолжали сеять смерть и разрушение. Они как будто догадывались, что люди собираются бежать от них, и спешили использовать время. Еженощно крылатые чудовища появлялись из-за облаков и, освещая себе путь гигантскими прожекторами, громадными темными глыбами падали вниз, на и без того истекающий кровью Париж. Город с потушенными огнями, с закрытыми окнами и спущенными шторами, казалось, переставал дышать и замирал, как кролик, почуявший над собой когти пернатого хищника.
– Господи! Хоть бы скорее уж выстроили этот подземный город! – вздыхали измученные страхом люди.
Несмотря на то, что за почти полным прекращением железнодорожного движения газеты крайне редко попадали в провинцию, слухи о сооружении подземного города быстро распространились по самым глухим углам Франции, и новые потоки беженцев устремились со всех сторон в столицу. С каждым днем положение становилось все более угрожающим. Казалось, что вся Франция, с ее пятьюдесятью миллионами жителей, собиралась переселиться в Париж… Население его росло с каждым часом, и вместо тысяч погибших при налетах зоотавров появлялись десятки тысяч пришельцев. Город разбухал, задыхался, словно организм от слишком обильно приливавшей крови. Десятки, сотни тысяч людей не находили ни крова, ни пропитания, жили где и как придется, точно дикие кочевые орды.
Правительство, встревоженное этой новой опасностью, тщетно пыталось защитить Париж от вторжения этих орд. Тщетно рассылало оно с особыми курьерами строгие приказы местным властям об удержании населения на местах. Ничто не помогало. В Орлеане толпы собравшихся в Париж беженцев, наткнувшись при выезде из города на сильный наряд солдат и полиции, смяли его, причем с обеих сторон было много убитых и раненых. В Лиможе возбужденная толпа, которой власти пытались преградить дорогу в Париж, зверски убила префекта и нескольких полицейских офицеров. В Гавре толпа сожгла мэрию, префектуру и ряд других правительственных зданий.
– Они хитрые, эти парижане! – говорили провинциалы. – Для себя подземные города строят, а нас оставляют в добычу зоотаврам!
Озобленные, с решимостью людей, которым нечего терять, бесконечными вереницами тянулись они со всех сторон в Париж. Точно гигантский магнит, притягивал он в эти роковые дни все и всех. Встревоженный своей собственной притягательной силой, он делал отчаянные усилия отбросить от себя прилипавшие к нему чуждые толпы. У всех входов в город были расставлены пешие и конные воинские части, силой преграждавшие дорогу беженцам. То и дело происходили кровавые столкновения, сотни беженцев падали убитыми, но тысячи все же прорывались и, подобно варварам средневековья, наводняли улицы Парижа. Те, которые оставались в живых, но не могли прорваться через военно-полицейские кордоны, располагались таборами в окрестностях столицы, жили под открытым небом, мокли под дождем, умирали от голода и болезней, добывая себе пропитание грабежом соседних деревень или же питаясь сусликами, кореньями, травами, древесной корой.
Мало-помалу Париж стал походить на остров, захлестываемый со всех сторон бурными волнами взбаламученного беженского моря. Обитатели его невольно устремляли взоры свои туда, за грань каменных громад, откуда как бы доносилось тяжелое дыхание притаившегося многоликого зверя.
Это был опасный зверь, готовый каждую минуту броситься на столицу и задавить ее своей массой. Франция вступала в борьбу с Парижем, и Франция была сильнее Парижа. Париж это чувствовал и полон был острой тревоги.








