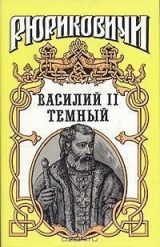
Текст книги "СОБЛАЗН.ВОРОНОГРАЙ [Василий II Темный]"
Автор книги: Н. Лихарев
Соавторы: О. Гладышева,Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Повинную голову меч не сечёт. Василий Васильевич по праву владеет Коломной, отошли его туда.
Так Юрий Дмитриевич и поступил. Решение это неожиданно показалось и мудрым, и справедливым, и великодушным.
– Поедем, Василий, в Москву, – сказал. – Забирай там всю свою челядь, казну, бери всю скаредь и живи в своём уделе коломенском.
Так рухнуло всё: мечты о подвигах славных, о приращении владений, о всечестии великого княжения. Засуетился перед дядей, как таракан перед гусем. Матушка ликом почернела и молчит, советов боле не подаёт. Владыка Иона вообще затворился. Прегорько было Василию, что так легко и быстро свершились его утраты, но жажды мщения не было в нём. Даже самому странно. И никому не доверял он сейчас своих мыслей. Вспоминал только, как с Антонием про гордынность и тщеславие на исповеди говорили. «Наказал меня Господь, – думал, – мало я на свете прожил, а успел уже и солгать пред алтарём, и предать». Страшно было даже взглядывать на Всеволожского, когда изредка встречать его приходилось в дворцовых переходах. С матушкой Иван Дмитриевич и свидеться не пожелал, как нету её на свете.
Ближние бояре притихли: и Старков, и Басенок, и богатырь Захар Иванович Кошкин. Старались на глаза своему князю-неудачнику не попадаться. Его беда – их беда. Если, конечно, не изменят, как Добринские.
Инок Антоний тоже притёк в Кострому. Держался всё как-то неподалёку, но утешать-уговаривать не подходил. Не было в нём, видел Василий, подавленности, как у других, – только кротость всегдашняя.
– Вот, отче, – молвил ему Василий, как обратно в Москву ехали, – есть поговорка: из грязи в князи, а я наоборот.
– Теки с Господом путём Его, не озираясь. Ничто так Богу не любезно, как причисление себя к последним.
Голос Антония звучал спокойно и отрешённо. Как все монахи Великим постом, был он бледен, воздерживался особо истово, по средам и пятницам вовсе ничего не вкушал, в остальные дни – хлеб да квасу два ковша. Когда люди княжеские служилые его попрекали: ты, мол, нам в укорение, что ль, ничего не ешь? – он только улыбался: принимать пищу в печали лишь вред себе наносить, впрок не пойдёт.
– Но, князь, – продолжал инок, – кто не может без ропота переносить находящие на него прискорбия, разве может взывать: «Заступник мой еси Ты и прибежище моё»? Заповедал нам апостол Павел: о всём благодарите.
– Тяжко мне, – признался Василий. – И путь мой во мраке лежит.
– Что так? Будем в Коломне жить… до поры. Аль там не человеки, но звери живут?…
– До поры? – с внезапно вспыхнувшей надеждой переспросил Василий.
– Как Господь управит, – с тихой улыбкой ответил Антоний своё обычное.
– Думаешь, ещё переменится что-то?
– Вспомни Иова многострадального: «Вот я кричу: обида! – говорит, – и никто не слушает, вопию и нет суда».
«Иов… оно, конечно, – думал Василий. – Но когда это было, в библейские времена. А как жить сейчас в униженин, которое словно камень раскалённый в груди?»
– Ты думал, смирение легко и оно участь слабых? – будто угадав его мысли, вдруг спросил Антонин, проницательно глянув на князя из-под низко надвинутого клобука. Покачав головой, отвёл глаза в сторону: – Труд это душевный, всежизненный, и лишь сильные духом достигают в нём пристани.
– Ты говоришь как монах, – возразил князь.
– Монах для мира умирает, но разве он человеком перестаёт уже быть? Разве соблазны его не борют? Больно просто было бы – пострижен, значит, спасён… Бог сперва искушает и томит, а потом милует, ниспосылая благодать. Слава Господу, горькими врачевствами в сладость здравия душевного нас вводящему!
Как раз проезжали пучистое место с ключами подземными. Полустаявший снег бугрился над ними, даже, казалось, шевелился, как живой, и, обозначая ложа ключей, стояли вербы, вот-вот готовые распуститься, вспыхнуть пушистыми комочками. Их горький свежий запах доносило ветром до дороги. И было в близости скорого весеннего возрождения какое-то неясное обещание, чистота, мудрость. И звучали растворённые в ветре древние слова произносимые голосом Антония: Господь гордым противится, смиренным же даёт благодать.
В Кремле Юрий Дмитриевич устроил в честь признавшего его победу племянника прощальный пир. Подарил на память серебряный кубок и меч в золотых ножнах. Сыновья не понимали и не одобряли этих отцовских поступков, а тот был безмерно счастлив – не тем, что наконец-то воцарился, а тем, что вернулось к нему утраченное в ожесточении борьбы желание не захватывать, а отдавать, одаривать, возвращать. Он испытывал сейчас к Василию чувства почти нежные – не от простого великодушия, но от сознания, что сумел победить сатанинский соблазн и не расправился с побеждённым.
А Всеволожский, Косой и Шемяка смиряться не хотели, роптали, осуждали нового великого князя, сулили ему всяческие беды, но даже они не могли предугадать того, что произошло.
Поселившись в Коломне, Василий не стал готовиться к возобновлению борьбы. Он просто объявил через бирючей [82]82
Бирюч – глашатай, объявляющий по улицам и площадям постановления правительства.
[Закрыть]в Москве о своём отъезде.
Но удивительно – сразу же потянулись за ним в Коломну князья, воеводы, бояре, дворяне, многие мизинные люди… Москвичи бросали жилища, лавки, огороды и сады, захватив лишь самое необходимое и ценное, ехали на телегах, плыли на ладьях вниз по Москве-реке, шли пешком. В коломенских домах уже не хватало места для утеклецов. Улицы были забиты обозами, так что начали строить шалаши и загоны для скота на Девичьем поле, на котором Дмитрий Донской в 1380 году устраивал смотр своим войскам перед тем, как пойти против Мамая.
А Москва, казалось, совсем обезлюдела. Редко какой прохожий показывался на улицах. Пустынно было на торжищах. Тишина стояла даже в корчмах и ропотах, где обычно выпивохи буйствовали да горланили песни. Положение создалось не только странное, но пугающее: то ли есть народ, то ли паром изошёл, то ли есть жизнь на Москве, то ли кончилась, и некому близящееся Светлое Воскресение праздновать. И войны, кажись, нет, а словно мором всех повымело. Редким грустным звоном звали к себе пустые церкви, а никто даже и туда не шёл. Бегали по улицам брошенные хозяевами псы, сбивались в стаи, гавкали, выли ночами напролёт, а случись кто рядом-в клочья готовы разорвать, без палки не отобьёшься. И как всегда бывает в таком умертвии, слухи поползли, россказни нелепые, бабьи страшилки. То будто бы кошку рогатую на Стромынке видали, а кто говорил, даже изловили; то бычок в улицах показывался, а в пасти пучок сена держал, пламенем горящего, так и шёл, и никто к нему приблизиться не смел, а ночные караульщики при виде его замертво падали и лежали потом пластом дня по три. То стрелы оперённые по площадям сами собой летали, неизвестно кем и откуда пущенные. От таянья снегов взнялись туманы, а солнце не появлялось, темнота и густота воздуха стояла необыкновенная. Ночи же были ещё морозны по-зимнему. То ли от погоды, то ль от бесовских наговоров, невесть откуда берущихся, только уныние московских жителей передаваться стало и их «победителям», сторонникам Юрия Дмитриевича.
К тому же, а может, это самое главное, благоговейно почитаемый на Москве блаженный Максим подаяние принимать совсем перестал, бродил почти весь обнажённый; еле ноги переставляя, в кашле с кровию заходясь, и учил, на папертях лёжа в слабости:
– Не скоро сырые дрова загораются… За терпение Бог даст спасение. Отерпимся и мы люди будем.
Его собирались слушать хмурыми кучками, сразу же из уст в уста по городу и посадам слова его передавали, по-своему перетолковывали.
В первую же безморозную ночь юродивый скончался на паперти храма Николы Мокрого. Плакали и жалели о нём много. Всё суровее поглядывали на пришлых: вы, де, зачем здесь надобе? Какого такого великого князя люди? Наш великий князь Василий Васильевич в Коломне сидит, Богом смирен. А вы бесчинники, вроде того и беззаконники.
До стычек, правда, не доходило, ругательствами только бросались да рожи при случае корчили, но среди враждебно-молчаливого покорства города как-то тихо и незаметно начала таять и рассасываться вся эта течель, которая прибыла с войском Юрия Дмитриевича. До него, конечно, докатывались и байки про кошку с рогами, и про кончину в обильных кровях блаженного Максима сказывали, и что ратники редеют, буде скрозь землю проваливаются. Всё сумрачнее и беспокойнее делалось на душе у самозваного великого князя. И не сопротивлялись открыто, и не признавали за правдошного. Примечать стал, что и бояре покашивают глазами, от совета уклоняются. Словом, торжества победительного не получилось. Местоблюститель высшей церковной власти Иона в Коломну не уехал, но сидел на митрополичьем дворе в затворе, во дворец не являлся и на приглашения никак не отзывался.
Бывают люди, чьё призвание толковища творить. Обо всём они ведают, всему смысл знают и охотно его разъясняют. Таковы были перебежчики бояре Добринские. Один брат говорил Юрию Дмитриевичу, что на свадьбе пояс у Косого сорвала не великая княгиня, а имал татаур Захар Иванович Кошкин. А княгиня только бесчестила Юрьевичей словами. Сам же пострадавший утверждал, де, сама княгиня руками грубо бралась и рвала с яростию. Один одно, другой другое зорит, а ведь вместе там были, на пиру, хотя и пьяные.
Вот и теперь Пётр Константинович Добринский, всему свидетель, всего знатец, начал издалека и осторожно вспоминать то, что князь Юрий с годами постарался забыть. Немало было такого, что трогать в памяти неохота, а то, чего коснулся сейчас некстати Добринский, особо неохота.
– Василь Василич-то титул князя великого получил даже не в колыбели ещё, но во чреве матери!
– А ты тогда зачем здесь сидишь, с моего стола ешь – пьёшь, Пётр Константинович? – прямо сказал Юрий Дмитриевич, а про себя прибавил: зараза ты перемётная. Но тот, как не слышал. Макая блинец постный гречишный в маслице конопляное, обкусывал меленько по краям, опять макал, а сам своё гнул:
– Трудно тогда Софья от бремени разрешалась, страдания тяжкие претерпевала, начала изнемогать, – будто былину сказывал, мерно, тягуче трутил своим рассказом боярин душу Юрия Дмитриевича. – Тогда супруг её Василий Дмитриевич поехал за Москву-реку в монастырь Святого Иоанна Предтечи, что под бором, и попросил тамошнего старца помолиться о роженице. Старец сказал: княгиня здрава будет. Помолился и ещё сказал: родит тебе сына, наследника. Ладно. А на другой день уже в Кремле, в Спасском монастыре сидит духовник Василия Дмитриевича в своей келий и слышит, как кто-то ударил в дверь и велит: иди, мол, дай имя великому князю Василию, в мир только что пришедшему. Чей же сей глас был? – Добринский благоговейно сожмурился. – Без сомнения, глас этот был Ангела Света. Чей он ещё может быть? По слову этому и нарекли младенца, в котором весь московский люд вот уже восемнадцать лет видит своего Богом данного государя.
– Ты к чему баешь-то всё это? – уже не скрывая раздражения, спросил Юрий Дмитриевич. – Иль ты обличать меня собрался, как Максим юродивый, царство ему небесное?
– Просто правда это, вот и говорю, княже, – поднял невинные глаза Добринский. – Я всегда людям правду говорю, такой я правдивый. Спроси кого хочешь – подтвердят.
– Да зачем ты со мной-то остался? А теперь гундишь чего-то? Чего ты гундишь? Что тебе надо?
– Чувствую я, – таинственно сказал Добринский, заканчивая есть блинцы.
– Чего чувствуешь?
– Правду.
– Какую правду?
– Но ведь не любишь ты её, Юрий Дмитрич! И едой вон попрекнул меня, сирого. Чай, не объел я твоего стола постного? Прости, ради Христа! – И пошёл обиженный и правдивый.
«Халабала, ботало коровье», – ругался князь Юрий, а сам всё мрачней и мрачней делался.
Действительно ли то было происшествие, нарочно ли пустили баснословие, занесённое потом во все летописные своды, но развязка его всякому видна была сейчас. И заставила она Юрия Дмитриевича сильно задуматься. Испытал он вдруг усталость вместо радостей ожидаемых, что вот он – в Москве, на престоле; возраст свой немалый почувствовал, от весенней, что ли, мокрой погоды раны загудели, про которые уж, сколько годов забыл, всё чаще с печальным равнодушием думалось, что суета сует, мол, и всяческая суета. Если бы двадцать, ну, десять лет назад… а теперь – поздно-поздно… Всё чаще во время молитвы приходили на память слова отрадного канона на исход души: «Уста мои молчат, и не молвит язык, но в сердце разгорается огонь сокрушения и снедает его, и оно призывает Тебя, Дево, гласом неизречённым».
И когда ему в Вербную субботу донесли, что в прошедшую ночь начался повальный исход жителей из Москвы, он остался с виду бесчувствен. Только прошептал, с горечью усмехнувшись:
– Будто от татарина какого… Дожили…
Но Василий Косой известием этим был просто потрясён:
– Может, нам сюда галичан да звенигородцев переселить?
Ну, брякнул сын. Большой ум издаля видать.
– Не горожане для князя, а князь для горожан! – ответил Юрий Дмитриевич досадливо, и возникло у него в душе внезапное решение: добровольно и немедленно уступить престол племяннику.
Услыхав, что хочет великий князь добровольно отойти от Москвы, Всеволожский даже затрясся от негодования. Всё достоинство, вся краса его слиняли, и видать стало одно, что сей муж бабами сильно тасканный.
– Ты что же, князь? – шипел он. – Ты что же, а? Я ли тебе был не советчик, не сотаинник, не соделец?… Ты на покой, а наши головы на плахи?
– Что ты пужаешься и других мутишь? – неохотно и вяло отозвался Юрий Дмитриевич. – Иль Ивана Вельяминова [83]83
…Иль Ивана Вельяминова тень тебя страшит? – Иван Вельяминов, сын московского тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова, был принародно казнён за измену в 1375 г.; это была первая смертная казнь в Москве на древнем Кучкове поле.
[Закрыть]тень тебя страшит? Зачем про плаху-то?
– Добиться, об чём всю жизнь мечтал и из рук, выпустить? Каким зельем тебя опоили? Ты об сыновьях подумал? Им – какая судьба? Ты в Орде, помнится, всё об их участи сильно печалился.
– Орду не поминай! – кратко и сурово остановил его Юрий Дмитриевич. – А то и я тебе кое-чего про то время вспомню, сочтёмся, боярин.
– Я с тобой насмерть теперь повязан, вот что вспомни! Что такое тебе жилу становую подсекло? Москвичи уходят? Велика беда! Новые набегут, ещё нарожаются! Москва пуста не останется. Одумайся, князь!
Как ни упорен был Иван Дмитриевич, как ни горазд на уговоры, но и ему стало ясно, что решение княжеское бесповоротно. А «вшу» – то пустить? Чуть не забыл. Хоть это. На такие дела он мастер гораздый.
Сделав вид, что успокоился и примирился с неизбежным, зашёл пролаза с другого боку:
– Знаешь ли ты, великий князь, кто ближний боярин у Василия и матушки его?
– Знаю, и все знают. Семён Филимонов.
– А знаешь ли, что твоему любимцу Морозову этот Семён племянник родной?
– Что же с того?… Мы с Василием тоже дядя с племянником, а во вражде.
– Эх, кня-азь! – Всеволожский потряс редеющими кудрями с укоризной. – Доверчив ты, как дитя! Вы с Василием сустречь идёте, а они – заодно. Но – втае! Обманывает тебя Морозов. Не как я – от гайтана до мотни весь нараспашку. Тебя кто уговорил Василию Коломну отдать? Я или Морозов? С чего бы он тут за Василия был? Тебе сыновья что советовали? Из-за этого всё и приключилось. Замышляет он! А что – сам думай.
Так… ещё одна «вша» запущена. Даже вроде легче стало.
Как себя, знал Юрий Дмитриевич боярина Симеона Морозова. Три десятка лет они неразлучны. А тут взял да и поверил, враз и совершенно, словно помрак на него нашёл, словно ждал он такого откровения, не случайно, знать, так остро захотелось ему понять, почему это люди изменой соблазняются. Особенно бояре на это почему-то податливы. По родовым преданиям известно, что ещё при великом князе Симеоне Гордом вошёл в крамолу московский тысяцкий, ведавший народным ополчением, боярин Алексей Хвостов и за это был лишён своего звания и имущества. Только и осталось после него село Хвостовское возле Москвы за Великим лугом. Потом такая же судьба постигла боярина Свиблова – осталось в памяти о нём село Свиблово на Яузе да небольшая башня кремлёвская. А что от этих останется – от Всеволожского, от братьев Добринских?… Да вот ещё – и от Морозова?…
Поверил Юрий Дмитриевич в неверность своего боярина, но повёл себя не так, как ждал Всеволожский, объявил с сердечной надсадой:
– Если вокруг меня одни вероломцы, то тем паче какой, я правитель? Зовите истинного великого князя, племянника Василия. А я уезжаю к себе в удел.
Встретившись с Василием и возвратив ему прилюдно все права на великое княжение, старый дядя обязался называть его старшим братом, который один имеет право знать Орду, и выговорил себе лишь одно: не садиться на коня, когда племянник поведёт куда-либо свои полки. Отказался и от города Дмитрова, попросив взамен него Бежицкий Верх.
В Галич он уезжал всего с пятью окольными провожатыми.
В Москве звонили к Светлой Заутрене.
7
У Дмитрия Шемяки глаза маленькие, глубоко утопленные, но острые, зоркие. У Василия Косого – неподвижно-тёмные и чуть раскосые, за что он и прозвание своё получил. Внешне не похожи они, но в мыслях и поступках всегда заодин. Так было и когда решали они судьбу Симеона Морозова. Подкараулили его в дворцовых Набережных сенях и, действуя в два ножа, умертвили, хрипя с яростью:
– Злодей ты, крамольник!
– Ты отца погубил и нас тоже!
– Издавна ты лиходей проклятый!
Годами братья были уж не юны, давно перематерели, но жили без Бога в душе. Не от природы такими были ведь зло не изначально, но порождение скудельное. Как и младшие братья Иван да Дмитрий Красный, были они когда-то чисты в делах и помыслах, а потом отпали от добра, утратили представление о нём. После убийства боярина Морозова отец их ужаснулся и был столь потрясён, что проклял сыновей не только на словах, но заключил с Василием Васильевичем договор, в котором от себя и от любимого Дмитрия Красного отказался впредь принимать к себе Косого и Шемяку.
Но только не был ли он сам виновен, что сыновья забыли слова апостола или не слыхали их отроду: «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром»? Юрий Дмитриевич вовлёк их в борьбу с великим князем московским, а сам отступился да ещё и их лишил благословения. И очутились они как бы в западне, не имея обратной дороги. Отверженные и озлобленные, пустились братья во все тяжкие, дали волю злой удали да лихому молодечеству.
С толпами бродяг бесчинствовали они по северным областям Руси. Ограбив Переяславль, забрали золото и серебро, всю казну родного отца своего. Заодно прихватили пускачи, сказав наместнику, что с помощью этих пушек станут осаждать Московский Кремль. Наместник князь Роман доверился им, присоединился для благого дела во имя князя Юрия, на службе которого находился. Не знал он нрава Юрьевичей, а когда понял, в какую шайку попал, и решил отделиться, Василий Косой отсёк ему руку и ногу, отчего тот скоро скончался.
В Устюге братья умертвили князя Оболенского, а заодно и тех жителей, которые пытались за него заступиться.
Инок монастыря, стоявшего на берегу Меты, попытался усовестить братьев-разбойников, уговаривая вспомнить о Суде Божием, о смерти и не возноситься, ибо до гроба недалеко, а злые дела не принесут никакой пользы. Василий Косой и на праведника замахнулся, хотел ограбить обитель, да Шемяка удержал.
Был Шемяка всё же чуть более благоразумен и чуть менее жесток, нежели Косой. Это он предложил помириться с Дмитрием Красным, уговорить его опять пойти всем вместе на Москву и добыть для отца своего, старого и одинокого, великокняжеский трон.
Любящий сын Дмитрий Красный поддался на уговоры. Раньше он был решительно против войны с двоюродным братом, но Косой и Шемяка представили великого князя Василия Васильевича предателем Русской земли, пошедшим на тайный сговор с Ордой и Литвой.
Поход на Москву Юрьевичи – теперь уже трое – начали успешно: предводительствуя галицкими и вятскими ратниками, они на реке Куси близ Костромы разбили, войско московского воеводы Юрия Патрикиевича, а его самого взяли в плен.
Василий Васильевич, узнав об этом и не делая различия между отцом и его сыновьями, вознегодовал на князя Юрия, снова преступившего крестоцелование, пошёл на Галич войной, разграбил и сжёг этот город, вынудив дядю бежать на Белоозеро.
Теперь уж князю Юрию и впрямь пришлось нарушать договор. Он послал за сыновьями, собрал большую силу и весной ещё раз двинулся на Москву.
31 марта 1434 года Юрий Дмитриевич второй раз объявил себя великим князем Московским. Чтобы не повторился прошлогодний срам, когда все подданные утекли от него, утвердил грамотами союз с племянниками своими, владетелями Можайска, Белоозера, Калуги, а также с князем Иваном Рязанским, требуя, чтобы они не имели никакого сношения с изгнанником Василием. Все грамоты скреплены были княжескими печатями, и все начинались впервые в договорной княжеской переписке со слов: Божией милостью…
8
Если братья Юрьевичи, вступив на путь борьбы, злодействовали, не имея пути назад, то что говорить о Василии Васильевиче!.. На этот раз он не смог уберечь даже и мать с женой – князь Юрий взял их в плен и сослал в Звенигород. Сам низложенный, великий князь никак не мог найти себе места – бежал в Новгород, оттуда на Мологу, в Кострому, в Нижний, наконец.
Двоюродный брат Иван, сын недавно умершего Андрея Дмитриевича Можайского, выступал на стороне великого князя, но был разбит Юрием Дмитриевичем в Ростовской волости у Святого Николы на горе и бежал в Тверь вместе со своей матерью. Василий слёзно обратился к нему: «Дай мне приют, не изменяй в злосчастии». Тот же гонец принёс ответ: «Господин и государь! В душе я не изменяю тебе, где ни буду, везде я твой человек, но теперь у меня есть город и мать, я должен мыслить об их безопасности, не могу я потерять отчину и скитаться по чужой стороне. Поэтому я еду к Юрию».
Юрьевичи же, как гончие псы, торопили несчастного двоюродника своего Василия. Он, постоянно чувствуя погоню и находясь в полном упадке духа, намерился кинуться в Орду, в объятия Улу-Махмета. Однако решиться. на это было трудно. Слишком ещё памятно было недавнее пребывание в ставке хана – с тяготами, непроходящей опаской, нарочитым унижением. И не всуе сказано: «Но с ними случается по верной пословице: пёс возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идёт валяться в грязи».
В Нижегородском Печерском монастыре под Дятловыми горами, что на южной стороне города у Волги, решил Василий провести последнюю ночь перед дальней и опасной дорогой в молитвах и душеспасительных беседах с иноками. Совсем он отчаялся, не на кого было надеяться, только на Господа, только на Божью мило с т ь, к которой и князь Юрий взывает…
Пришёл к архимандриту Амвросию, в его тесную келью, пал на колени:
– Отче святый, рассуди! Наметил я к агарянской Орде прислониться [84]84
…к агарянской орде прислониться… – Агаряны – племя. В Никон, летописи сохранилось сочинение под названием «История, или Повесть о нашествии безбожного царя Мамая с бесчисленными агаряны›. Этимологически восходит к имени Агарь (библ.) – рабыни жены Авраама Сарры. Удалённая из дома Авраама, она вместе с сыном Измаилом ушла в пустыню, и здесь Измаил сделался родоначальником живших на Синайском полуострове племён: измаильтян и агарян.
[Закрыть]от крайней безвыходности… Не тот ли я пёс, не та ли свинья, о которых апостол говорил?
– Апостол Пётр говорил о тех, кто познал путь правды, а потом, предав заповеди, впал в ещё большее зло. А ты через познание Господа и Спасителя Иисуса Христа избегаешь скверны мира, не запутаешься в них, раз сам видишь опасность сатанинскую.
Амвросий был умелым духовным лекарем, находил врачующие слова для истерзанной души Василия:
– Аще, сын мой, ударил тебя по щеке, не допускай, чтобы не ударили тебя ещё и по другой. Аще сняли с тебя кафтан, отдай и другую одежду, аще имеешь её, пусть и третью возьмут у тебя, потому что ты не останешься без приобретения. Аще злословят тебя, благословляй злых. Аще оплёвывают тебя, поспеши приобрести почести у Бога. Аще гоним ты, не ропщи, потому что никто не разлучит тебя с Богом. Пусть грозят тебе, пусть проклинают, твой долг делать добро.
Василий впитывал в себя слова ветхого деньми старца, укреплялся духом, обретал вновь угасшую веру в будущее.
Утром Фёдор Басенок занимался с монастырским келарем в кладовой, набирая в дорогу припасы. Конюший боярин Дмитрий Бобр осёдлывал скаковых и навьючивал заводных лошадей. Архимандрит дал провожатого инока, чтобы указал безопасную дорогу через мордовские леса.
Василий прощался в трапезной с монахами, И тут донёсся до них конский топот, какой-то вестник примчался в монастырь. О чём-то быстро, взволнованно поговорил с конюшим, не разобрать, потом громко:
– Говорю тебе, трёх лошадей загнал! Иди скорей к князю!
Боярин Бобр бегом поднялся по высоким ступеням к трапезной, встал за дверями, попросился торопливо:
– Во имя Отца и Сына, и Святого Духа…
– Аминь! – услышал в ответ и распахнул дверь, бросился к Василию Васильевичу:
– Бог тебе помог, государь!
Иначе и не сказать – вдруг, истинно, что вдруг, совершенно неожиданно, нечаянно, внезапно 6 июня 1434 года скончался в Кремле князь Юрий Дмитриевич. Шесть десятков лет не споткнулся, жил мерно, блюдя церковные установления, не расслабляя тела излишествами и не подавляя духа воздержания. Сроду не знал никаких недугов, без последствий перенёс все титлы, которыми был оттитлован на ратях, и вот на тебе – ни с того, ни с сего!
Однако же не могло быть без причин. Приехал он в Москву весёлым, а сел на великокняжеский стол, сделался печальным, задумчивым. О чём он пёкся, что замышлял? Или винил в чём-то себя? Мучился, что снова преступил крестоцелование? Убивался от сознания, что сыновья его продолжают против его воли насильничать, седин его не щадя? Только он один знает, в каком непрестанном разладе жила душа его. Целью жизни поставив достижение высшей княжеской власти, он устремлён был всем сердцем к чему-то более высокому. Он ликовал по поводу каждой своей ратной победы над татарами или литовцами, но несравненно выше и чище была та тихая радость, которую испытывал он от своих боголюбивых дел, когда ставил новые церкви и монастыри, когда залучал к себе лучших художников. Когда Андрей Рублёв закончил роспись иконостаса в Звенигороде, Юрий Дмитриевич сон утратил, ночи проводил в пустом храме в умилении. Но не много выдавалось таких радостей, плотская жизнь всё же почти постоянно владела всем его существом, оттесняя жизнь духа. Не всуе ли метался он всю жизнь, домогался чего-то будто бы необходимого и великого, а в действительности тленного, преходящего, оставляющего в душе пустоту и холод?
В последние перед кончиной дни всё чаще поверял он свои поступки по отцу своему. Вспомнил, как говорил Дмитрий Иванович на смертном одре, обращаясь к боярам: «Вам, свидетелям моего рождения и младенчества, известна внутренность души моей. С вами я царствовал и побеждал врагов для счастия России; с вами веселился в благоденствии и скорбел в злополучиях; любил вас искренно и награждал по достоинству, не касался ни чести, ни собственности вашей, боясь досадить вам одним грубым словом; вы были не боярами, но князьями земли Русской…». Вот ведь: не касался ни чести, ни собственности, боялся досадить одним грубым словом… А он, Юрий, любимого и преданнейшего Симеона Морозова сначала обесчестил недоверием, а потом на смертную казнь отдал!.. Всю жизнь старался равняться на отца, да, видно, мало одного старания, не каждому дано не потерять связь с миром Божиим, не подчиниться тёмным и бессмысленным силам разрушения, захвата, подавления.
Знахарь распознал у Юрия Дмитриевича тот же, лишивший его жизни, недуг, который и Дмитрия Донского в могилу унёс: сердечная жила лопнула.
Дмитрий Красный послал боярина к Василию Васильевичу звать его на великое княжение.
Иначе решил Василий Косой. Ещё не развеялся в покоях ладанный дым, не стихли поминальные плачи, ещё стояли на Подоле Кремля, на берегу Неглинной длинные столы с помином для убогих и нищих, а Косой уже объявил через глашатаев, что по праву наследования как старший сын садится на злат отчий стол.
Дмитрий Красный, хоть был доброты неизбывной, тут не выдержал, сказал в сердцах:
– И как тебя земля носит? Не иначе как по Божьему попущению.
Даже Шемяка не одобрил самочиния Косого:
– Когда Бог не захотел видеть отца нашего на престоле великокняжеском, то не хотим видеть на оном и тебя.
Взяли духовную грамоту Юрия Дмитриевича, а в ней сказано, что завещает он платить великому князю с Галича и Звенигорода тысячу двадцать шесть рублей в счёт ордынской семитысячной дани. Понимал покойный, что если сам по старине брал, то и дальше должнобыть так, а теперь в роду старшим остался именно Василий Васильевич.
Но Косой и с последней волей отца не захотел считаться.
Тогда братья выгнали его из Москвы силой и призвали в столицу законного государя.
9
Так, переживши превратности многие, возвратился Василий Васильевич на московский стол. Коротко и жёстко было первое же распоряжение великого князя: боярина Всеволожского, в нетях сказавшегося, отыскать, за многие измены живота лишить, имения отобрать в казну. Тако повелеши – тако было исполнено.
Погасла ещё одна жизнь, страстями пережжённая, и никто в окружении княжеском не посмел о ней и вздохнуть.
А 21 мая 1434 года велел Василий Васильевич очи выняти двоюродному брату, тёзке своему Василию, который прозывался Косым, а теперь получил пожизненно ещё и кличку Слепца.
Трудно припомнить подобное злодейство в истории русских княжеских родов со времён Рюрика, Мономаха. Те, кто знал Василия Васильевича за человека нерешительного, доброго, христолюбивого, поначалу верить не хотели, что способен он на такую жестокость.
Он и сам не поверил бы, скажи ему кто год назад, что такое сотворит. Жизнь в тихости, в размеренной причинности каждого поступка, жизнь по законам, издревле установленным и чтимым, может быть, очень медленно переменяет человека, а может быть, почти вовсе не переменяет. Но если в столь короткий срок клятвопреступление сменяет возвеличенье, а потом опять – бесчестие и угроза жизнескончания от рук братьев и дяди и снова призыванье в Москву, а он, законный великий князь, что утлая ладья, качается в волнах, не смея ни прибиться к берегу, ни утонуть, тогда должно твёрдо и быстро самому решать, никто за тебя поступки твои не расчислит, решать осмысленно, безопасие себе, трону и семье обеспечивая, а народу своему – спокойствие и защиту, что обещал пред лицем Божиим на посажении. В таком обстоянии, таких бедах-напастях человек перемениться может и в два дня, тогда воля его и самочиние не в похва-ление действуют, а в необходимости.
– Уж не заносился более Василий в мечтаниях сравняться славою с предками, цены сам себе не назначал, но твёрдо понял, в житейских страхованиях, что власть, вручённая ему волею отца и благословением Церкви, должна быть крепка и едина в его руке, и он за неё ответчик. Мало размышляя, отдал он страшные свои приказы, трепет наведя. Он только чувствовал: так надо сейчас.
А судить его будет за это Бог и совесть.
Софья Витовтовна сына оправдывала безоговорочно, более того, она и раньше побуждала его к беспощадности. Правда, не всегда была она кровожадной, до начала замятни, случалось, на приёмах иноземных послов напоминала, что отец её великий князь Витовт издал закон, согласно которому осуждённые на смерть преступники должны были самолично исполнять над собой приговор. – Я тоже не постигаю, – говорила, – как это ни в чём не повинные третьи лица могут привлекаться к человекоубийству?








