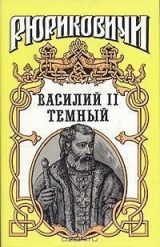
Текст книги "СОБЛАЗН.ВОРОНОГРАЙ [Василий II Темный]"
Автор книги: Н. Лихарев
Соавторы: О. Гладышева,Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Великий князь раздумывал. Конечно, бояре эти рьяные вояки – что Юшка, литовский выходец, что Старков, в ком не перебродила ещё степняцкая кровь. Дать им княжескую дружину – враз очистят площадь. Но Пасха – не просто праздник, Пасха – праздник праздников. Да и приезд, наконец, владыки – тоже праздник для Русской Церкви, которая по смерти Фотия шесть лет бедствовала без главы.
И уже казалось, что никто из боярского многодумного совета не может ничего стоящего присоветовать, как сказал своё слово Василий Фёдорович Кутузов. Потомок верного слуги Александра Невского, он и сам не раз уж показал себя истинным болярином, болеющим за великого князя и его державу.
– Есть у нас щиты, кои мы для пешей рати изготовили, а в деле так и не пользовали, – сказал Кутузов, и никто попервоначалу не понял, к чему он клонит. – Всадники, даже без оружия, потоптать людей могут, а пешие вой своими щитами помалу, помалу оттеснят зевак и празднолюбцев, отгородятся щитами, как загораживались, бывало, от татарской конницы.
Теперь все поняли, что придумал Кутузов, и каждый подосадовал на себя, что не его столь счастливое озарение посетило. А Софья Витовтовна подошла близко к Кутузову, коснулась кончиками пальцев серебряных кружев, которыми была расшита камковая брусничного цвета ферязь боярина, словно бы любуясь и удивляясь невиданному рукомеслу, произнесла растроганно:
– Василий Фёдорович нашёл, как всё управить. За то благодарствую, награди тебя Бог!
– Кто награждает, тот и карает! – учтиво и со значением ответствовал Кутузов, и глубоко посаженные зеленоватые глаза его весело блеснули от похвалы.
Великий князь послал двух сыновей князя Ивана Оболенского – Василия и Семёна – собрать и вооружить щитами молодых дружинников. Оставшиеся бояре облепили окна покоев, а великокняжеская семья поднялась в Набережные сени златоверхого терема. – Верно, что пшённая каша, особенно отсюда, где галки летают, – сказал Василий Васильевич.
Дружинники сноровисто взялись за дело. Они несли перед собой высокие, в рост человека, округлые сверху я остроконечные внизу, окрашенные в червлёный цвет щиты, которыми стали оттеснять народ от митрополичьего двора в сторону колокольни Иоанна Лествичника и Архангельского собора.
Толпа волновалась, слышались обиженные голоса, но лёгкие деревянные щиты, обтянутые козьей кожей, не причиняли людям вреда. Оттеснив всех настолько, что образовался проезд, ратники развернулись лицом к великокняжескому и митрополичьему дворам, образовав из щитов ярко-красный непроницаемый заслон.
Софья Витовтовна в задумчивости отошла от окна:
– Надо бы нам, пожалуй, не Юрия Патрикиевича посылать в Новгород, а Кутузова, больше было бы проку…
– Но, матушка, ты же сама твердила: «Больше некого!»
– Почём знать, чего не знаешь…
Долетел колокольный звон со стороны Арба-ата – это встретила митрополичий поезд церковь Бориса и Глеба.
Ближе трезвон – от церкви Покрова Богородицы в Занеглименье.
Враз все кремлёвские звоны ударили, когда проскочила чёрная крытая повозка Троицкие ворота, обогнула Красное крыльцо великокняжеского дворца через живой, охраняемый красными щитами проезд, а возле митрополичьего двора остановились взмыленные кони перед стройными рядами московского духовенства: встречали владыку епископы и архимандриты, иереи и диаконы, игумены и чернецы с иконами, хоругвями, святыми мощами, дароносицами, потирами. Но ни возгласов, ни славословия, ни псалмов и молебных правил нельзя было разобрать – все звуки подавлял сплошной медноволновый гул.
Проворные бояре раскатали ковровую дорожку, открыли дверцы колымаги. Тут их сменили церковные служки, помогая сойти на землю, подали посох и с двух сторон начали опахивать владыку рипидами из павлиньих перьев. Выражая духовную радость и прогоняя духов тьмы, иереи и диаконы кадили столь усиленно, что сквозь ладанный дым не рассмотреть было лица владыки, только по одеянию его ясно, что не просто архиерей, но – митрополит: фиолетовая мантия со скрижалями – крестами и иконами, символизирующими Ветхий и Новый Заветы, а поверх – омофор, показывающий, что носитель его являет собой образ самого Христа Спасителя и несёт такое же попечение о вверенной ему пастве, как Господь о всех людях.
– Дождались, слава Тебе, Боже Всемилостивейший! – крестясь, проговорил великий князь.
Софья Витовтовна, стоявшая у крайнего проёма, подслеповато щурясь, строго вглядывалась в происходившее внизу. С недоумением повернулась к сыну, хотела что-то сказать, ещё раз всмотрелась пристальней и, ахнув, отпрянула от окна:
– Свят! Свят! Это же не Иона!
– Как? Да ты что, княгиня?
– Не может быть того!
– Почему не Иона, батюшки-светы?
– Кого же это принесло к нам?
Растерянный шум среди стоявших в сенях остановил Василия Васильевича, который уже направлялся к выходу в великокняжеском облачении для встречи перво-святителя. Он бросился к проёму и остолбенел: золотая митра с зубчатым венцом на голове не Ионы, а владыки неведомого. Ставленник же московский как в Византию отправлялся в чёрном клобуке, так в нём же и вернулся – идёт за митрополитом смирно в свите.
4
Великий князь призвал к ответу боярина своего, который по его заданию сопровождал неотлучно Иону в Константинополь и обратно в Москву.
– Ну, Василий, молви слово своё.
Боярин слишком хорошо знал, какое-такое слово должно ему молвить, но страшен был возможный гнев царский, и он попытался оттянуть миг решительного объяснения:
– Это уезжал я Василием, а вернулся Полуектом Море.
– Что так? По-другому нешто кличут тебя?
– Да, да. Полуектом Море.
– Полуектом? Как пса нешто? Или ты в иную веру переметнулся?
– Что ты, что ты, государь! Как можно! – по-настоящему испугался боярин. – Шибко я море там полюбил. Мраморным называется море, а вода в нём солёная и вроде как густая – лежишь на ней, ровно деревянный уполовник. Вот меня греки и прозвали Морем Полуектом, по-ихнему – «многожелающий моря», – сбивчиво растолковывал боярин, с опаской замечая, как всё нетерпеливее постукивает великий князь пальцами по золочёному подлокотнику кресла. – Что с собачьей кличкой я вернулся – это беда не беда, кабы не было большей… То случай злыдарный случился, что послал ты меня с одним митрополитом, а я привёз другого…
– Не суесловь! – Тонкая белая кисть великого князя взметнулась вверх. – Сам не слепой, вижу, что другого. Как могла приключиться такая… злыдарность?
– Не поспели мы… Твои послания вручил, как велел ты, императору и патриарху, а они уже определили нам своего человека во владыки, именем Исидор. А нашему владыке Ионе сказали: «После Исидора ты будешь на очереди».
– Кто такой Исидор, ведаешь ли?
– Книжник и многим языкам сказатель.
– По роду-племени кто?
– Говорили, что огречившийся болгарин. А ещё и то говорили, что грек из Пелопоннеса.
– Если из Пелопоннеса, значит, грек.
– Да-да, значит.
– Чья же то воля была – послать Исидора к нам? Патриарха либо императора?
– Оба тебе свои грамоты прислали, – с этими словами боярин отомкнул кованый походный ларец и вынул из него два свитка, запечатанных чёрным воском.
Оба послания были на греческом языке, но затем следовало переложение на славянский. И патриарх Иосиф, и царь Иоанн Палеолог, супруг сестры Василия Васильевича Анны жаловались на притеснения оттоманских басурман, уверяли, что Амурат II уже соображает, как ему переименовать Константинополь на турецкий манер. Скорбели по поводу своей нищеты и намекали на денежное воспоможествование Руси, как самой богатой митрополии православного мира. Славили Исидора как мужа чрезвычайно умного, наделённого многими способностями. Про Иону же написали оба одинаково, слово в слово: «Жалеем, что мы ускорили поставить Исидора, и торжественно обещаем русскому владыке Ионе митрополию, когда она вновь упразднится».
Прочитав послания, великий князь задумался. Много вопросов возникло у него, а самый главный – почему всё-таки ускорили, нельзя ли было не ускорять?
Полуект Море знал, что хотя Иона и, правда опоздал в Константинополь, однако патриарх и император, если бы пожелали, могли уладить дело в пользу Москвы: утвердить её избранника, а Исидора перевести в какую-нибудь местную кафедру. Но они были рады, что могут послать на Русь своего ставленника, не давая вместе с тем повода московскому великому князю для обид. Но это лишь в случае, если он поверит в искренность их посланий. А если узнает правду?… Да разве же может он её не узнать?… Непременно узнает, важно тут – когда и от кого?… Василий – Полуект Море и раньше исполнял поручения великого князя, связанные с иноземными сношениями Москвы и слишком хорошо усвоил, что вести себя он обязан скрытно, изворотливо, но на вид открыто и прямодушно. Усвоенная тонкость обращения подсказала ему, что истину во образе и во благе нельзя ни проявлять, ни утаивать – и то, и другое угрозно.
– Ведаешь сам, государь, что со времён Владимира идёт у нас пря с греками: мы желаем своего, родного, святителя иметь, а они норовят приставить пастыря, который бы не только нас духовно окормлял, но и для них хлеб добывал, – вкрадчиво начал Полуект. – Дед твой Дмитрий Иванович на худой телеге выслал из Москвы ихнего Киприана… Батюшка твой Василий Дмитриевич, однако, вынужден был принять этого Киприана, и от того мало чего хорошего произошло…
Напоминание о дерзком и решительном поступке великого деда было Василию Васильевичу приятно, но он продолжал деланно хмуриться, не желая выказывать отношения к счастливо подсказанному решению… Спросил ещё без особого уж интереса:
– Отчего же не поспешил к самому Светлому Воскресению?
– Я говорил владыке, что поживее бы двигаться надо, а он все наши дороги ругал… Да и то – распутица ведь вешняя, кареты иной раз по ступицу вязли в грязи, а ехать на санном полозе он зазорным для себя считал… Однако, кабы не праздновали подолгу в Киеве, в Смоленске, в иных ещё местах, поспели бы загодя.
– Хорошо… В смысле – плохо. Иди! Надобно будет, позову.
Боярин, обрадованный столь благоприятным исходом, пятился назад, отворил дверь и, также пятясь, притворил её.
Великий князь, оставшись один, сразу утратил степенность. Совсем по-мальчишески спрыгнул с трона, подбежал к окну, выходившему в сторону митрополичьего двора, и произнёс ликующе:
– Я тебя, Сидор!.. На худой телеге!
5
Антоний не вошёл – ворвался в палату к великому князю. И это несоблюдение приличествующего чина, и нескрываемое волнение, даже тревога в каждом жесте его обнаруживали, что случилось нечто из ряда вон.
И голос его, обычно кротко-приглушённый, был сейчас зычен – не его, не монаха Антония, голос:
– Кайся, великий князь, молись, плачь горькими слезами пред Отцом Небесным, Которого ты безмерно прогневил.
Василий Васильевич, уже принимая похолодевшим сердцем какое-то очевидное бедствие, поднялся с кресла навстречу:
– Что стряслось, батюшка Антоний?
– И ты меня спрашиваешь? Да как ты мог, князь?
– Что, что, Антоний? – цепенея от чего-то непоправимого, но так и не понимая причины, вопрошал Василий Васильевич.
– Нет, ты что наделал, великий князь! – Антоний в отчаянии теребил свою рыжеватую бородку. Широкие рукава чёрной рясы свисли, открыв тонкие запястья, Василий Васильевич обхватил их своими руками, развёл на стороны не грубо, но и не считаясь со слабым сопротивлением монаха.
– Объясни толком, что приключилось?
Антоний отступил на два шага и неузнавающе смотрел на великого князя. Спросил уже спокойно, как больного:
– Ты почему здесь? Ты не знаешь разве, что прибыл тебе назначенный патриархом митрополит всея Руси?
Иди немедленно!
Василий Васильевич облегчённо вздохнул, вернулся на своё царское место.
– Как же ты меня напугал! Присядь.
Антоний недоверчиво повиновался, присел на краешек скамьи, но сразу же вскочил, как только услышал ужаснувшие его слова:
– Я не только не пойду к этому самозваному Сидору, но повелю выпроводить его из Москвы на худой телеге, как мой дед Киприана выпроваживал.
– Немедленно знаменай себя! – Антоний сказал это столь властно, что великий князь беспрекословно встал с трона, трижды перекрестился на иконостас. – А теперь послушай, размысли и рассуди, сколь справедливы для тебя слова святого апостола Павла: «Супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский, кого поглотити». Больше всего, сын мой, бойся отпасть от Бога, бойся подвергнуться отлучению в этом или будущем веке, а действие, истекающее от диавола, есть высокомудрие, гордынность и все виды злобы. Единственно только злым действом врага человеческого, диавола, могу я в толк взять твои слова многогрешные. Не самозваный Сидор, а богомудрый и богопросвященный владыка по благословению самого патриарха прибыл, чтобы освятить твою, государь, власть, которая дана тебе по Промыслу Божьему.
– Но, Антоний… Батюшка Антоний, – Василий Васильевич вдруг почувствовал себя нашкодившим ребёнком, слабо осознающим свою вину, но уже чувствующим неотвратность наказания. – Мы же выбрали Иону, он для нас митрополит? Так и дед мой Дмитрий Иванович Донской избирал Митяя…
– Избирал, избирал, да Бог не допустил этого самочиния.
– Знаю, Божиим попущением погиб Митяй не своей смертью на пути в Константинополь. А вместо него заявился гречин Киприан, которого дед не захотел принимать. Зачем же ты меня нудишь?
Антоний не сразу ответил, сердцем чувствуя, что сын его духовный подвержен таким повреждениям, которые могут привести душу его к полной погибели:
– Я буду молиться за тебя, сын мой, да простит тебе Господь чудовищное твоё заблуждение, дарует тебе чистоту и смиренномудрие, чтобы николи ты не терял духовного рассуждения, без которого невозможно отличить, добро от зла. То, что вычитал я в свитках летописных, ведомо тебе по преданиям семейным. Да, высылал Дмитрий Иванович митрополита Киприана за то, что тот убежал из осаждённой Москвы, отдал её на разорение Тохтамышу. Великое горе ослепило благоверного Дмитрия Ивановича и привело в велий гнев. Но не помнишь разве, не рассказывали тебе разве отец твой, дядьки твои, как высокоторжественно встречал Дмитрий Иванович Киприана при его первом прибытии? Он со всем своим семейством, с чадами и домочадцами, с боярами и духовенством выехал за девять вёрст от Москвы к селу Котлы для встречи владыки. А ты как же осмелился такой грех на душу взять, что даже из дворца своего не вышел, и сейчас ещё говоришь непотребное, диавола тешишь? Сбирайся и иди скорым шагом к владыке с повинной головой!
– Спаси Бог, что надоумил меня, спаси Бог, спаси Бог, – потерянно благодарил Василий Васильевич. Нашёл в себе силы сбросить оцепенение:
– Иду! В ноги владыке упаду!
Позвал боярина Басенка и велел ему захватить все те дары, которые загодя готовились для встречи ожидавшегося митрополита Ионы.
6
Исидор сразу же освоился в митрополичьих палатах, но хотя уже наступало время для опочивания, он сам и все его многочисленные бояре и отроки не думали располагаться на отдых, а пребывали в деятельном и напряжённом ожидании. Исидор так и оставался при митрополичьем кресте с нарядным парамандом – платом на персях, где изображены осьмиконечный крест с подножием, орудия страстей Господних и адамова голова. И белый клобук митрополичий велел вынуть из походного короба и положить на стол, чтобы под рукой находился. Рядом же прислонил палицу – посох митрополичий. А как только дождался доклада боярина, что великий князь челом бьёт, велел просить немедленно и встретил его во всём архиерейском облачении.
Василий Васильевич кротко подошёл под благословение:
– Святитель высокопреосвященнейший, паки и паки винюсь и многажды припадаю. Не сведали мы загодя о прибытии твоём, а гонец верхоконный лишь к заутрене прискакал с туманной такой вестью. – При этих словах Василий Васильевич метнул короткий испытующий взгляд, который Исидор сразу же уловил, правильно понял и необидчиво ответил:
– Ведомо, ведомо, ждал ты Иону своего, ан тут – как это у вас говорится? – хуже татарина, незваный потому что. – Говорил грек Исидор без переводчика, что уже обрадовало Василия Васильевича. А когда улыбнулся митрополит своему сравнению с татарином – широко, ясно улыбнулся через густые, тронутые изморозью усы и бороду, то вдруг такое доверие меж двоих возникло, будто век они знались:– А я, государь, знал, к кому еду, готовился к встрече с тобой, и есть у меня тебе подарок.
Догадливые отроки без всякого указания владыки вынесли из соседней палаты круглый, плетённый из стеблей неведомого растения короб. Исидор сам открыл его. Запустил внутрь руки и, прежде чем достать что-то, с нарочитой серьёзностью покосился на великого князя, подчёркивая важность, исключительность происходящего.
Василий Васильевич непроизвольно вытянул шею, пытаясь запустить взгляд в короб. А Исидор всё томил, оглянулся на окно, через толстые стёкла которого пробивались лучи полуденного солнца, и сдвинул корзину по столещнице поближе к свету.
– Вот! – победно объявил наконец и выхватил ослепительно блеснувшую золотом и многоценными камнями высокую шапку, по форме как бы митрополичью.
– Митра нешто? – растерянно спросил Василий Васильевич.
– Митра, да, но не архиерейская митра, а царская, видишь вон, венцом окружена. Такую только один византийский император носит. А теперь будешь ещё и ты, поелику на Руси, как мы разумеем, ты первый самодержец по воле Божией. Были до тебя славные русские князья, но ты первый кладёшь начало государственному самодержавию, которое направлено на благо всех христиан.
– Слова митрополита, равно как и несравненный дар его, и смутили, и глубоко взволновали Василия Васильевича.
– Ну, какой я царь…
– Ты царь! Ты утвердил себя, непокорных убрал, завистников к ногам склонил. Дела твои богоугодны, ибо подчинены спасению душ подданных от диавольского наваждения, в согласии они со словами Божиими: «Не хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому по пути своего, и живу быти ему».
– Знаю, знаю, святитель, что власть дана мне от Бога, всё надзирающего Промыслителя, но вижу, что попущением Божиим впадаю я в несчастия и царский трон мой колеблется, вон опять татары грозятся меня спихнуть, – возразил Василий Васильевич с прямодушием, какого сам не ожидал от себя.
– Да, сын мой, существует в мире и другая власть. Помнишь, как искушал Христа Спасителя господством над миром сатана: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне». И ты верно сказал про попущение Божие – не тебя одного, многих праведников делает оно несчастными. Само лоно православия Византия под сатанинской угрозой. Уже у стен града Константина стоит треклятый султан. И что турки, что татары – всё едино семя, всё сатанинская погибель. А я для того и прислан на русскую кафедру, чтобы обрела твоя царская власть благодатную силу Господнего благословения. Державная власть в христианском государстве освящена Промыслом Божиим. У нас с тобой Священная миссия внедрить церковное сознание всем нашим подданным, вывести на путь света Христова все дикие, языческие народы, коими окружена твоя святая и великая Русь.
– Истинно, истинно, святитель! Как славно слышать мне тебя и как верно сказано в Писании: «Вы – соль земли. Если же соль теряет силу, то чем сделаешь её солёною?»
– Божиим позволением и твоей, государь, поддержкой. Бог даёт тебе власть, ты должен использовать её во имя блага подданных. Спасёшь державу – спасёшь и душу свою. Благословляю тебя, сын мой! – И митрополит трижды почеломкался с Василием Васильевичем, который был растроган до слёз, а покидая палаты владыки, думал: «Как верно это – что Бог ни делает, всё к лучшему!»
7
В честь митрополита Исидора великий князь дал пир, который длился три дня.
Званых было многое множество: все князья русские – великие, удельные, служилые, все лепшие бояре и воеводы, главы всех русских епархий, духовенство, иноземные послы и посланники, купцы, знатные придворные изографы и здатели [98]98
Здатель-созидатель, строитель церкви, монастыря.
[Закрыть]каменных церквей.
Епископ Иона, чьё имя в переводе на русский значило «голубь», кроток был, необидчив и миролюбив. Он на правах местоблюстителя митрополичьей кафедры занимал в Кремле монастырское подворье, но с приездом Исидора отправил своё имущество в Рязань, куда возвращался епископствовать. В день приезда в Москву он передал Исидору митрополичью печать и ризницу с утварью и драгоценностями, а также все договора с князьями о церковных владениях, которые были разбросаны по всей земле Русской. Митрополиты на Руси пользовались не только высшей церковной властью, но имели значительные земельные и имущественные владения. С тех пор как Андрей Боголюбский положил начало церковной собственности, пожаловав Успенскому собору во Владимире целый город Гороховец со многими сёлами, владения церкви стали быстро расти и приумножаться. Для обслуживания этих владений имел митрополит множество бояр и дворян, своих придворных и даже свой полк ратников.
Исидор то литурговал в Успенском или Благовещенском соборах, то пировал с великим князем, то беседовал с членами семьи Василия Васильевича, производя на всех неизменно самое благоприятное впечатление. Иона терпеливо выжидал, когда выберется у митрополита свободная минута, чтобы посвятить его в тонкости русской церковной жизни.
Как-то сразу после обильного застолья Исидор спросил нечутко:
– Скорбишь и сокрушаешься, наверное, что расстаёшься с полновластным управлением и мне, пришлому, всё даришь?
– Не скорблю, но сердцем болею, да-а, – печально согласился Иона. – Свой дар я навеки передал, как и всего самого себя, на служение Богу и Его Православной Церкви. А она нынче в запустении… Как не болеть. А ты, слышал я, в долгий отъезд готовишься?
– Присутствовавший при этом великий князь насторожился: – Покидаешь нас, владыка? Почему?
Исидор словно бы смутился, не сразу отвечал и неохотно, даже как бы с досадой, покосился на Иону – дескать, зря тот затеял разговор:
– В Италии готовится Восьмой Вселенский Собор, я зван на него, и это почёт не только мне, но и всей Русской Церкви.
И тут открылось, что Иона не такой уж и голубь:
– Не всякое собрание архиереев есть Собор. Вселенский Собор не может мудрствовать и отступать от истины, иначе это не Собор, а простое собрание.
– Кто же собирается от истины отступать? – обиделся Исидор – Не я же и не наша Православная Церковь!
– Значит, выходит, папа римский отступит, предаст свою веру латинскую и по-нашему креститься начнёт?
– Я надеюсь на это.
_– Суетна надежда сия! – открыто сдерзил Иона.
Великий князь слушал со всё растущим недоумением. Вмешиваться поостерёгся, но вечером призвал боярина Василия.
– Всё ли ты, Полуект Море, обсказал мне о своём хождении к Мраморному морю?
– Из того, что сугубый интерес для тебя может иметь, разве что владыка Исидор был до поставления игуменом константинопольского монастыря Святого Димитрия и по поручению императора ездил его послом на Базельский Собор.
– Значит, он уже побывал в Италии, а молчит, – прикидывал Василий Васильевич, ещё не зная, как к этому отнестись.
– Молчит, потому как знает, что ты спросишь: «А зачем ты ездил?»
– Да, да, зачем?
– Чего не вем, того не вем, но мыслю, что с потайкой тут дело, чую, замысливается что-то греками, а что – не прознал, уж не прогневайся.
При новой встрече с митрополитом Василий Васильевич обронил невзначай словно бы:
– В незнаемую землю, по неведомым дорогам надо ли без нужды ехать?… Какая она, Италия, с верой папской, с порядками заморскими? Такой ли у них уклад жизни, как у нас?
Исидор метнул на великого князя взгляд, в котором еле просматривалась снисходительная усмешка:
– И земля латинская мне знаема, и дорога туда ведома. А порядки заморские – всякие, уклад жизни иной, государь. Я собирался всё сказать тебе, да случай не подворачивался, об одном их обычае, который перенять не грех. Вот ты держишь рядом с собой охрану, а послов своих наделяешь грамотами. Зачем? Император итальянский и папа римский иначе поступают. Они окружают себя людьми как бы просто празднолюбцами, мужиками и жёнками. Но это не простые мужики и жёнки – они охрана, они порядок, если понадобится, наводят словно бы невзначай, невидимо. А у тебя что? «Великий князь повелел!..» – и под микитки прилюдно человека берут. И послы в иноземные страны едут от них под видом стряпчих, изографов либо калик перехожих без всяких хартий. И ты так поступай.
– Так и буду, – согласился Василий Васильевич, вспомнив о «простом» фряжском купце Альбергати-Алипии. Он вернулся в Москву на следующий день после прибытия митрополита Исидора со свитой. Василий Васильевич знал об этом, но разговор всё откладывал. И вот срок приспел.
8
Альбергати за заслугу, оказанную великому князю, получил серебряный слиток, на который мог бы купить возле Москвы целую деревню. Услуга стоила того – словно пелена упала с глаз Василия Васильевича, мог он теперь не только вопрошать да слушать велеречивого митрополита, но и прозревать намерения его.
Уверял Альбергати со слов людей из близкого окружения патриарха Иосифа и приехавших из Рима посланников и купцов, что в Италии предполагается не просто сбор представителей двух вер – православной и католической, но объединение двух Церквей, которые разделились в 1054 году и с той поры жили в непримиримом противоречии, которое выливалось нередко в прямую вражду и нетерпимость. Вот потому-то не был утверждён митрополитом Иона, который неизвестно ведь, согласился ли бы поехать в Италию, а если бы и согласился, то, кто знает, как повёл бы себя… А в Исидоре патриарх с императором были уверены, многое на его ум, книжность и изворотливость возлагали, а самое главное – не сомневались в преданности его личной.
После сообщения Альбергати великий князь обеспокоился не на шутку. С незапамятных времён– с Ивана ли Калиты, а может, с самого первого московского князя Даниила [99]99
…с самого первого московского князя Даниила… – Даниил Александрович (1261–1303), князь московский с 1276 г., сын Александра Невского. Положил начало росту Московского княжества, присоединил к нему Коломну, получил по завещанию Переславль-Залесский.
[Закрыть]– жили при великокняжеском дворце старики, которым было по сто и больше лет, назывались они верховными богомольцами за свою благочестивую жизнь и ветхость дней. В длинные зимние вечера, когда поневоле надо было коротать время в тепло натопленной хоромине, великий князь и все его чада и домочадцы призывали к себе этих богомольцев и слушали их рассказы о старине. Менялись князья, менялись и богомольцы верховные, а свидетельства о делах минувших свято хранились в памяти и передавались из поколения в поколение. И Василий Васильевич ещё ребёнком знал о всех главных событиях русской истории, начиная со времён Рюрика. Ему было хорошо известно, что ещё при великом князе Изяславе Ярославиче послы папы Римского пытались склонить Русь к католичеству, и тогда в 1069 году преподобный Феодосии Печерский [100]100
…преподобный Феодосии Печерский… – игумен Киево – Печер-ский, учредитель иноческого общежития на Руси. Родился ок. 1036 г. Он вёл самую строгую подвижническую жизнь и скончался в новопостроеннои им пещере в 1091 г. Им оставлено пять поучений печерским инокам, а также поучения к народу.
[Закрыть]в своём «Слове о вере христианской и латинской» противопоставлял веру католическую вере хрестьянской, как мраку – свет. С той поры с молоком матери усваивали русичи, что нет другой веры лучше нашей – такой, как наша чистая и святая вера православная.
Василий Васильевич чувствовал потребность с кем-то обдумать, обсудить слова Альбергати. Ионе он доверял полностью, но после этой поездки в Константинополь было у него ощущение своей вины – если признаться перед самим собой, то ведь из-за его промедления не послали Иону ещё несколько лет назад на поставление. Хотя, скорее, из-за дяди Юрия с его сыновьями все это промедление произошло, успокаивал себя и искал оправдания Василий Васильевич, но так и не решился пойти за советом к Ионе, а направился в Чудов монастырь – к батюшке Антонию, к которому всегда было идти легко и радостно.
Инок потрясённо и с прискорбием выслушал великого князя, не сразу даже собрался с ответом:
– Не наше дело вмешиваться в дела святительские, говорить: «А может, владыка не прав?» Господь Сам поправит или покарает, если надо. Слышал, третьего дня в Торжке на паперти церковной появился богохульник, прихожане не тронули его, но Бог Сам сразу покарал его – замертво положил на месте богохульства. И нас с тобой Бог может покарать, если позволим замутить православие ересью. Вера наша делает нас сильными, без веры разве победил бы Дмитрии Иванович Мамаев разношёрстный сброд, в котором кого только не было – магометане татары, ламаисты монголы, иудеи, армяне монофизиты, папские наёмные генуэзцы, кавказские и азиатские язычники. Вера православная превратила войско Донского в единую христианскую семью, потому он победил превосходящее его по силам собрание орд. Так мыслю: спасём мы православие – спасём и Русь, а спасём Русь – души свои спасём. А ты – великий князь, с тебя спрос особый.
Епископ Иона, хотя Василий Васильевич к нему и не обращался, сам нашёл повод сказать своё слово. Он тоже не считал возможным вмешиваться в дела святительские, тоже полагался на волю Божию, но была в его словах большая горечь:
– Нельзя удержать владыку от поездки, однако же, мы и сами можем разобрать спор и явить благое благим и злое злым.
А Софья Витовтовна вспомнила:
– Когда отец мой создал отдельную Литовскую митрополию под управлением Григория Цамблака, то Цамблак, который был болгарином, племянником нашего митрополита Киприана, спросил моего отца: «Князь, почему ты держишься латинской веры, а не греческой?» На это отец мой ответил: «Если хочешь видеть в греческом законе не только меня, но и всех людей моей земли, то иди в Рим и препирайся с папой и его мудрецами. Если переспоришь их, мы все примем греческую веру, а если не переспоришь, то всех людей моей земли, держащихся греческой веры, заставлю принять веру латинскую».
Слова матери повергли Василия в немалое смущение, но он не возразил ей, только повторял про себя, что сказал ему Антоний: «Спасём мы православие – спасём и Русь, а спасём Русь – души свои спасём».
Поговорить впрямую с самим Исидором Василий Васильевич отчего-то опасался, оттягивал момент объяснения и дождался, что тот сам начал трудный для обоих разговор:
– Собираться мне надобно в дальнюю дорогу, а казна митрополичья пуста, за шесть лет вдовствования поразграблена…
– А никак нельзя не ехать? – ещё надеялся на иной исход великий князь.
– Никак, государь, никак не возможно, дело то давно решённое. Вот приехал боярин мой из Константинополя, сообщил, что император Иоанн с патриархом Иосифом и с ними двадцать два митрополита и епископа, семьсот ещё других духовных и светских людей отправляются в Италию на папских военных галерах.
– На папских? Нешто своих нет?
– Ни галер, ни денег на дорогу и проживание в Италии – всё папа Евгений даёт.
– Но кто даёт, тот верховодит. Для чего это папе? Может, желает под свою веру греков подвести?
– Непременно так, – вздохнул Исидор. – Желает и надеется добиться своего, потому что у греков нет никаких надежд самим отбиться от турецкого султана. Вот-вот рухнет второй Рим – оплот и столица православия – Константинополь.








