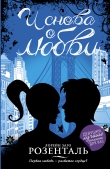Текст книги "Долгое-долгое детство"
Автор книги: Мустай Карим
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
К его окольной речи я уже привык. Со своим словом не спешу. Сам конец выведет.
– Лихая юность – бедная юность! Да, занес кинжал
мужество, занесенный кинжал не опустил – тоже мужество.
Это мне уже совсем непонятно. Занес саблю – руби, нацелил ружье бей. Я уже почти джигитом стал. В чем оно, мужество, разбираюсь.
– А зачем она сюда пришла, твоя юность? – спросил
я, подлаживаясь к Исабековой речи.
– С тобой увидеться, познакомиться. Может, другом примешь, может, проклянешь и прогонишь прочь.
Я, не зная, что сказать, молчал.
– И все же познакомлю...
...Мне было двенадцать лет, когда кровник убил моего старшего брата. И старшим мужчиной в доме остался я. Отец еще на турецкой войне пропал. Отомстить предстояло мне. У кровника был сын, мой ровесник, год в год, месяц в месяц со мной родился. Звали его Боташ. В тот день, когда ему семнадцать исполнится, должен я его убить. Таков закон. Самого кровника убьешь – он умер и тем спасся. А вот сына убьешь – всю жизнь истязаться будет. Как истязались мы. В ту пору урюк бело-розовым цветом зацветет, склоны гор застелит, птицы в кустах будут петь, повесеннему зазвенят реки, и каждая богом созданная тварь будет жить и радоваться, что живет. Вот в эту пору черной ночью вонзится мой кинжал в сердце Боташа. День за днем, месяц за месяцем я свою к нему злобу выхаживал, ненависть разжигал. Кинжал мой, которым волос можно было расщепить, пять лет и пять зим оттачивал. На острие муха сядет насквозь пронзит. Сначала я годы считал, потом уже дни стал считать. И с каждым днем близится смерть Боташа. Пробьют часы судьбы, и я душу отниму, и Боташ ее отдаст. Кровь кровника в земле рассосется, исполненная месть силы мне даст, дух укрепит.
Боташ был тщедушный мальчик. К тому же колченогий, совсем еще малышом с крыши сакли упал. Но лицом приветлив, нравом весел, духом волен. Был бы он безобразен, сумасбродлив, злобен! Нет, совсем не такой, будто нарочно, будто и в этом чей-то умысел был. Во всех мальчишеских играх его голос всех радостней звучал. Но только я подойду, он вмиг умолкнет и лицо, будто пепел, серым становится. Смерть свою чует. А подрос когда, первым в песнях, играх заводилой стал, лучше всех на майданах в бубен бил. Но только я на майдан приду, он оробеет, за людей спрячется, потом, ковыляя, домой уходит. Смерть чует.
А порой так виновато глянет, что вся моя решимость пропадает, ненависть тухнет. Но нащупаю я кинжал на поясе, и снова вспыхнет злоба.
Отец Боташа – мой кровник – во время охоты на косулю свалился со скалы и прямо в ад полетел. А тело, завернутое в бурку, уложили поперек седла и привезли в аул. Боташ вел лошадь под уздцы. Я по дороге на них наткнулся. Боташ опустил голову, отвернулся и прошел мимо. Один мертвец в седле покачивается, другой мертвец с поводьями в руке по тропинке шагает. Этому тоже недолго осталось шагать.
Зацвел урюк, и настал час, которого я ждал пять лет. Но, как на грех, будто опять по чьему-то умыслу, ночь была совсем не такой, какой я ждал. Стояла яркая лунная ночь, которую из конца в конец было видно. Днем Боташ в Нижний Бигим на базар уехал и еще не возвращался.
Я вышел из аула и возле дороги, по которой он должен был вернуться, затаился между камней. Уже сама лунная ночь рассудок мутит, есть в ней зелье какое-то. Весь мир будто враз онемел – ни звука... А... вон на уступе горы появился дикий козленок. Матери не видать. Бедняжка, среди ясной ночи, видать, заблудился. Туда глянул, сюда глянул, подал бы голос – волка страшно. Может, совсем близко залег матерый, его подстерегает. Вскочит и зарежет вмиг. Был в этом мире красивый козленок, и нет его... Слава богу, жив-здоровехонек ушел малыш своей дорогой, на сей раз на зверя не нарвался. Но волк все равно где-то затаился... Этот козленок мне душу разбередил, сомнение растравил. А я-то сам который из них? Глупый беспомощный козленок или волк, его подстерегающий? И ответ я должен дать сейчас же. Не то вон – скрипскрип – уже арба Боташа скрипит. Сюда ползет. И, словно за ответом, опустил я руку к кинжалу. Но руку свело, не слушается. Арба же все скрип-скрип, на меня накатывается, волы, пофыркивая, на меня уже налезают. Боташ арбу сзади толкает, усталым волам помочь старается. Ему, калеке, наверное, совсем тяжело. В этом месте я тоже всегда своим волам подсобляю. И сейчас показалось, не Боташ это, а я сам арбу подталкиваю. Я здоров, силен. Мне что.
В голове все смешалось: глупый козленок, волк матерый, волы, луна, Боташ, я сам... Все скрипит арба, и Боташ покрикивает, волов подгоняет. Над горой большая яркая луна висит, вконец с ума сводит. Лунный свет на цветах урюка сияет. В такую ли ночь душу губить? В такую ночь душой делиться надо... Кровь убитого брата, в земле рассосавшуюся, на помощь зову. "Месть! Месть! Месть!" – повторяю про себя. Проклятия всего рода в ушах раздаются. За трусость, за измену древнему закону клянут они меня. Снова к кинжалу тянусь. Свело руку, не отпускает. Опять на тот уступ рядом с луной вошел козленок. Арба Боташа со скрипом протащилась мимо.
Вошел мой кровник в аул, и дорога домой, в родную саклю, была отрезана навсегда. Такую измену обычаю искупить нечем. Если бы я, отпустивший кровника, и вернулся, род не принял бы меня. Род проклял бы отступника и изгнал его. И тогда я сам изгнал себя.
С неотмщенной кровью брата на совести бродил я по свету. Жесть и молоток – древнее дедово ремесло – дали мне кусок хлеба. Безродный, бездомный, прибрел я наконец сюда и здесь нашел себе пристанище. Холодным, неуютным поначалу было мое гнездо. Но, сам видишь, под старость и в мой дом удача заглянула. И снова я коня оседлал...
– Вот, мырза*, этот джигит и стоит сейчас по ту сторону костра, сказал Исабек и опять кивнул в ночную пустоту. Он ждал ответа. Я промолчал. Да и что мне было сказать?
...Я уехал из аула. Исабек все так же оставался при своих лошадях. Когда я с фронта писал домой, то после безымянных приветов соседям посылал именной привет и Исабеку. В каждом письме из дому был ответный поклон и от него. Но в ту весну, когда уже кончалась война, вместо привета от Исабека пришла весть о его смерти. В том письме было написано: "Случилось у нас большое горе. Сосед наш Исабек из этого мира на своих, как говорится, ногах ушел. Случилось это в ледоход, когда он пас табун на излучине Капкалы. Один жеребеночек резвился возле берега и упал в воду. Сосед наш прямо меж льдин и бросился, хотел его спасти. Доплыл до жеребенка, схватил. Но выплыть не смогли, так в обнимку и ушли под лед. Видать, того не знал покойный, что в том месте воронок много. Тела его не нашли. И похоронили в могиле зилян, шапку, сапоги, кинжал, которые он с Кавказа привез, и его седло. Людей на похоронах было бессчетно. Алифа пластом лежала, в рыданиях по земле каталась..."
Вот так вместе с демским льдом и уплыл в последнее свое странствие наш сосед Исабек.
Тогда, возле костра, Исабек, прежде чем познакомить меня со своей юностью, сказал: "Может, другом примешь, может, проклянешь и прогонишь прочь". Я выслушал рассказ, но ответить ничего не смог. Не было у меня права сокровенных чувств и пожизненных его сомнений касаться.
Неотмщенная кровь...
Мырза – обращение к младшему мужчине.
В первые годы войны, когда боль за страдания родины жгла сердце, казалось нам: если бы каждого немца, одетого в военную форму, можно было пять раз убить, пять раз и убили бы. Такая злоба была. Убить! Стреляет когда, ест, спит, молится – убить! Седой ли старик, безусый ли сопляк – убить! Хоть одного убить! Угли этой ненависти они сами в нас вложили, сами в пламя раздули. Не от роду мы такие лютые. Кровавую эту баранту они сами начали. Пусть теперь все это змеиное семя расплаты ждет. Ни одному пощады нет.
Но когда только-только солнце поднимается и два синих глаза, в которых ни жизни, ни надежды, смотрят на тебя, а с листьев, как слеза, сверкая, капает роса и весь мир затих, вот тогда можно ли, наставив дуло человека прямо в лоб, дернуть за курок? Оказывается, нельзя.
Вот так случилось со мной.
В Ясско-Кишиневской операции мы порядком покрошили врага. Облако дыма вперемешку с пылью и гарью висело над полями. Но сутки назад побоище, оторвавшись наконец с этого места, откатилось к берегам Прута. На закате дня командир отведенной на отдых роты показал мне, фронтовому журналисту, поле вчерашней битвы.
– Когда бой, самого боя всего и не оглядишь. А вот отхлынет когда, тогда и видишь, какой был ад кромешный,– сказал он.
Да, это я и по себе знаю. Вон будто половину всего, что немец имел, здесь оставил. Разбитые танки, орудия, минометы, автомашины, тракторы... И счета нет. А еще днем раньше расколошматили здесь конноартиллерийскую дивизию. До сих пор в кукурузе нерасседланные лошади бродят. Несколько из них, завидев нас, молча пристали к нам. И фашистские недобитки тоже, наверное, в этой кукурузе лежат, хоронятся. Но к нам пока не пристают.
Мы услали шофера вперед, а сами взяли двух лошадей под седлами и поехали следом. Мне досталась серая в яблоках кобыла. Увязавшись за нами, пришел к селу и небольшой косяк опальных коней. На краю села прямо на улице три солдата сидели вокруг большой миски и, черпая кружками, пили молодое вино. Моя кобылка, поравнявшись с этим застольем, головой растолкала сотрапезников и, уткнувшись в миску, с шумом начала дуть вино. Только тут мы поняли, что лошади хотят пить. Мы отвели косяк к небольшой речке. Кони напились, и я поехал дальше. Мне нужно было спешно догнать свою редакцию. Я знал, что остановилась она в Болграде, маленьком городке. Смотрю на карту: если по большаку ехать, то в обход и за двое суток не доберешься. Я вернулся в село и у старого молдаванина спросил прямую дорогу. Старик охотно и весьма толково разъяснил. Я проверил по карте, все сходилось.
_ Поберегись, эта дорога безлюдна будет, – сказал он напоследок. Даст бог, завтра к вечеру там будешь. Только лошади отдых давай.
Уже в сумерки, на судьбу положившись, вышел я в путь. Узкая тропа тянется в бескрайних кукурузных дебрях. На восходе луны проехал я мимо небольшого хуторка. Потом разрушенное еврейское местечко миновал. Все как старик говорил. А мир как притих, так все тише и тише становится. И чем тише он, тем тревожнее мне. На войне тишина всегда угрозу таит. И лунный свет душу изнуряет. В первый раз я вот так с глазу на глаз с луной остался. Поддайся ее ворожбе – и совсем голову потеряешь. Наверное, в эти годы на поле боя все изведал: и бешеную ярость и позорный страх. А сегодня совсем что-то новое. Страх тишины крупной дрожью затряс меня. Ладно, кобыла моя бойкой оказалась, от любой тени не шарахается. Женская порода, стойкая, что и говорить. Да и то молодое вино, видать, впрок пошло.
К рассвету начало меня в сон клонить. Ноги затекли, отяжелели, сколько лет я их не вдевал в стремена. А кобылка моя совсем разошлась. Порой даже и рысцы подпустит. Может, думает, что домой в Германию возвращается? Я со сном борюсь. То он верх берет, то я. Лунный свет тает, уплывает, уже рассвет его теснит понемногу. Но и лунный свет так просто не сдается, уходить не хочет. Тоже схватка идет. Свет ночной и свет дневной друг друга затмить-заглотить пытаются. То свет, то сумерки.
Вдруг лошадь, резко вскинув голову, стала. Я чуть не опрокинулся. Передо мной стоит большое красное солнце. Знать, в него и уперлись. Солнце покатилось дальше. Шагах в трех от дороги торчит из кукурузы посаженная на тонкую шею всклокоченная рыжая голова. Я мигом вырвал пистолет из кобуры и наставил на узкий, в потеках грязного пота лоб. И только тут заметил пару синих глаз под этим лбом. В этих глазах и страху уже нет, одна мольба осталась. Вот сейчас он те самые четыре слова выкрикнет, которые каждый фриц, когда в одиночку в плен сдается, говорит: "Сталин карош, Гитлер капут!" Пожалуй, так и скажет. Коли скажет, валлахи, спущу курок. От трусливого этого заклинания, сказанного, чтобы жизнь вымолить, еще больше омерзения, больше ненависти.
Но этот все молчит. Суда ждет. Он захватчик. Я этой земли хозяин. И приговор мой будет правый. Приговор – он вот здесь, в стволе моего пистолета.
– Мне восемнадцать, – сказал он. Колени дрогнули, он качнулся, но не упал.
...Вдруг я вспомнил один случай. Два года назад восемнадцатилетнего механика-водителя, обвиненного в дезертирстве, расстреляли перед строем бригады. А дезертирство его вот в чем было: когда мы стояли в резерве, сел он на танк и поехал за десять километров в свою деревушку навестить мать. За это его приговорили к смерти. В тот день нацеленные в восемнадцатилетнего паренька автоматы расстреляли и таившиеся в каждом из нас беспечность, разгильдяйство, безответственность. Так я объяснил этот безжалостный приговор. Объяснил – не оправдал. По сути, парнишка никакого вреда не причинил. Только к матери наведался. А вернулся, расстреляли.
Вот он, весь в фашистской шкуре, вчера еще стрелявший в моих сородичей, стоит передо мной мой кровный враг, мой кровник. Его отцы и братья в пепел обратили села Смоленщины, в шахтах Донбасса тысячи людей живьем засыпали, сквозь реки слез украинских девушек угоняли в германское рабство, седины наших матерей позорили, малых детей в огонь бросали. Кто за все это расплатится? Слышишь ты, рыжая нечисть с синими глазами? С кого взыскать?
Он моих дум не слышит. Иначе в глазах надежда не всплыла бы. И эта надежда мою ярость глушит. С кукурузных листьев капает роса. Лик земной так спокоен, ясен, беспечен. Будто и не было у него прошлого, только будущее есть. Я вздрогнул. И мир как-то странно вздрогнул.
Я с сердцем затолкнул пистолет обратно к кобуру.
– Ступай вперед, – сказал я, показав на дорогу. Он, припадая на ногу, прошел вперед. Больше я ему и слова не сказал, в лицо ему не глянул.
Так мы и на большак вышли. Солнце стояло уже высоко. Возле одного моста повстречались с колонной пленных. Сержанту, командиру конвоя, я передал своего пленного и сказал:
– Вы в пути, хромой, дескать, того-сего не вздумайте... А почему так сказал, не знаю. Может, подумал, коли так вышло, пусть уж до дому дойдет. А может... Нет, словами здесь не объяснишь.
АК-ЙОНДОЗ
В самый канун сабантуя к нашим соседям невесту привезли. Не к тем, что совсем рядышком, соседям по огню, а к тем, что подальше – через одну избу. Довольно справно хозяйствовавший старик Галлям оженил – как у нас говорят, зрячим сделал – своего среднего сына, молчальника Хамзу. В наших краях свадьбу сначала зимой в доме невесты играют. И только уж летом, в самую красивую пору, на лошадях впристяжку, с колокольчиками, невесту к становью жениха привозят. А покуда, с зимней свадьбы начиная, каждый четверг жених в дом к невесте с ночевкой ездит – "молодую тешить". Через улицу ли всего перейти, тридцать – сорок верст ли ехать – он в дорогу, как положено, готовится: расчесывает, заплетает коню гриву и хвост, лентами украшает, медные бляшки на седле и уздечке песком начищает. И со двора верхом не выезжает – выводит коня под уздцы, и только уже на улице старается покрасивей на коня вспрыгнуть. Да и там сразу коня с гиканьем в намет не пускает, а некоторое время, горделиво выпятив грудь, смотрит прямо перед собой кто не видел, дескать, пусть поглядит.
В прошлом году мой Самый Старший брат Муртаза, а в позапрошлом Хажимулла, сын Мансура, вот так же красовались. И даже самый вроде неряха, как в женихи выбьется, чуть не щеголем становится.
А вот как Хамза "молодую тешил", даже не заметили. Только раз после весенней пахоты и съездил, да и то за старшим братом увязавшись. Ровесникам, пристававшим, почему, дескать, он суженую не проведает, не порадует ее, он вроде бы так ответил: "Путь дальний, дорога ненадежна, недолго и с лихим человеком повстречаться. А с таким только встреться – будущая жена овдовеет, неродившееся дитя – осиротеет. Тамга наложена, небось не заблудится, куда назначено, сама явится".
Мужики у нас вечером на чьей-нибудь завалинке соберутся и сидят, табак курят да лясы точат. Так вот они по-иному рассказывали. Оказывается, невеста сама такое условие поставила: покуда, говорит, от жениха провожатые не приедут, чтоб сам и не показывался. "А почему так сказала, один господь поймет, коли понимания хватит", – сказал давеча пастух Нуретдин.
Но и слово молчальника тоже верным оказалось. Тамга-то выжжена. Так что нигде невеста не плутала, прямиком в жениховский дом вошла. Говорили, что привезли ее издалека – с верховьев Демы. Да ведь и собою – глазам отрада, чуткой душе чудом кажется. Правда, в нашем ауле красивых девушек, пригожих невесток, статных жен тоже мор не выскреб. Хвала господу, здравствуют. Одна Гульбустан, дочь нашего верхнего соседа Мансура, чего стоит. Ростом-статью литая будто. И ходит-то не шагом – то ветром пробежит, то волной проплывет. У нее только походок на пять ладов, говорят. Нынче весной, когда в городе картошку высаживали, старик Мансур, за что-то рассердившись, прикрикнул на дояь: "Оставь-ка ты эту свою походку "барыня", Гульбустан!" Видно, та забылась и во время работы походкой "барыня" поплыла.
Когда моему Самому Старшему брату Муртазе невесту искали, хотели мы сватов к Гульбустан послать, но передумали. "Красивая жена – свет на округу, работящая жена – мужу подпруга, – решили мы. – Не по нашим будет хоромам очень красивая Гульбустан". Вот и взяли брату Муртазе средней красоты Бику с Тименеевской улицы. Оказалось, брат и сам еще раньше её приглядел. Мой отец всяких там послов-недотеп посылать не стал, к отцу невесты сам отправился. Пойти-то пошел, да не в духе вернулся. За вечерним чаем он так сказал:
– Невеста мне сразу понравилась. Есть в ней косточка, нашей под стать. Но вот сват со сватьей... Похоже – скупы очень.
– Что, много скота просят? – сказала Старшая Мать.
– Нет, просят немного. Не жадные, говорю, а скупые.
– Хм, с одного раза всего не разглядишь, мы же с ними и не знались покуда.
– Масла на стол выставили четверть катышка, сахар колют мелко, не крупней гороха...
Старшая Мать больше ничего не сказала.
Сноха нам досталась славная, не нахвалимся. А вот сват со сватьей и впрямь один другого скупее...
Не скажу, что таких, как Гульбустан, у нас тысяча, но, если посчитать, все же порядком наберется. Недаром со всей округи самые бойкие джигиты возле нашего аула, как осы вокруг колоды с медом, вьются. Покружатся, покружатся, да так ни с чем и уберутся. Красивых девушек только на своих парней и хватает. И то не на всех. С чего бы иначе Хамзе откуда-то с верховьев Демы себе невесту высватывать?
Но и в нашем ауле, красавицами славном, новая сноха как прибившийся к стаду телят олененок была. Во всем ее облике было нашим глазам чтото непривычное, что-то таинственное – и в лице ее, и стати-поступи, и во взгляде, и даже в голосе. Словно не на этой земле, не под этим небом она росла, не этим воздухом дышала. И будто не воду, а только шербет пила. Не здешней водой голос ее посеребрен. Немало у нас женщин, что одним взглядом мужчину в плен возьмут, Меджнуном сделают, но такой еще не было. Даже имя ее, дотоле никогда никем не слыханное, – Ак-Йондоз – Белая звездочка, Ясная звездочка, Полуденная звездочка.
Когда я впервые услышал это имя, я невольно взглянул на небо, будто думал увидеть сверкающую среди бела дня ясную звездочку над головой. Не увидел. Но и всю жизнь, стоило донестись ее имени до слуха, я смотрел на небо и искал звезду. Не я один, наверное, хотел найти ее тезку и близнеца.
Наверное, кто-нибудь спросит: "Что же это за небесная порода такая? Хоть опиши ее".
Я на это так скажу: солнце, луну как опишешь? Солнце для каждого только одно, луна – только одна. Так и Ак-Йондоз была – Ак-Йондоз. Только одна.
Когда Ак-Йондоз с соседскими девушками, по обычаю, к роднику свою тропу проторила и с водой возвращалась, вся улица смотрела. И впрямь редкое было зрелище. Оба ведра у молодой снохи, словно два глаза тоскующих, до краев полны. И хоть бы капля выплеснулась! Идет, пятками земли не касается, только носками чуть дотрагивается. Сама еле приметно улыбается. Чему же она улыбается? Не меня ли приметила: вот я, двенадцатилетний мальчишка, завороженный ею, сижу на заборе. Кому же она улыбается? Себе самой? Людям? Или – миру другому? А ведь всмотришься – будто вот-вот она расплачется, расплещет свою улыбку...
...Такую улыбку я потом в жизни только дважды видел. Моя современница, соплеменница моя, ненадолго, будто только по пути забредшая в эту жизнь, однажды взглядом и улыбкой своей стиснет мне сердце... Это в первый раз. А во второй – бессмертная "Джоконда" Леонардо да Винчи, вечная Мона Лиза, улыбнется – и душу мою в небо вскинет, а потом бросит в бездну...
В доме жениха шумное застолье затянулось далеко за полночь. Мой брат Салих и я, два холостяка, легли спать на крыше сарая. Звезд полное небо. Я лежу и смотрю на них. Есть голубые, есть зеленоватые, и нет среди них белой звезды. Наверное, она одна-единственная, и только в свой час восходит она. Может, и не на небе она сейчас, а вошла в женскую плоть и спустилась на землю. Интересно, что бы Асхат сказал про это? Только его сейчас дома нет, он в соседнем ауле стадо пасет.
Понемногу и на Галлямовом дворе суматоха улеглась. И собаки по аулу поутихли. Уже и петухи первой весточкой перекинулись.
Вот тогда-то донеслась с Нижнего конца улицы мелодия гармони. Поначалу она ласково, протяжно окликнула кого-то, затем горячо, захлебываясь, стала рассказывать о тайных сердечных болях своих, потом рассказ перешел в мольбу, в жаркие заклинания, и вдруг на полуслове мольба оборвалась в неутешном плаче. Потом замолчала гармонь и, будто пытаясь унять дрожь в груди, глубоко вздохнула. Но гармони эти слезы голоса не сбили. Немного передохнула она и страстно, высоко, на весь ночной мир, запела о своих мечтах, о будущих радостях...
Я не только слышу эту песню, я уже вижу ее. Взмывая и опускаясь, как полет ласточки, оставляя светящийся след за собою, летит она с Нижнего конца улицы на Верхний.
– Опять в Марагиме бес взыграл, – сквозь сон сказал Салих.
Эх, брат! Зачем ты так говоришь? Какое тут дело бесу? Сказал ты так и снова захрапел. И мелодию, только что вселенную заворожившую, сиянием улицу осветившую, одним своим словом потушил.
Старшая Мать так бы не сказала. Она сказала бы: "Опять Марагимово одинокое сердце вышло искать кого-то". Тогда я еще не знал, что это такое – полуночное одиночество. Только много лет спустя узнаю я, что того часа тоска – самая глухая тоска. Но все равно, уже сейчас – я всей душой на стороне Марагима. И горе его, и радость не развеялись в ночной пустоте, они до капли в моей душе растворились. И кажется – во всем мироздании сейчас только двое бодрствующих – он да я...
Потом, когда уже серый пепел отгоревших моих годов лег на волосы, я постиг такую истину: люди со всем – с красотой красивого, с безобразием безобразного, с злобой злобного – свыкаются. Так что из-за этой людской привычки красивые и добрые крепко проигрывают, а выигрывают безобразные и злые. Но вот Ак-Йондоз и через месяц, и через год, и во всю жизнь до заката так и не стала привычной, среди нас не затерялась. Ступенькой одной до земли не дошла, всегда чуть повыше стояла. Не от высокомерия или надменности – этого в ней и следа не было. Люди сами ее так приняли, так расценили и никогда уже потом, ни при каких случаях, с этой высоты не снимали.
Поначалу наша улица Серее на красоту да пригожесть Ак-Йондоз наглядеться не могла, потом трудолюбию, сноровке в работе, ее радушию и приветливости дивились. Говорили, что если Галлямова сноха нить спрядет или холста наткет – шелку не уступят; лапши нарежет – струны тоньше. А платье наденешь, ею сшитое, посмеивались бабы, будто молодой кожей обтянулась, – так удобно и ловко. Раньше, чтобы Галлямову пегую корову подоить, все четыре ноги ей связывали. А теперь она, как из стада вернется, за снохой по пятам ходит. Это мы сами каждый вечер видим. Даже норовистая Галлямова кобыла божью благодать приняла. Поехали однажды в лес по дрова, взяла Ак-Йондоз вожжи из рук мужа и сказала только: "Аида, моя умница, айда, моя прилежница". Услыхала эти слова кобыла, обернулась и кивнула два раза: ладно, дескать, поняла, такой и буду. Сено ли сгребает Ак-Йондоз, рожь ли жнет, люди просто так, безучастно, мимо не пройдут. Стоят, смотрят, о своих трудах позабыв. Потом очнутся, крикнут: "Бог в помощь!" – и уходят, оглядываясь. "И вам так же!" – мужнего слова не дождавшись, откликнется Ак-Йондоз. Хам-за, и женившись, остался все таким же неотесанным.
Я еще не знал тогда, что есть такие женщины: птицу на ладонь посадит – птица запоет, на бутон дунет – цветок раскроется. Первой из них и была Ак-Йондоз. Минлекай-енге, мать Шагидуллы, каждый раз говорила: "Эта Ак-Йондоз только по улице пройдет – улица краше становится. Тьфу, тьфу, тьфу! Как бы мой темный глаз ее не сглазил!"
Старик Галлям – человек замкнутый, с соседями не больно знается, живет особняком. С их двора сор на дорогу не ссыпают, секреты не разлетаются. У Минлекай-енге стоит облезлой курице два куста картошки разрыть, вся наша улица полные о том сведения получает. У этих же, хоть лошадь падет, звука не услышишь. Как там, в этом доме, Ак-Йондоз живет, это миру неведомо.
С того дня, как вошла в дом сноха, прошло торопливое лето, пожелтела, отгрустила осень, большая непочатая зима началась и кончилась, побежала по оврагам талая вода. Вот сколько времени гармонь Марагима голоса не подавала, будто совсем языка лишилась. Сначала люди только удивлялись, а потом пришла смутная обида: вот была привычная утеха – и даже ее отняли. Как же так? Из месяца в месяц, из года в год, если не каждый день, то каждую неделю слушал аул грустные напевы Марагима и печалился. Вдруг – отрезало будто... Говорят, неспроста это. Видно, бедная душа Марагима совсем заблудилась; кого искала найти отчаялась. Душа надежды лишилась, гармонь – языка. Наверное, так. А может, и не так все это.
Была у меня в детстве одна скверная привычка. Нырну с вечера с головой под одеяло, притворюсь, что сплю, и слушаю, о чем взрослые говорят. Для убедительности даже посапываю время от времени. Ни дать ни взять – соглядатай! Тьфу, нечисть! Как вспомню, и сейчас уши горят. Но и это, собственно, не первое мое пакостничество. Первое еще раньше, лет четырех-пяти было.
Повадился я как-то к соседям нашим, к Каюп-агаю, ходить. Они от нас через дорогу наискосок живут. Что ни день – там торчу. Есть у них две дочери, на выданье девицы – Зайнап и Ямиля. Усядутся они, одна на крыльце, другая перед клетью, и весь день через двор переругиваются.
В один день Зайнап меня к себе зазовет, даст какую-нибудь безделицу, вроде пуговицы, и учит меня всяким словам, чтобы я ими Ямилю обругал. Она мне на ухо шепчет, а я вслед за ней горло деру:
– Ты с горбатым Хабутдином в обнимку лежала! Тебя слюнявый Ханса целовал! Сладко было с криворотым Хансой целоваться? Ты вдобавок Габбасу-дурачку любовное письмо писала! Стыд! Срам! Позор! Чем письма писать, ты лучше своему Габбасу штаны сшей! А то он круглый год без штанов ходит! – так мы обличаем Ямилю во всех ее немыслимых грехах, покуда та не расплачется.
На другой день уже Ямиля подряжает меня. Сунет мне пустой спичечный коробок, и я перебираюсь к клети. Со вчерашним рвением, но теперь уже со слов Ямили, я обличаю Зайнап:
– Ты воровка! Мыло украла! Гребешок украла! Ты веру продала! Ты уразу (пост) не держишь, тайком жрешь! Ты врунья! Поэтому тебя никто не любит! Даже Габбас-дурачок на тебя не посмотрит! Думаешь, своим кривым носом, крюком своим, жениха подцепишь? Недотыкомка! Упырь! Банная кикимора!
Когда дело до кривого носа доходит, Зайнап бежит к Ями-ле и вцепляется ей в волосы. Здесь уже считается, что на сегодня я свою работу выполнил.
Так изо дня в день, переходя из рук в руки, делал я свое постыдное дело.
А потом всю жизнь забыть не мог. Как вспомню, вздрагиваю. Вот так в дурном сне вздрогнешь и проснешься. Потом думаешь: "Ладно, хоть только сон". Я тоже порой говорю себе: "Давно это было, ты даже сна от яви еще не отличал". А забыть не могу. Значит, на всю жизнь урок. Распознанная ошибка, даже прегрешение, если за них расплатился, со временем становятся твоими советчиками, требовательными друзьями. А нераспознанные или сокрытые так и остаются врагами. Я всегда старался помнить об этом. Коли сегодня голосом Зайнап кричать, завтра – голосом Ямили, то и совсем без голоса останешься.
...Я уже давно под одеялом лежу. В избе только две мои матери. Старшая Мать летает что-то, Младшая Мать отскребывает дно казана.
– Слышала, толки всякие по аулу ходят, – сказала Младшая Мать, про Марагима и Ак-Йондоз.
– Все толки слушать – голову себе дурить... Брось, Ва-зифа! отрезала Старшая Мать.
Но Младшая Мать не утерпела, что знала, в себе не удержала:
– Крепко друг друга полюбили, говорят, как Тахир и
Зухра...
Старшая Мать вздохнула. Потом тихо промолвила:
– На любви греха нет. Вот баловство без любви – грех... Если бы ты за нашего без любви пошла, не знаю, как бы мы с тобой ужились: мир широк, да на двоих тесен бывает... Любовь все оправдывает, все прощает...
– И грех свой, и благость свою каждый сам несет Разве я их виню? сказала Младшая Мать. – Оказывается, Марагим и Ак-Йондоз уже давно друг друга знают. Еще в тот год встретились, когда наши в верховья Демы на жатву нанимались. Поэтому Ак-Йондоз за Хамзу и согласилась выйти. Она, говорят, так и сказала: "Не то что за Хамзу, в ад прямиком пойду, лишь бы раз еще Марагима увидеть". Или подумала так.
– Когда бы господу столько знать, сколько иные знают... усмехнулась Старшая Мать. – На беду, люди больше положенного знают, еще больше того болтают.
– Да и Марагиму уже под тридцать, наверное, – сказала Младшая Мать, якобы завершая разговор.
– Так ведь любовь к стадам и годам не приценивается. Ты и сама это знаешь, Вазифа.
Младшая Мать на двадцать лет моложе моего отца. Кажется, Старшая Мать на это намекнула. Нет, не со зла, так просто, к слову пришлось...
Вот какой секрет я из-под одеяла выведал! Что такое любовь, я уже знаю, на себе испытал. В прошлом году мы с девочкой, с которой на одной парте сидели (имени не скажу), до половины зимы страстью горели, письмами обменивались. Каждый вечер до самой ночи я ей длинные-длинные письма писал. Песни даже вставлял:
Для тебя гармонь играла.
Серебро-кольцо сверкало. Хоть утопишься – достану Со дна озера Байкала!
Наши нарадоваться не могут: "Видно, Пупок по школе крепко скучал, вон как за грамоту взялся. Каким прилежным ребенком оказался! Спины не разгибает, уроки учит!" Старшая Мать иной раз от других отдельно меня чем повкусней угошает. "Ты грамоту постигаешь, тебе надо вкусно есть. Память окрепнет, голова еще лучше работать будет".