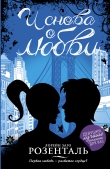Текст книги "Долгое-долгое детство"
Автор книги: Мустай Карим
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Вечером я на сером мерине верхом отправился за околицу на выпас и завернул к Асхату. Он тоже выехал верхом на вороной. На той стороне оврага мы, стреножив, отпустили лошадей и уселись на траве. Я сунулся в карман за гостинцем, но свалявшийся чак-чак прилип к холщовым штанам. Только совсем вывернув карман, мы смогли отодрать его. Половину гостинца Асхат протянул мне.
– Наелся – в горле еще стоит. Вот! – показал я, разинув рот.
Он, по своему обыкновению, не спеша, уважительно начал есть.
– Мне сегодня опять влетело, – сообщил мой приятель, погладив скулу.
– За что?
– За песню. Отец проснулся утром, весь по макушку в пуху, у него подушка ночью прорвалась. А мне и надо было выскочить:
Поднялся отец с подушки – Пух и перья на макушке. Ух, теперь от всех подряд Пух и перья полетят!
"Чтоб шайтан тебе на язык плюнул", – крикнул отец и подшитым башмаком запустил. Прямо в срамное место попал, тут я и переломился пополам. Сам дурак, язык даже свой сдержать не могу.
Белоголовый одноухий Асхат, если взглянуть вдруг, похож на самовар с отломанной ручкой. Даже лучи закатного солнца играют в его волосах, как переливались бы они в прозрачном чаду самовара.
Внизу под горой расстилается чуть заметная глазу ясная синева.
– Вон та синева, – говорит Асхат, – она с неба сыплется. За целый день свод небесный накаляется, вот под вечер и сыплется с лазури синяя пыль.
Чистая правда. Откуда же еще взяться такой синеве? Если бы из земли поднялась, был бы просто туман. Вечер высок, тих. В алеющем небе ни облачка, на земле ни ветерка. И долгая горестная песня кого-то, едущего через луг, разрезала тишину. Должно быть, верхом едет, Пеший человек не смог бы петь так широко и так безотрадно. Я и сам, только на лошадь залезу, или веселюсь, как сумасшедший, или совсем сникаю.
Ясно расслышали мы только последние слова песни: "...Не войдет человек в чужую могилу..."
– Это Рамазан, сын Шайхи, – Асхат тут же узнал певца по голосу. Сильно горюет он по отцу...
С неделю назад случилось событие, потрясшее весь аул. Два брата Кашафетдин и Шайхетдин – строили возле деревни Лекаревки мост через Дему. Уже совсем достроили мост, как оступился Кашафетдин и упал в реку. Он не умел плавать. Пытаясь спасти старшего брата, Шайхетдин прыгнул вслед за ним. Ушел под воду и больше не показался. Кашафетдин кое-как прибился к берегу, а Шайхетдин так и исчез. Только через три дня где-то в низовье Демы выплыло его тело... Оказалось, что, ныряя, он ударился головой о корягу.
Давно затих голос Рамазана, а его песня все еще звучала в ушах: "Не войдет человек в чужую могилу..."
– Асхат, а Асхат! – сказал я моему загрустившему другу. – А ведь, если подумать, Шайхетдин не в свою могилу вошел. Умереть-то Кашафетдин-агай должен был.
– Не знаю, – покачал головой Асхат.
Надо будет у Старшей Матери спросить. О рождении человека она все знает и про смерть, наверное, тоже.
Но спрашивать у нее я все же не стал. Не любит она, когда про смерть допытываются.
Асхат долго молчал, и, когда начал говорить, что-то загадочное было в его голосе, и мне опять стало неспокойно.
– Есть у меня две тайны. Сумеешь сберечь – обе тебе открою. Клянешься?
– Хлебом клянусь.
– Ты же знаешь черноволосую, черноглазую Фариду с вашей улицы. Она сирота, дом у них высокий...
– Знаю.
– Мачеха Фариду день-деньской только бьет да ругает. Несчастная она, вроде меня. Мы с ней парой пришлись. Об этом мне одна из двух сросшихся, обожженных молнией берез, что возле Святого ручья стоят, сказала. Эту девочку я больше всех на свете жалею. Даже себя так не жалею. Я и песню про нее сложил:
В темном доме девица Плачет, леденеет. Мое сердце девицу Бедную жалеет.
Пою эту песню и плачу.
– А ей какая польза от твоих слез?
– Покуда пользы нет. Но когда я вырасту, я влюблюсь в нее. И однажды весенним утром, перед самым-самым восходом, я возьму ее за руку, и мы пойдем навстречу солнцу. Птицы без умолку будут петь нам, а впереди, показывая дорогу, будут порхать бабочки. Видя нашу радость, цветы склонят головы, уползут змеи в нору, волки забьются в логово. Мы будем идти и идти и поднимемся на самую высокую земную вершину, Девичьей Горки даже выше, само небо внизу останется. Ту вершину покрывает высокая густая трава. Если чуть нагнуться, она совсем нас закроет. И в этой траве я украдкой поцелую ее в левую щеку. На левой щеке у нее красивая родинка есть...
– Фу! Нашел занятие!
Целующийся Асхат мне совсем не понравился. А поведение Фариды, позволяющей целовать себя в густой траве, показалось и вовсе неприлично.
– Влюбленные должны целоваться. Иначе нельзя. Я ведь не сейчас, когда вырасту... Не была бы Фарида сиротой, не обижала бы ее мачеха, я бы и не влюбился в нее. Счастливому человеку нужды-то во мне – одна копейка. Из тех берез-двойняшек одна мне так сказала: "Шаткому опора нужна, одинокому в друге нужда". Такие, как мы с Фаридой, шаткие, друг другу опорой должны быть. Только об этом никому уж не говори.
– Сказал же: клянусь! Клятве не веришь, что ли?
– Верить-то верю...
Не совсем по душе пришлась мне та Асхатова тайна. Верю, и на самую высокую гору заведет он Фариду, и солнечными лучами ее окутает, и птицу певчую поймает, и песню, что у ручья перенял, споет. Небо внизу будет, они – наверху. Силы у него безграничные.
Только я и ту Фариду знаю. Каждый раз, проходя мимо их дома, поправляю тюбетейку, чтобы ладно сидела, и стараюсь поменьше шмыгать носом. Зря открыл мне Асхат свою тайну. Выходит, этой девчонке с черными-черными волосами, с ярко-черными глазами, с родинкой на левой щеке я неровня. Потому что живу я, живу, а страданий еще никаких не изведал.
Какие бы испытания мне ни выпали, тайны друга я никогда не открою. Луна видела, солнце высушило... Друг не заметил, что я о своем задумался. Он был полон своей тоски.
– Были бы мы птицами, – сказал Асхат, – улетели бы далеко, далеко. Я бы уговорил ее.
– А какой бы ты птицей стал – кречетом, лебедем или скворцом?
Он долго думал. И потом ответил:
– Нет, все равно я бы птицей не стал. Если я в птицу обращусь, вихрь, когда за мной придет, поищет-поищет меня и обратно улетит.
– Какой вихрь?
– Этот вихрь и есть моя вторая тайна. Повтори клятву!
– Хлебом клянусь!
Я смотрю прямо в худое лицо Асхата. Глубокая дума сидит в его синих глазах.
– Я ведь здесь не за себя, за другого мальчика живу. Я не здесь, я в другой, прекрасной стране родился – там шелковые травы высоко вздымаются, ягоды и плоды медом наливаются. Налетел однажды страшный ураган, подхватил меня, понес через бездонные ущелья, черные леса, неоглядные долины и бросил здесь. А отсюда другого мальчика унес. Чтобы каждый из нас изведал: он – счастье-радости, я – беды-горести. Если бы не занесло меня из чужих стран – не клевали бы меня все, словно птенца из чужого гнезда. Пройдет срок, и нас снова поменяют. Я знаю, они парой ходят: на одно страдание – одна радость. Вон из-за того березняка вынесется вихрь, схватит меня, и мы улетим. Каждый раз, только ветер поднимается, я лезу на крышу сарая и жду. Но не настало еще время. Я еще здесь не всю свою долю изведал, не всю воду выпил, не весь огонь проглотил.
У меня сердце оборвалось.
– Выходит, тебя нечистая сила подменила!.. Выходит, ты шайтана сын!
– Нет, у него дети светлыми не бывают, все черные. Говорю же, меня сюда из другого мира, из страны счастливых забросило. Все равно меня отыщут...
Много после этого ураганов прошло, много вихрей пронеслось, но все они обходили моего друга стороной. Асхат об этом больше никогда не говорил, ни разу. И я не поминал.
Так, наперегонки с судьбой, мы и подрастали. Выросли, вытянулись. Когда Асхат был маленький, старый Искандер в школу его не пускал: "Только и осталось – к черту, за наукой ходить!" – говорил он. Потом уже и сам Асхат не очень рвался. Так и остался полуграмотным, еле буквы разбирал. Но прославился в нашем ауле и во всех соседних как острослов, выдумщик, сочинитель песен. Из-за острого языка и поколачивали порой. Но он не унывал, языка своего не укрощал, только приговаривал: "По вору и кнут".
Но однажды налетела черная буря, накрыла всю страну, закружила наших джигитов и унесла в далекие края. Не из светлых стран пришла эта буря – из черной страны горя нагрянула. Асхат уже понимал тогда, что родная земля его с шелковой травой – вся здесь, у его ног. Било и мотало нас этим вихрем, мы становились мужчинами, и в долю выпало кому смерть, кому слава. Но выше всех бурь поднялся священный свет родной земли, он осветил мужество живых и могилы мертвых.
Многих огненный вихрь унес в страну, откуда возврата нет. Пропал без вести и Асхат. Но я не могу поверить. Он был не из тех, кто пропадает без вести. Видно, синева его глаз слилась где-то с синевой неба. Не думаю, что умер он в судорогах, корчась на земле. Может, ехал он верхом и рухнул с седла, а может, в пылающем самолете сгорел высоко в небе. Он был красивым человеком. Я не верю, что красивый человек может умереть некрасиво. Он был поэтом. Смерть поэта не может быть безобразной.
Прошли годы, я уже думал, что Асхат совсем ушел в омут времени. Но вдруг – глазу, как ветер невидимая, уху, как луч, неслышная – весть о нем пронеслась над нашей землей. Будто бы видели: одноухий синеглазый юноша перепрыгивает с планеты на планету и лучиной зажигает потухшие звезды. А тем, что тускло горят, добавляет яркости. Этому вполне можно верить. Он был поэтом. Значит, поэт взялся за свое главное дело.
ОПОЗОРЕННЫЙ ГОРОД
За домом гнусавый Валетдин рубит дрова. Ударит разок топором и молит, уставясь в небо:
– О небо! Забери же кого-нибудь! Или меня забери, или бабушку! Только и знает: наруби дров да наруби дров!
Он опять нехотя тюкает по березовому полену, лежащему на чурбаке. Полено не поддается, только подпрыгивает.
– И полено твердое... и топор тупой! – жалуется он. – Ну почему только мне все так вредничают!
Валетдин сдернул с головы свою заскорузлую тюбетейку и швырнул оземь. У завалинки, где она упала, фыркнула и взметнулась пыль. Он опять устремил взгляд в синее небо. Из его в дальней дали блуждающих глаз брызнули слезы.
– О небо! Ты меня одного, сиротину своего, забери. А бабушка пусть тут останется. Пусть одна в свою сласть поживет – со всем скотомимением управляется. Слышишь, небо?
Валетдин и его бабушка, совсем дряхлая старушка Гидель-ниса, живут вдвоем. Отец Валетдина с германской войны не вернулся, мать в другой аул, в Кусюм, замуж вышла. "Скотом-имением" же зовется – однорогая желто-пегая коза. И коза-то не коза – косуля настоящая. То и дело аульское стадо куда-нибудь уведет. Валетдин не нахвалится: "Наша пегая коза всему стаду голова, темноту вашу: вислопузых невежественных коров да бестолочь баранью – куда хочет заведет. Хотя молока и не в избытке дает, она высоким своим положением известна, по делам почитаема..."
"По делам почитаема", – говорит. Так ли уж почитаема? Не зря же давеча, когда Младшая Мать на женском собрании припозднилась, отец с насмешкой бросил: "Что-то ты, женушка, от дела виляешь, на собрания зачастила – глядишь, так и в козы бабки Гидельнисы выбьешься..." Младшая Мать только хихикнула, но и то без особой живости...
Я стою, прислонившись к углу избенки бабушки Гидельнисы. Валетдин все еще не замечает меня. Он бросил топор и плюхнулся на чурбак. По щекам все так же текли слезы. Он долго молчал, потом снова поднял лицо к небу:
– О небо! Эту свою молитву я обратно беру. Оставь нас обоих здесь. Не то бабушке одной, без меня, совсем плохо будет. А вместе проживем как-нибудь: две сироты – родня друг другу.
Тут я не вытерпел и от жалости к Валетдину и бабушке заплакал. Валетдин вздрогнул и повернулся ко мне. Поначалу то ли напугался, то ли рассердился – так и отпрянул в сторону. Увидев же, что посторонних – "всего лишь я", успокоился.
– Тронул кто? – спросил он мягко.
– Никто.
– А чего воск давишь?
– К твоим слезам... Ты хорошо сделал, что свою молитву обратно взял. Что тебе там, в холодном небе, делать?
Наверное, это и было в моей жизни в первый раз, когда я, чужою горестью горюя, слезам другого вослед заплакал. А когда за другим вослед песню запел, этого не помню. Пожалуй, уже позже, много позже...
– Ты не плакал, я не плакал. Ясно? – сказал Валетдин. – Не мужское дело – слезы точить.
– Ясно, – покивал я, хотя и не совсем понял. Этого До конца я и потом не пойму. Даже когда несгибаемые вроде мужчины рыдали – я не удивлялся, их не винил. Если бы и камень вдруг выжал слезу, сказал бы: видно, так схватило...
– Если этот сук за три удара не перерублю – не зваться мне Валетдином, – сказал он и трижды плюнул себе на ладони. Взял топор, яростно замахнулся... и первое отрубленное полешко легко спрыгнуло с чурбака. Дальше Валетдин знай рубил – только полешки в сторону откатывались. Вот загадка! Топор ли за это время навострился, дерево ли мягким стало?
Вышла во двор бабушка Гидельниса. Смотрит на внука, нарадоваться не может.
– Вот он какой, мой работящий, мой послушный! Когда за дело берется – даже сердцем встрепенется. Опора моя, столб золотой... Даже тюбетеечку скинул. Если еще и домой занесет, что нарубил...
– Я сам! – сказал я и начал поспешно набирать в охапку дрова.
– – Чтоб род твой в благости жил, и ты послушный, оказывается, отсыпала бабушка и мне похвалы. – добро, другому сделанное, божьей милостью возвращается, – сказала и ушла в дом.
Один вздох – и я уже две охапки занес.
Их избушка, маленькая, в один размах – что вдоль, что поперек – наш главный стан. И зимой и летом ребята с Верхнего конца улицы здесь собираются. Тут вольготно. Ни запретов, ни ругани. Потому и малую просьбу бабушки Гидель-нисы спешим выполнить с большим усердием. По правде говоря, ее хитрый "столб золотой" насчет работы вовсе не из тех, кому такая громкая похвала положена. Захочет – исполнит просьбу, не захочет – хоть убей, и щетинкой, как говорится, не шевельнет. Упрямством он набит туго.
Собираемся мы, как синицы на свежую бойню слетаются: только первый появился, глядь, уже и все стянулись. Следом за мной Хамитьян явился, за ним Шайхаттар, потом Ибрагим с Асхатом, Мухаррям – сын Хусаина, Ану-ар – сын Белого Юмагула. Последним показался сам вожак.
До обеда мы кто где: по дому посильную работу делаем, мелкими играми забавляемся. А к вечеру собираемся все вместе и делимся на два войска. Играем в самую большую, самую настоящую игру, которая называется "Германской войной". Я не могу дождаться часа, когда снова стану могучим Рукавказом. Одно только плохо, меня все время из стана в стан перекидывают: то я под рукой России, то – Германии. Однако и там и здесь бьюсь яростно, беспощадно, редко когда бывает, чтобы кровь из носа не пошла или там без синяка обошлось или подбитого глаза. О пуговицах и речи нет, все с воротника счистил. Старшая Мать пришивать не успевает.
Уже "Германской войне" вспыхнуть вот-вот осталось, как пришел запыхавшийся Насип, по прозвищу Удачливая Рука. Забавный он, этот Насип. Какое бы дело мы ни начали, он уже молит: "Ребята, пусть мой почин будет, у меня рука удачливая". Сядем рыбу ловить, он спешит свою удочку первым забросить: "У меня рука удачливая, у всех рыба, как ошалелая, клевать будет". Шлеп – и его поплавок падает в воду. Упадет, покачивается, будто поудобней устраивается, и засыпает. И другие поплавки сидят, не шевельнутся. "Сейчас... сейчас... – шепчет Насип. Это рыба наше терпение испытывает. Много терпеть – много иметь". Вот и терпишь, сидишь... Или в лес за свербигой пойдем, все этот же Насип вперед заскочит: "Давайте, ребята, первую свербигу я сорву, у меня рука счастливая, всем удача будет". Однако когда как: то есть удача, то ее в помине нет. А в прошлом году, когда начали жать рожь, он опять: "Отец, давай первый пучок я сожну, у меня же рука легкая, вся работа складно пойдет". Сказал... и первым же взмахом серпа мизинец левой руки до кости прохватил. Чего только не терпят счастливые Насиповы руки! Ладит стрелу – молотком тюкнет, в скальных расщелинах птичьи яйца ищет – камнем придавит, даже двери закрывает – редко не прищемит. Но в удачливость своих рук он верит всей душой. Меня досада берет, как Насип всегда везде суется. "Себя показать хочет", – злюсь я. Что Насип не для себя – другим удачу добыть старался, я понял потом, много лет спустя.
Однажды он докажет, что руки у него и впрямь удачливые, навек докажет...
Так вот, "Германская война" уже готова была вспыхнуть, когда Удачливая Рука, захлебываясь, сообщил весть:
– Ребята! Разговаривали сейчас мой отец и Круглый Та-лип. Круглый и говорит, у русских, оказывается, в городе калашный праздник, и на этом празднике всем калачи задаром раздают, говорит. Белые-белые калачи, вот такие, – и он показал, какой толщины калачи. Самое малое – с мельничный жернов.
Новость и вправду была удивительной. У нас глаза под потолок полезли. Мы все враз языка лишились.
– Врет, поди, – первым опомнился Шайхаттар, который из всего себе выгоду вытянет. У этого Шайхаттара железные коньки есть. Скатился на этих коньках по горбатому переулку Белого Юмагула два раза – плати копейку. Шесть раз – три копейки. На большее – казна тоща. Как зима приходит, я дотла нищаю.
– Если бы врал, разве мой отец ему поверил? Мой отец ни капли не верит, когда врут.
– Конечно, соврать – это у Круглого Талипа в повадках есть, только сейчас вступил в разговор Шагидул-ла, – но что в городе калашный праздник идет – тоже возможно.
– Конечно, возможно, – поддакнул вожаку его пристяжной Валетдин.
– А почему, может, спросите? – вопросил наш предводитель.
Мы все уставились на его тонкогубый рот. Вот сейчас из этого самого рта, как скворец из гнезда, выпорхнет ответ. Ответа не последовало, зато предстал новый вопрос:
– Откуда калач вышел?
– Откуда же еще, из печки, – хотел подивить нас своей находчивостью Ибрай.
– Это ты из печки вышел, только рановато вынули тебя, не допекся... – язык у нашего вождя порой крапивы злей.
– Его из белой муки пекут, – уточнил Ануар, сын Белого Юмагула. Его слова Шагидулла и вовсе мимо ушей пропустил.
– Слово "калач", парни, из слова "кала"* вышло. И означает это городской хлеб, городская еда.
Ого, чего только не знает Шагидулла-агай, мой родственник!
– Ну и пусть, нам-то что за польза? – опять встрял Шайхаттар. Давай лучше в "Найди тюбетейку" сыграем.
– Так когда же этот праздник?
– Не знаю... Только Круглый Талип отцу говорил, что калачи прямо сам, своим ртом ел.
– Когда ел-то – вчера, сегодня, год назад? – горячо допытывался Шагидулла. Насип растерялся.
– Уж, наверное, сегодня ел, коли сегодня говорил... Или вчера... пробормотал Насип. – Он как раз из города шел, когда к нам заглянул.
– Круглый Талип про зайца, которого на будущий год подстрелит, нынче растрезвонит, но о прошлогоднем новость до этого года держать не станет, – вступил наконец в разговор Мухаррям. Годами он ровесник Шагидуллы и Валетдина, и в рост тоже вытянулся. Приказы-наказы предводителя исполнять не очень ретив. В споры, в игры входит редко.
*Кала – город.
– А если зайца вовсе нет? – все сомневался Шайхаттар.
– Чего нет – того не скажет. У него в словах всегда свой смысл есть.
– Сказать вам самую правду? – заявил вдруг Валетдин.
– Скажи!
– Я обычаи русских все изучил. Они, коли начнут праздновать – так на целую неделю, раньше не успокоятся. От воскресенья до воскресенья гуляют...
Валетдин знает, что говорит. Когда его мать замуж вышла, он не то три, не то четыре месяца в русской деревне, приюте жил. Там он и попоросячьи хрюкать научился. Так похоже хрюкает, что его бабушка в ужас приходит. Но по-русски говорить не выучился.
– Какой сегодня день? – спросил вожак.
– Пятница. Нынче полуденный намаз в мечети читали, – сказал Асхат.
– Раз так – не прошел еще калашный праздник, – заключил Шагидулла. И торжественный свет скользнул по его лицу. – Кто да кто хочет калачи до отвала поесть, становитесь справа от меня!
Мы все, кроме Шайхаттара и Мухарряма, гуськом, как утята, спускающиеся к речке, встали справа от вожака.
– А вы что, уже под завязку калачей наелись?
– Наверное, не пойду, не велик барыш – один раз калач поесть, пожал плечами Шайхаттар.
– Сегодня вечером с отцом на Уршак поедем, на мельницу, рожь молоть, – сказал другой. – Нам не до калачей, с черным бы хлебом не разминуться...
Ради того, чтобы один раз калачи поесть, мы за двадцать пять верст отправиться готовы. Что это – обжорство, жадность, самая обычная глупость? Или что-то совсем другое? Вот сейчас, с седой вершины прожитой жизни, я оглядываюсь назад и прихожу к мысли, что дело совсем и не в калачах было, а в нас самих. Потому что росли мы, умея выискать в пучке лишений росточек радости, в горсти горечи – крупинку сладости. И потому, когда мы выросли, когда в голову вошло понимание, а к сердцу – пришла страсть, мы готовы были одного материнского благословения ради пройти сквозь тысячу испытаний, ради того, чтобы хоть раз заглянуть в глаза любимой, мы за тысячу верст, с края войны, зажав ладонью открытую рану на груди, спешили к родному становью. Хоть на день, хоть на час...
– Шагидулла! Уж не солью ли порог Гидельнисы посыпали? Как ни посмотри – там, как телята, толкутся! Вон отец вернулся – вдрызг! Лошадь распряги! Господи, мне ль с ними не тяжко: один – пьянчуга, другой – придурок, третий – по-бродяжка! Шагидулла, говорю! – это мать нашего головы, Минлекай-енге*, с той стороны улицы так складно выкликает. Голос ее на весь аул слышен. Потому и секреты у них дома не залеживаются.
– "Германской войны" нынче не будет, – объявил предводитель. Завтра, как стадо погонят, всем на Городской дороге, возле песчаного карьера собраться. И смотрите, чтобы всякие лишние людишки не проведали. – И он с каким-то намеком посмотрел на Шайхаттара и Мухарряма.
Нам тоже не до игры стало. Следом за ним и мы потихоньку разбрелись по домам.
В этот раз ночь ждать заставила долго, но вот и она пришла. Я лежу и боюсь заснуть. Не вздохну даже, чтобы Старшая Мать не учуяла, что я не сплю. Она тихонечко читает молитву. От ее шепота мне становится жутковато: будто пришли ночные духи и она беседует с ними. Только лунный свет, падающий на подоконник, немного разгоняет мои страхи. Давно уже, ворочаясь с боку на бочок, спят братишка и сестренка.
– Что притаился, синнай? Почему не спишь?
Когда я был маленьким, я не понимал этого ее слова. Оказалось, что оно из русского взято – "ценный".
Я молчу. Я знаю, стоит мне только откликнуться, как все и расскажу ей. С другими сжульничать, слукавить или соврать я умею – это бывало. Но только не со Старшей Матерью.
– Что на завтра учинить собираешься? У меня сердце екнуло.
– А ты откуда про это знаешь?
– Да знаю уж.
Вот сейчас я возвращаюсь к тому вечеру и посейчас изумлен прозорливостью Старшей Матери, посейчас пленен. Она ведь не спросила: "Какой беды натворил, что и сон к тебе не идет?" Потому что малый ребенок прошлого перебирать не будет, проводами не мается, ожиданием живет.
– И вправду знаешь, Старшая Мать. Мы завтра, все мальчишки, и Шагидулла-агай с нами, в город на русский калашный праздник пойдем. Задарма калачи есть.
' Енге – сноха; также – обращение к старшей женщине.
– Их праздник весной бывает, дитятко, когда овраги
заливает.
– Нет, сейчас... завтра будет. Круглый Талип сказал.
– Ну, если Круглый Талип сказал... Тогда и впрямь, – я не вижу ее лица, но чувствую, что она улыбается. – Ступайте. От гона борзая подошв не износит. А теперь спи.
– А если просплю? Мы же с рассветом уйдем.
– Не проспишь, сама разбужу.
Старшая Мать разбудила меня в желтые сумерки. Завернула в красную тряпицу краюшку хлеба и протянула мне. Я стал отпираться:
– Не надо, Старшая Мать, мы же туда калачи до отвала есть идем.
– Возьми-ка, возьми, тяжело нести будет – на половине пути под кустик полыни сунешь, зайцев угостишь. Но до середины пути терпи, не бросай. Тряпицу обратно принесешь.
Взял я этот хлеб, только чтобы не перечить ей.
– Тряпку я зря таскать не буду, Старшая Мать, я калач в нее заверну.
К моему приходу мальчишек был уже полон карьер. Последним, на бегу подтягивая вечно спадающие штаны, прибежал Ануар, сын Белого Юмагула. Они там всем домом неряхи. Про Ануара уже сказал. Его старший брат Музафар до сих пор нос вытирать не научился, а за Ямлегуль, старшей сестрой, всегда завязки лаптей тянутся. На днях Ас-хат, подражая голосу матери Ануара, такую песенку пропел:
Ануар, Музафар Надо ставить самовар, Надо печку растопить, Надо по воду сходить, Надо тесто замесить, Да казан песком отмыть, Да узнать, к кому спешит Через улицу джигит, Надо-надо-надо-на – Тыща дел, а я одна, Все сижу себе без толку, Все жую липучку-смолку...
– Что это? – Шагидулла-агай ткнул пальцем в мой узелок.
– Хлеб, – пробурчал я. Валетдин хихикнул:
– Ржаной хлеб? Нет уж. Нам, ребята, животы поберечь надо. Я и с вечера ничего не стал есть.
И я то же самое говорил, только Старшая Мать не поняла меня. Больше о хлебе не вспоминали.
– Где Ибрай? – спросил вожак.
– У Ибрагима грыжа стронулась, – ответил Асхат.
На поверку нас всех оказалось семь душ. Прежде всего он сам вожак, потом остальные: Валетдин, Насип, Хамить-ян, Ануар, Асхат и последним – я.
– Смотри, Пупок, коли увязался, так чтоб не пищать потом... предупредил вожак.
Я только грудь выпятил. Промолчал. Хоть и запала обида на вожака, виду не подал. Дарового угощения меня лишить готов, а сами небось на каждом шагу за любой нуждой к нам бегут.
За меня ответил Хамитьян:
– Он не подкачает. А хлеб я понесу. Давай, Рукав-каз!
– А ты, Ануарбек, и в городе штаны в руках держать будешь?
– Спадут, коли не держать.
– Нет, с Ануаровыми штанами в путь выходить нельзя, – опечалился вожак, – сраму не оберешься.
Валетдин и Насип нашли две короткие палочки и подкрутили ими завязку Ануаровых штанов. От радости тот на месте подпрыгнул, как козленок. Закрутки были надежными.
Солнце еще не встало. Сзади, над аулом, разносятся петушиный крик, мычание коровы. Внизу, по-над ручьем, тянется густой туман. Оставляя на пыльной Городской дороге семь пар босых крупных и мелких следов, мы устремились вперед. Асхат обернулся к аулу и пропел:
Как мы край свой покидали, Затуманилась река. Коль вернемся – то вернемся, Путь-дорога нелегка.
Пошли. Задор ли, радость ли – что-то приятное щекочет внутри. Ноги сами по себе припустить готовы.
До самого Дубкового взгорья мы дотрусили молча. Солнце поднялось уже довольно высоко. В ясный день отсюда видно, как вдали, на белой горе, стоит белый город.
Тут кончаются земли нашего аула. Когда в жатву мы ночуем здесь, то видим в темном небе маленькую кучку городских огней. Посмотришь на них, и они начинают мигать, будто идут к тебе. Где город, знаем, дорогу туда знаем, но никто из нас семерых там еще не бывал. Вон ведь, на серебряных утесах стоит, с золотых крыш лучи льет! Сейчас он глазу казался особенно приветливым, щедрым и гостеприимным. Не будь щедрым, разве звал бы он нас к себе так радушно? Словно не мы к нему идем, а он, всеми своими сокровищами нагрузившись, навстречу к нам плывет.
– В городе у нас родня есть, – сообщил Ануар, – на самой высокой пожарной каланче сидит, оттуда ему на сто верст кругом видно. Как царь, наденет золотую шапку и сидит.
– Там каменная мечеть с двумя минаретами есть, так печи в ней топит нашего кусюмского свата близкий сват, – похвастал Валетдин. – Если зайду к нему, обнимет да приподнимет. Вот увидите.
Про их родню-породу я не знаю. Может, есть, может, и нет. А вот у Асхата самый старший брат Исмагил и вправду в Уфе работает. Чего же Асхат-то промолчал? Даже на днях, когда мы с ним поперек бревна положили доску, встали по концам и стали раскачиваться, он такую прибаутку сочинил:
Я качался на бревне,
Ты качался на бревне.
Старший брат мой служит в лавке,
Да не шлет гостинцев мне.
Будь я на месте Асхата, те у меня живо рты бы закрыли. Я подошел к другу и шепнул:
– Ты чего про брата молчишь?
– А ну его! – махнул он рукой. – За ним, беспутным, не угонишься. Теперь куда-то в сторону Ташкента подался.
Мы перевалили Дубковое взгорье, прошли немного, и город снова скрылся из глаз. Задор наш маленько остыл. Мой красный узелок от Хамитьяна перекочевал к Насипу, от Насипа – к Валетдину и наконец забился к вожаку под мышку.
– Полпути не прошли еще, Шагидулла-агай? – спросил я.
– Что, силенки вышли? Говорил я тебе...
– Не вышли.
– Чего же спрашиваешь?
– Старшая Мать сказала: тяжело будет – хлеб на половине пути под кустиком полыни оставишь.
– Не мели попусту, Старшая Мать такого не скажет.
– Сказала вот! Сказала!
– Глупый, она же сказала "если тяжело". Смотри, как птица летает, он подбросил хлеб в небо и поймал его в ладони.
– Перестань, Шагидулла, хлебом не играй, уронишь крошку – грех на тебя падет, – сказал Асхат.
"Греха" мы все до смерти боимся. Даже сам вожак боится. Он прижал хлеб к груди, будто прося у него прощения.
Мы уже со счета сбились, сколько тарантасов, запряженных быстрыми конями, окатив пылью, обогнало нас. Попадаются и встречные подводы. Только из пеших на большой дороге – одни мы.
– Далеко еще до города? – спросил Валетдин у старика, ехавшего верхом на лохматой рыжей лошаденке.
– Меньше пятнадцати, болрше десяти. Шагайте скорее, там уже ждут вас.
Коли ждут, надо торопиться. После этих слов мы даже бегом сколькото пробежали. Бегом-то бегом, да не очень-то резво теперь получается. Ануаровы штаны опять ослабли. Пришлось Насипу заднюю закрутку еще подкрутить. Не знаю, как другие, а в моем животе мечты калашные на убыль пошли. Теперь и черным хлебом доволен был бы. Но не мне же первому об этом заговаривать, и так вожак меня за обузу считает.
Миновав небольшую, в три-четыре избы, русскую деревушку, остановились в редком березнячке посреди поля. В тени немного отдышались.
– Садись, – приказал вожак. Он опустился на колени и положил перед собой красный узелок. – Какие слова Курбан-мулла любил повторять – кто знает?
– Ты знаешь, – быстро сказал Валетдин. Видно, почуял что-то гнусавый.
– Курбан-мулла говорит: "На каждый кусок – свой закуток".
– Да, знает мулла, как сказать, – отдал Асхат должное мудрости муллы.
– Если мы этот хлеб съедим, калачу закуток останется?
– Останется, останется! – ответили мы.
– На, Валетдин, – вожак достал из кармана ножик и протянул ему. Раздели сей хлеб на семь частей по справедливости.
Валетдин тут же захлопотал, и оглянуться не успели, как на красной тряпице рядком лежали семь примерно равных ломтей хлеба. Но только примерно равных, были все же доли побольше и доли поменьше. Вожак почему-то своей доли – самого большого куска – пока не берет. И нам вперед старшего руку тянуть неловко.