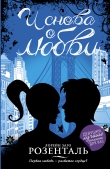Текст книги "Долгое-долгое детство"
Автор книги: Мустай Карим
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
– В дороге пищу надо честно делить, – сказал он. – "Это кому" разыграем.
– Ребята! – Насип вскочил даже. – Давайте я выкликать буду. У меня язык счастливый – каждый в точности свою долю получит.
Никто не возразил. Насип отвернулся. Валетдин берет кусок и спрашивает:
– Это кому?
– Хамитьяну!
– Это кому?
– Шагидулле!
– Это кому?
– Пупку!..
Семерым – семь ломтей вышло. Однако не совсем по справедливости: мне достался самый большой кусок, а предводителю самый маленький. Тот и виду не подал, но чувствую я: пища не в пищу мне пойдет – не почестному вышло. Шагидулла на пять лет старше меня. А кто больше, того и доля должна быть больше. Надо поменяться... Пока я так размышлял, он от своего ломтя уже порядочный кус отхватил. Следом и у других мельница замолола. Как эту несправедливость исправить?
Я со своим ломтем нарочно подольше провозился. Когда же осталось три-четыре раза откусить, протянул его Шагидулле:
– На, агай, доешь.
– Сам доешь.
– Я уже наелся, валлахи...
– Не божись. Даешь – давай так. А не то – пустая клятва на тебя же падет.
От сытого живота и в ноги резвость пробежала. Я всегда удивляюсь этому: весь ломоть-то с кулачок, а сколько в нем волшебной силы. Съел – и сразу весь мир преображается. Вот и сейчас... Вдруг совсем рядом пропела какая-то птица, сизый ветерок прошумел по только что выколосившейся пшенице, веселей, приветней зашелестели березки. Даже солнце уже не так палит. И вся красота – из той краюшки хлеба.
Только мы тронулись дальше, Насип говорит:
– Давай, ребята, иноходью, как Аминова кобыла! – и сам же понесся первым. Но вожак и Валетдин тут же обогнали его. Позади всех я потрусил.
Есть на Нижнем конце нашей улицы Амин, который в самую страду, в сенокос и в жатву, в лес по ягоды ездит. Нагрузит с утра весь свой выводок от мала до велика в лубяную телегу и тянется потихоньку на Верхний конец. Колеса, даже запах дегтя давным-давно позабывшие, на весь аул долгими криками исходят. На днях Асхат спрашивает меня: "Что Аминова телега говорит?" – "Что она скажет, знай скрипит". – "Нет, говорит Асхат, – она Амина умоляет: "Не близ-зко – не поед-дем... Не близ-зко – не поед-дем..." Хорошенько прислушаться – правду Асхат говорит.
Телега в точности так выкликает. А уж когда вечером возвращаются, потрусит пегая кобыла под гору, и все четыре колеса наперегонки хвастать начинают. А чем хвастают, Асхат тоже знает. "Все стрескали!.. Все стрескали!.. Все стрескали!.." – говорят они. Теперь, когда Асхат затосковал, весь аул речистую телегу понимает.
– Когда из города пойдем, мы тоже, как Аминова телега, запоем:
В белом городе белые калачики Все стрескали, все стрескали. Наши красные сундуки Стали тесными, стали тесными.
Раз только пропел Асхат, и Валетдин с Насипом тут же подхватили песенку:
В белом городе белые калачики Все стрескали, все стрескали...
Иноходь свою мы уже оставили, теперь чуть боком, высоко вскидывая колени, скачками бежим, будто катим на самокате. И дружно повторяем эти для души ладные и для бега складные слова:
В белом городе белые калачики Все стрескали, все стрескали...
Должно быть, про "красные сундуки", животы то есть, не очень складно получилось, мы про них сразу забыли. А эти – сколько ни пой, все петь хочется.
Так, "треская калачи", мы вышли к высокой каменной дороге. Поднялись. По сторонам ее стоят большие-большие тополя. Выстлана дорога гладкими, как в нашей бане, камнями. Только не плоские они, а выпуклые.
– В прежние времена по этой дороге царь только сам ходил. Теперь, когда Советская власть, каждый, кто хочет, может ходить, – объяснил вожак, – слабуда теперь, независимость!
Мы прошли один поворот, и – перед нами на горе стоял белый город! Вот он – протяни руку и возьми! Наш теперь город, далеко не уйдет.
– Ассалям-алейкум, город! Вот мы и пришли к тебе! – сказал Валетдин.
– Город нас встречает, души в нас не чает, калачами привечает, пошел нанизывать Асхат.
– Души не чает, калачами привечает, – повторили мы вслед за ним.
Куда ни глянь, заводские трубы торчат, минареты мечетей, купола церквей блестят. Мечеть от церкви мы отличить умеем. Из нашего аула боголюбовская церковь каждый день видна. Однако удивительно – почему эти церкви земля все никак не проглотит? Всем же известно: церкви гнезда греха – в прах рассыплются, все неверные после смерти в аду гореть будут. Церкви-то пусть, пропади они пропадом, а вот неверных жалко. Эта жалость вот с чего началась...
...Прошлой весной приехал к нам из Лекаревки с сыном Егоркой, моим ровесником, наш знаком Тимофей. Отцы за стол пить-есть уселись, мы с Егоркой взяли по лепешке и вышли во двор. У Егорки волосы желтыежелтые, глаза синие-синие, лицо, как репа, светлое, чистое. Как разговаривать, не знаем. Куда я – туда и он. Что я ни сделаю, он повторяет. Сходили в сад, на хлев слазили, потом на бревна, перед клетью сваленные, взобрались. Я ногами поболтаю, он поболтает, я вздохну, и он вздохнет.
Отцы наши разгулялись уже. Мой отец перед Тимофеем все по-русски хочет спеть. А тот по-нашему пытается. Первой Тимофея удаль выхлестнулась:
Ай да сватьюшка кума, По малину в лес айда! Хороша малина в чаще, А сватьюшка слаще.
Я знаю, это он, чтобы к хлопочущей вокруг стола Старшей Матери подольститься, вломил. Теперь жди – сейчас моего отца голос заступит. Вон выдал:
Базар большой, Народ много, Русский барышня идет, Дай ему дорога.
Мы с Егоркой посмотрели друг на друга. От его синих, навевающих грусть глаз охватил меня страх. И этот мальчик, с такими ясными, такими ласковыми глазами, будет гореть в аду вечно-вечно! Он будет гореть, и как ему будет больно!
– Егорка! – воскликнул я и невольно обнял его. Он сначала испугался, а потом и сам крепко прижал меня к груди. От страшной беды, показалось мне, заслонил я его в этот миг. Теперь за это кара, наверное, перейдет на меня. Но уже поздно – маленький кяфыр* в моих объятиях. Теперь нам вместе в огне гореть. Отцы уже вдвоем одну песню затянули. Про нас и знать не знают. А может быть, вот сейчас, в это мгновение, двум мальчикам, мальчику желтоволосому и мальчику черноволосому – де тям вашим, вынесен приговор: гореть им в аду во веки вечные. Эх, отцы, отцы! Жалко мне их, и себя, и Егорку жалко.
Кяфыр – неверный.
...С чего это я Егорку вспомнил? А... церковь увидел.
Идем... Сердце стучит. Идем, идем, а город все на одном месте. Даже немного пятится будто. На камень и не ступить, пятки жжет. Гуськом по краю дороги плетемся. Пить до смерти хочется. Недавние прибаутки напрочь забыли. Впереди Насип шагает, за ним Хамитьян, За Хамитья-ном – Валетдин... Шагидулла особняком по другой стороне дороги идет. Перед самым моим носом косолапит плоско-стопый Ануар. На каждой пятке у него по трещине, с камыш толщиной. Эти пятки зимой валенок, весной-осенью сапог – и в помине не видят. Разве только лапти иной раз им и перепадут. Интересно, про родию в золотой шапке он правду сказал или сбрехнул? Станется, что и сбрехнул. Прилгнуть – это за каждым из нас водится.
– Эх, попил бы я сейчас – вволю! – сказал Насип.
– Валлахи, я и на глоток согласен! – начал божиться Валетдин. Язык бы только замочить.
– Еще ты, прорва, похнычь, раздразни детвору! – прикрикнул Шагидулла.
Больше об этом не говорили.
Мы долго шли по улице, застроенной небольшими деревянными домами, и вышли наконец к мосту через Аги-дель. Зачерпнули воды, кто тюбетейкой, кто войлочной шляпой, и напились вволю. Вода была теплой, невкусной. Но, напившись, мы приободрились. Калашный праздник, должно быть, за мостом, на горе находится. Праздники, они всегда куда-нибудь повыше заберутся. Здесь же покуда праздником и не пахнет. Мы прошли через мост. Но и там ничего особого праздничного не приметили. Дома, правда, повыше, ворота все на русский манер, улицы наших поуже. Подводы, верховые и просто пешие туда-сюда снуют. Друг другу и "здравствуй" не скажут.
– Эге, ребята, вон "Калачи" написано. Калачная лавка это, – сообщил Валетдин, который лучше всех нас умеет читать. Я буквы только узнаю, а в слова складывать еще не могу.
Мы перешли через улицу и встали перед дверями желтого дома.
– Парни, лучше я первый за дверную ручку возьмусь, у меня рука... только сказал Натип, как дверь распахнулась и хлопнула его по голове. На лбу тут же взбухла шишка.
– Ассалям-алейкум!.. – пробормотал он человеку, вышедшему из дверей.
– Кум-кум, – передразнил тот и пошел дальше.
Пока дверь не закрылась, мы протекли вовнутрь. Вошли – и даже поздороваться забыли, так и застыли. На полках вздымаются ряды пухлых калачей, белыми хомутами висят на стенах связки кренделей, ящики ломятся от пряников, и каждый пряник в красном кушаке, выхваляется будто. А халва-альба разная блестит-усмехается, сама в рот просится. Вот оно где, калашное разгулье!
Лавочник на нас глаза вытаращил. Мы молчим, и он пока молчит. Поначалу, должно быть, сробел даже немного, с весов гирю снял. Мы приличие сохраняем, дальше дверей не идем. Он тоже не спешит, стоит себе с кислым лицом. Сдается, чем-то мы ему не понравились. Хотя ничего в нас такого, людям неугодного, и нет вроде...
Наконец его толстые масленые губы шевельнулись:
– Зачем пожаловали, лохмотники?
– Мы, товарищ, не лохмотники, мы из деревни пришли, – с достоинством ответил Шагидулла.
– Вижу, что не из царского дворца прибыли, товарищи оборванцы, – в горле у него что-то прокудахтало, плоское жирное лицо стало свекольнокрасным. – Так с чем, говорите, к нам припожаловали?
Гиря глумливо подпрыгнула в его ладони.
– Мы, это... где калашный праздник, хотели спросить... – Валетдин не успел договорить, вожак рванул его за рукав.
– Калашный праздник?.. А – калашный праздник! – опять расплылся Свекольный Блин. – Калашный праздник вот здесь, в кармане, бывает, он сунул руку в карман и побренчал денежками.
Мы, будто сговорились, все враз полезли в карманы. Там, если и был когда праздник, весь выдуло... И калачи на полках, и крендели на гвоздях, и пряники в ларях, халва-альба в коробочках – сразу будто пылью покрылись, ни глазу радости, ни языку сладости. Как вошли мы не поздоровались, так и вышли – не попрощались. Пошли дальше.
– Мы тоже умники большие! – сказал Насип. – Калашный же праздник русские празднуют, а мы с мусульманином связались. Да еще с нип...нипманом каким-то!
– Свой мусульманин, а как насмехается! С порога "лохмотниками" обложил! – вскипел Валетдин.
– Мусульманин, коли скаред, десять кяфыров переску-пердяйничает. Поэтому и баит про скупердяя сложили, – объяснил Асхат.
Земле не забыть ненасытного скрягу, Поскольку земля проглотила беднягу.
Вот увидите, и этого когда-нибудь сглотнет.
Мы поднимались все дальше, в город. Подходили и подолгу глядели в окна калачных лавок, крутились возле домов, откуда разносился запах свежевыпеченного хлеба. Но никому мы не приглянулись, никто нас к себе не зазывал. Где же русские, которые калачи раздают? Есть же они гдето! Не может быть, чтоб не было! Это же в голове не умещается: из такого далека притащиться, ходить – слюни подбирать, и отправиться восвояси, несолоно хлебавши?!
Будто мои мысли угадав, Хамитьян сказал:
– Наверное, мы искать не умеем... Надо у людей поспрашивать.
– Что тебе праздник – заблудившийся теленок, что ли? Его искать нечего. Он сам издалека сиять, лучами играть должен, к себе звать, кричать: "Я здесь!" Все, ребята, прошла свадьба, и объедки доели! Опоздали, кончился праздник. Вассалям! – поставил печать предводитель.
Сказал он так, и у меня сразу все суставы заныли, голод и жажда враз подступили, и солнце сквозь рубашку, мало кожу – до костей прошивает. У других тоже дела не слаще.
Мы рядком уселись на крыльце какого-то дома с закрытыми ставнями.
– Давай моего родственника найдем, – сказал Ануар, – пожарную каланчу только разыщем... На один-то самовар чая не поскупится.
Пожарную каланчу разыскали быстро. Но человека в золотой короне, сидящего наверху, не увидели. Мы долго, вытянув шеи, высматривали Ануарова родственника. Так и не показался.
– Может, упал да покалечился? – недоуменно сказал Ануар. – Э-эй! Янбирде-агай, где ты-ы?
– Коль в Янбирде умишко есть – даст вем сразу нам поесть, – пошутил было Асхат. Но нам было не до шуток. Никто не засмеялся.
– Янбирде-агай! Это я – Ануар! Я из деревни пришел!..
– Чего орешь дурным голосом, надорвешься!.. Марш! Марш отсюда! Нет тут никакого Янбирде... – такими словами прогнал нас вышедший из больших красных ворот усатый дядька-пожарник. Подумаешь, нацепил ремень с медной бляхой и заносится.
На том поиски родни было уже закончились, но тут Валетдин решился:
– Раз не повезло, ребята, в другой повезет, пойдемте к моему свату, который в каменной мечети с двумя минаретами печи топит, нашего кусюмского свата он близкий сват.
– Кто же в такую жару печи топит? Твой сват давно уже в деревню уехал, наверное, – сказал Насип.
– В городской мечети и зимой и летом топят, – в глаза стал врать Валетдин.
– Врешь, обжора!
– Валлахи! Если в мечети не топить – в ней церковные черти заводятся, – тут же положил он нас на лопатки. – Вон, куда ни глянь церкви стоят.
Порядком поколесив по городу, мы наконец вышли к каменной мечети с двумя минаретами. Ворота в мечеть были заперты. В глубине дворика, огороженного плетнем без ворот, стоял низенький домик. Решили наведаться туда. Постучаться в большой дом, выходящий на улицу, не хватило духу.
Меня с Валетдином отправили вперед. Когда мы вошли, первое, что увидели, была пыль. Двумя потоками вливалась она сквозь два узеньких, глядящих на юг окна (странно, как это она сквозь стекла проходит?). По голому полу ходил на четвереньках маленький ребенок, второй на животе ползал. На хике сидела пожилая тетенька и что-то латала, в темном углу возле двери спал мужчина.
– Здравствуйте, – вразброд сказали мы с Валетдином. Тетенька, не поднимая головы, ответила:
– Живы-здоровы пока, – потом медленно повернула голову к нам. Опять эти побирушки уездные, – вдруг вспыхнула она. – Ни утра им, ни вечера, ни зимы, ни лета, идут и идут, идут и идут. Вконец извели. Нашли себе постоялый двор.
– Мы не побирушки, апай, мы... – сказал я и запнулся.
– Если не побирушки, все равно... нищие, – махнула она рукой. – К нам богатый на постой не явится.
– Нашего кусюмского свата близкий сват в этой мечети круглый год печи топит... – пробормотал Валетдин.
Тетка немного помягчела.
– Вы из Кусюма, что ли? Во благе-здравии ли кусюмов-цы?
– Нет, мы из Кляшева. Мы нашему кусюмовскому свату, который здешнему свату, который печи топит, близкий сват, тоже близким сватом приходимся. Бабушки Гидельнисы я внук.
– Вот не знаю, – охладела тетка, – такую сватью и не припомню вовсе. Эй, Ишбирде, сваты пришли!
Ишбирде оказался тот, что в углу спал.
– А? Сваты? Добро пожаловать, сваты! – вскочил он. Протирая глаза, в которых еще стоял сон, повторил: – Добро пожаловать, сваты, в красный угол проходите! Ой, как вовремя приехали, ай, афарин!
Он совсем проснулся и взглядом обежал комнату.
– Где сваты? Фу, опять приснилось! Вижу будто, что резвых коней запрягли впристяжку, и, землю сотрясая, единым махом аулы пролетая, звон бубенчиковый рассыпая, едут к нам сваты! Соседи рты от зависти раскрыли, к плетням привалились... Эй, сваты, куда же вы умчались, сваты?
– Бона сваты, – кивнула на нас женщина.
– Это вы сваты? – удивился Ишбирде.
– Мы... Я... Я сам твоего близкого кусюмского свата близкий сват буду, – ответил Валетдин, стараясь не выказывать своей гнусавости. Моя бабушка – твоя сватья Гидельни-са – всему вашему дому большой привет посылает.
– О, моя сватья Гидельниса! – воскликнул Ишбирде. – Почтенная, славная женщина! Где ступит – искру высечет, а уж петь-плясать пойдет – зрелище невиданное, звон монет на монисте сердце рвет! – принялся он осыпать кого-то похвалами. – Спасибо сватье! Привет приняли.
"Про какую это Гидельнису он говорит?" – подумал я, но тут он обратился ко мне:
– И ты сват?
– И я сват, – я дрогнул немного, но выстоял. – На улице еще пятеро остались, войти не решаются.
Этот высокий, гладкощекий, тонкоусый, наголо обритый агай подошел к двери, настежь рапахнул ее:
– Хай, хай, хай, сваты! Пожалуйте в дом. Не стесняйтесь!
Мальчишки нерешительно вошли в дом. Хозяйка пересадила детишек с полу на хике.
– Славно! Что нас вспомнили, вниманием удостоили – это очень хорошо, очень похвально, сваты, – сказал Ишбирде. – Мать, поставь-ка самовар, чаю приготовь. ,
Вымолвил он так, и что-то теплое, приятное струей прошло у меня внутри.
– Поставила бы, сынок, самовар, – ни чаю, ни сахару нет. И хлеба сноха только вечером принесет. По всему видать, осрамимся мы сегодня перед гостями.
– Муки наскребешь – лепешек испеки, крупы наберешь – похлебку свари.
На это хозяйка и вовсе ничего не ответила.
– А что же найдется, мать?
– Горох есть, размочить поставила.
– Горох? – обрадовался Ишбирде. – Размоченный горох – вот поистине сватово угощение! Отменная еда! Сию пииту примете ли, сваты?
– Примем! Примем! – ответили мы.
Гордость выказывать, в еде привередничать – было бы совсем не ко времени.
Посреди пола апай расстелила желтую замызганную скатерть, посреди скатерти поставила большую миску с разбухшим горохом. Горох был крупный, белый. И вправду, такой горох не каждый день перепадает.
– Давайте садитесь, кушайте. Ложек все равно на всех не хватит, действуйте руками, – стал угощать хозяин.
Мы встали на колени вокруг миски и, не торопясь, горстями, принялись таскать горох в рот. Спешить не спешим, но работа идет справно. Мы в жизни такого вкусного гороха не едали. Вот, оказывается, какое оно, "сватово угощение" – язык проглотишь!
К тому времени, как высветилось дно миски, и ведро холодной воды подоспело. На краешке большой ковш привешен.
– "От щедрой души и вода – шербет", говорили древние, – пояснил сват Ишбирде. – Они зря не скажут.
И вот на донышке только осталось.
– Что ж, возблагодарим бога, – хозяин, хотя сам к застолью не садился, провел ладонями по лицу. Мы тоже, как положено, исполнили обряд.
– На город посмотреть пришли, сваты? – спросил Ишбирде, по обычаю зачиная послетрапезную беседу.
– Да, дядя... сват... – вяло ответил Шагидулла.
– Понравилось ли?
– Как сказать... дома красивые, заборы высокие, – ответил за всех вожак, – только очень уж люди суетливые, спешат больно.
– Вы, сваты, правильно поступили, что в город пришли. Отрадно, что растете вы, путешествуя, мир постигая. Так и надо. В городе не всякий тоже день и ночь калачи ест. Случается – и простого хлеба нет. За это обиду, сваты, не держите... на город.
Валетдин в этом доме особенно в разговор не лез, но держался посвободнее нас. И с места он встал первым. Как-никак он главный сват.
– За почтение, за угощение, за лица приветливые – спасибо, сват, спасибо, сватья, – сказал он, – не обессудьте, если что не так. Пожалуй, и нам в аул отправляться пора.
Мы все разом вспорхнули с места.
– Ладно, коли так. Домой вернешься, сватье привет от нас передай, пусть и сама в гости выберется, – сказала мать Ишбирде. – Ох уж эта бедность! Даже гостинца никакого у меня нет...
– Доброе слово, мать, само по себе гостинец, – утешил ее сын.
Мы столпились возле двери.
– Дорогу-то домой не забыли? – спросил Ишбирде-сват.
– Не забыли, – сказал Асхат.
Он у нас как собака. В любой чаще с ним не заплутаешь, тем же путем, что забрели, обратно выведет, не собьется. Он свои следы на дух чует. А я и в полыни заблужусь. Такой неприметливый.
Мы еще несколько раз поблагодарили хозяев и вышли из этого чудного гостеприимного дома. Кому и каким сватом все же доводится этот Ишбирде? Да и сват ли вообще?
– Хоть и не шибко, парень, богато живут, однако сват у тебя щедрый, – сказал на улице Шагидулла Валетдину, – душу выложить готов.
– Был бы чай, и чаем бы напоил, валлахи! Говорил же я вам; только придем, он меня обнимет да приподнимет!.. – пошел задаваться Валетдин, от важности у него даже гнусавости поубавилось. Но важничал он по праву: чей сват угощал – его сват угощал.
Из этого неприютного города ушли мы порядком разочарованные. Обратный путь был еще длинней, еще изнурительней. Шли с единственной городской поживой – шишкой на лбу Насипа. Да под мышкой у Хамитьяна краснела моя тряпица.
Уж сумерками очи заволакивало, когда мы добрели до Дубковского взгорья. Глубоко вздохнули и посмотрели назад. Там, на далеком, затянутом мглой горизонте, мерцали огни города. Мигали часто-часто, будто наперегонки – заглядишься!
– А знаете, ребята, что они говорят?
Спросил это, разумеется, Асхат, сам же и ответил:
– Мигают и хихикают: "Обхитрили! Обхитрили!"
– Ну, город! Осрамил нас! – сказал Насип и показал кулак.
Следом мы тоже сложили кукиши и несколько раз сунули в заносчивые огни. Пусть теперь похихикают! Но злость на этом не улеглась, отплата явно была не сполна. Нужно было еще чего-то добавить.
– Давай, ребята, вконец осрамим его, – сказал несший весь стыд злополучного путешествия вожак.
– А как?
– А вот так... – он спустил штаны до колен и повернулся
задом к городу. Мы живо сделали то же самое.
__ Город, на!.. Позор тебе! Позор тебе! Позор тебе!
Мы следом за ним прокричали:
– Позор тебе! Позор тебе! Позор тебе!!!
Вдобавочек кто-то в сторону города давешним горохом выпалил.
Вот это поквитка – с лихвой!
Теперь уже огни города не мигают спесиво, а лопаются, как пузыри, и гаснут. Потому что весь он, этот город, от головы до пят, покрылся позором.
Мы же, воздав отмщение, оставшийся путь прошли легко и весело...
КРУГЛЫЙ ТАЛИП
Надо бы те козьи шкуры к Талипу снести, сам чего-то не показывается... – сказал отец за утренним чаем. Потом запряг коня и выехал со двора.
Братья с Младшей Матерью еще вчера на дальнее поле уехали, просо жать. Кто же тогда козьи шкуры отнесет? Небось теперь-то сами не пойдут, когда их с козы сняли. У нашего отца есть такая привычка: если какое дело нужно сделать – прямо не поручит, а только то и скажет, что это вот эдак бы сделать, а то – вот так. А на чью макушку палка пришлась – тут уж сам соображай. Вот на днях было, поужинали мы, и отец – в братьев моих старших, наверное, метил – такую притчу рассказал.
Дескать, давным-давно это было, решил один старик сыну невесту хорошую приискать. Сгреб он тогда своего уже в рост вымахавшего парня, говорят, и выволок на тропинку, где девушки по воду ходят. Завидел старик, что идут девушки, и принялся сына камчой охаживать. Одна из девушек и спрашивает:
– За что сына бьешь, бабай?
– Подскажешь – понимает, прикажешь – исполняет. За то и бью, сказал старик.
Рассмеялись девушки:
– Вот глупый старик!.. Такого хорошего парня лупит, – сказали и дальше пошли.
Потом еще одна девушка показалась, идет, задумавшись о чем-то. Старик опять за свою камчу взялся.
– За что сына бьешь, бабай? – спросила и эта.
– Подскажешь – понимает, прикажешь – исполняет.
– Крепче, старик, бей, хлещи, чтоб до нутра прожгло.
Пора уже твоему сыну без подсказки понимать, без приказу исполнять, – сказала так девушка и дальше пошла. И в тот же день старик к этой девушке сватов направил.
Последнее слово отец даже чуть нараспев сказал и замолчал. Мой Самый Старший брат Муртаза тут же уши навострил:
– А что девушка сватам сказала? Дала согласие? Отец, оказывается, с умыслом примолк. Он тут же продолжил рассказ.
– ...Вернулись сваты и такую весть принесли: "Несуразная какая-то девица оказалась – в делах ладу, в словах складу нет. Да и вся родня подозрительная. Словом, о намерениях своих мы промолчали, так и домой пошли". Но старик все же велел старшему свату все, что видели-слышали, обстоятельно, слово в слово рассказать.
"Когда мы в дом вошли, девушка одна была... – начал старший сват. На вопрос "Где твой отец?" девушка ответила: "Из друга врага делать пошел". – "А мать где?" – спросили мы. "Из одного двоих делать пошла", – говорит она. Пока мы так переговаривались, она в большую миску суп налила и перед нами поставила. Заглянули, там сумар* густо плавает... Ну, попили-поели мы, ложки положили, стены оглядели. Видим, сруб-то у них из толстенных бревен срублен. "Тяжело, наверное, было такие большие бревна из лесу таскать? – спросили мы. – Сколько бревен враз тянули?" – "Пока лошади худы да немощны были – по три, а то и по четыре. Когда чуть подправились, пришлось по два только накладывать. А уж когда совсем раздобрели кони – одно еле волокли, а то на полпути сваливали", – так нам разъяснила бестолковая девица. С тем мы и ушли. Остальное уж сам решай, – закончил старший сват. – Вот и все ее слова, нескладные да несуразные".
"Эх вы, послы, недотепы, – сказал отец того джигита. – Слово тоже, как кость, разгрызть надо и жир высосать. Вы же кость только облизали. Поучила девушка уму-разуму вас! Отец-то у нее – к другу пошел, просить, чтобы долг вернул, мать – к роженице пошла, дитя принимать. А что про бревна говорила, так это не бревна, а сумар, который вы ели. Поначалу голодные, вы набросились на сумар и, наверное, по три-четыре враз в ложку нагребали. Немного наевшись, вы уже поменьше тянули, а потом и одного осилить не могли, навар только хлебали. Так было?"
"Так и было", – вздохнули сваты и пошли восвояси.
'С у м а р – клецки
Старик сам назавтра пошел в дом девушки и все уладил, обо всем договорился.
Вот бы и нашему Муртазе такую невесту, он ведь тоже: "скажешь смекает". Да и Салих от брата не отстает: "прикажешь – исполняет".
Старшие братья отцову притчу выслушали молча. Не то что они, даже я понял, на что отец намекает. И у нас голова не мякиной набита.
...Так кто же козьи шкуры к Талипу понесет? Мы со Старшей Матерью, разумеется.
Круглый Талип живет на Совиной улице. Он маленький, коренастый и ужасно проворный. Весь год ходит в жалкой круглой шапчонке, она у него черным блеском блестит, до того заскорузла. Осенью он к ней уши пришивает, а весной отпарывает. Никто еще не видел, чтобы Талип шапку снял. Говорят, что он ее и в бане не снимает. Что же он там, под шапкой, прячет? Жену Талип из чувашской деревни взял, где в работниках жил. Поначалу жена все спрашивала: "Почему, Талипка, никогда шапки не снимаешь?", он отвечал: "У нас, у типтяр*, обычай такой". Народ все же подозревал: или парша там у Круглого Талипа под шапкой или рожки.
Сколько я его помню, он все по домам ходит, шкурки всякой живности, мелкой твари, кошачьи там, псиные, собирает. Шкуры коровы, скажем, лошади, медведя-волка, оленя-лося ему не достаются. Эти прямиком в капиратиф идут. Но мы, мальчишки, поймаем по весне суслика, хомяка, водяную крысу, или зимой ласка, горностай в капкан попадутся – шкуры сдерем и бежим к Талипу. Возвращаемся с медяками, иной раз, глядишь, и серебряная монета блеснет. Ни лошади у Талипа, ни коровы, ни другой скотины нет. Полон дом детей да этот промысел – вот и все его хозяйство.
Скатала Старшая Мать две козьи шкуры, сунула под мышку, и мы отправились к Круглому Талипу. Бывает, мы с Младшей Матерью пойдем куда-нибудь, да так случается, что, до места не дойдя, домой возвращаемся. Она со всеми сватами-сватьями встречными, роднеизнакомыми говорит и не выговорится. А Старшая же Мать только и молвит на ходу: "Здоров ли, свойственник? Все ли в благополучии, сватья?" И удивительно, когда с ней идешь, даже самые брехливые, самые вредные в ауле собаки не выносятся с лаем из-под ворот.
Круглый Талип сидел возле глинобитного сарайчика и доплетал лапоть, привязанный к колену. Завидев нас, он отвязал его, бросил в сторону и вскочил:
Типтяры – диалектная группа у башкир.
– Эгей, енге, проходи, проходи, сюда пожалуй. Сказал бы: в дом войди – да там ребятни полно, ни встать, ни сесть. Давай тут присядем, призовем божье благословенье.
Он вынес из сарайчика кусок старого паласа, расстелил на чурбаке. Сели, коротко помолились, призвали божье благословенье.
– Ну, Талип, чувства-мысли в благости, семья-стада в сохранности ли?
– Скота-птицы нет – душе отдохновение, детвора жива-здорова – богу благодарение. А вот с чувствами да мыслями по-разному бывает. Я ведь, енге, живу, как младенец во сне: без повода засмеюсь, без причины заплачу.
– Что с человечьей души взять, когда вон душа создателя – небо – и то все в переменах, – вскинув подбородок к небу, сказала Старшая Мать.
Талип вскочил, забегал взад-вперед, заговорил быстро:
– Я сейчас, енге, сидел и вот о чем думал: у безлошадного-то половина состояния на лапти уходит! Ведь сколько пеший бедняга обуви снашивает! Хорошо конному, всего и дела – на телегу влезть, а там сидишь-едешь, лапти целы. А сколько я пешком истоптал! Если все сложить, пять раз в Мекку сходить хватило бы.
– И в Мекку сходишь, если суждено...
– Их-хи-и, сноха, туда же за большие грехи идут. А какие мои преступления, что ближе Мекки им и прощения не вымолить? Я ведь, енге, если подумать, прямиком в рай должен попасть. Почему, спросишь? Потому что я одну неверную душу – свою жену то есть – в ислам перетянул. Мало того, она целый подол мусульманских детей нарожала.
Старшая Мать улыбнулась как-то странно.
– Это хорошо, Талип, – сказала она, – что ты ее мусульманкой сделал. Но ты же душу с верой, в которой она родилась, разлучил. Не грех ли это? Всяк сущий только своему богу должен поклоняться.
– Нет, енге, на это меня что-то не хватает, не пойму, – честно ответил Круглый Талип.
Это он правильно сказал. Я тоже что-то не понял.
– Забрал бы ты эти шкуры, Талип, – решила покончить с делами Старшая Мать.
– Спасибо, енге, ремесло мое уважила, да еще сама пришла, со своими годами, положением не посчиталась. Только ведь и старый долг еще за мной, не уплачен. Я про те три пуда проса говорю, которые весной брал. И за эти шкуры сразу рассчитаться – тоже капитала нет. Не знаю, что и делать: и денег нет, и совесть есть... – завздыхал хозяин.
– И деньги будут. За тобой не пропадет. Живы будем – сочтемся, сказала Старшая Мать.
– Подожди-ка, енге, у меня колесо от самоката есть, отличное колесо. В таком большом, как ваше, хозяйстве обязательно на что-нибудь сгодится. – И он вынес из сарайчика колесо. – Вон как блестит. Я его на большаке подобрал.
Старшая Мать похлопала его по плечу:
– Не печалься, сынок, должником не останешься. И в твой домишко достаток заглянет.
– Хе, енге, я еще так разбогатею да разжирею... Вот только срок настанет. И все же тяжеловато пока. Эка! Чуть не забыл, у меня отменная штука есть. Медный кум-ган! Такой кумган – ишанам только омовение совершать. Знатная вещь, не по нашим... не по нам, в общем, возьми-ка его себе, – и он ринулся было в сарай. Старшая Мать жестом остановила его.
А самокатное колесо было – загляденье. Я, как увидел его, так и застыл. Пусти его с Верхнего конца улицы – до самого Тименея, пожалуй, докатится. Вот бы оторопели мальчишки с Тименеевской улицы!.. Только резинки нет, видно, кто-то себе выковырял. Старшая Мать взглянула на меня и сказала: