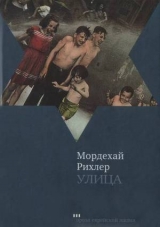
Текст книги "Улица"
Автор книги: Мордехай Рихлер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
2
Доктор Кацман обнаружил, что у нее началась гангрена, в один из своих дежурных ежемесячных визитов.
– Ей и месяца не прожить, – сказал он.
То же самое он сказал и в следующем месяце, и в следующем за ним, и так далее. И теперь она умирала в комнате за кухней.
– Милосердный Б-г, – говорила мама. – Чем она только держится и зачем?
В то лето, когда бабушка по всем расчетам должна была умереть, мы сняли коттедж в Лаврентийских горах на пару с Гринбаумами. Бабушку, а она уже семь лет не вставала, нельзя было перевозить. Доктор навещал ее два раза в неделю. Нам ничего не оставалось, как торчать в городе и ждать, когда она умрет, или, как говорила мама, отойдет. Лето стояло знойное, дверь бабушкиной комнаты выходила в кухню, и когда мы усаживались за стол, ее запах шибал в нос. Повязки на бабушкиной левой ноге нужно было менять по нескольку раз на дню, и, по словам доктора Кацмана, любой день мог оказаться для нее последним.
– Все в руках Всевышнего, – говорил доктор Кацман.
– Теперь уже недолго, – говорил папа, – да оно и для нее будет лучше, вы же понимаете.
Ежедневно приходила сестра из больницы Королевы Виктории. Она приходила ровно в полдень, и без пяти двенадцать я присоединялся к мальчишкам – мы сбивались в кучу под наружной лестницей, чтобы заглянуть ей под юбку, когда она будет подниматься к нам на второй этаж. Мисс Бейли носила исключительно обворожительные розовые штанишки, отороченные кружевами, вследствие чего поджидать ее было куда заманчивее, чем, к примеру, сестрицу Бесси: та – непогода ли, вёдро ли – щеголяла в необъятных бумажных панталонах.
Меня как можно чаще высылали на улицу: мама считала, что мальчику нехорошо видеть, как умирает человек. Обычно я просто шатался по прокаленным улицам. Компания подобралась такая: Гас, Херши, Стэн и я; время от времени к нам присоединялся Дудди.
– Прежде чем откинуть копыта, – сказал Дудци, – она заведет глаза и захрипит. Предсмертные хрипы – вот как это называется.
– Ну ты, всезнайка. Поц ты, вот ты кто.
– Да ты что, олух ты, я об этом читал, – тут Дудди меня как треснет, – у Перри Мейсона [63]63
Перри Мейсон – судейский крючок, главный расследователь в романах Эрла Стэнли Гарднера.
[Закрыть].
По возвращении домой я обычно заставал маму раздраженной, измотанной. А порой и в слезах.
– Она умирает сантиметр за сантиметром, – однажды душной ночью сказала она папе, – и хоть бы кто из них хоть раз ее проведал. Ну что это за дети! – добавила она и, перейдя на идиш, ругала их на чем свет стоит.
– Нехорошо себя ведут. Не положено так, – говорил папа.
Доктор Кацман не переставал удивляться.
– Ее держит одна сила воли, – говорил он. – Сила воли, ну и ваша самоотверженная забота.
– Там, в комнате за кухней, уже не она, не моя мама. Животное. Ей лучше умереть.
– Ша. Вы сами не сознаете, что говорите. Вы устали. – Доктор Кацман полез в свой черный саквояж и извлек оттуда таблетки – дать маме.
– Ваша жена – поразительная женщина, – сказал он папе.
– Кто бы мог подумать! – Папа явно смешался.
– Прирожденная сиделка.
У нас с сестрой, перед тем как заснуть, вошло в привычку вести долгие разговоры о бабушке.
– Когда она умрет, – говорил я, – у нее еще целые сутки будут расти волосы.
– Кто тебе такое сказал?
– Дудди Кравиц. Как по-твоему, на похороны приедет дядя Лу из Нью-Йорка?
– Наверное.
– Вот здорово, значит, мне еще пятерка перепадет. А тебе и побольше.
– Не говори так, не то она тебе потом будет являться.
– Ну, на ее-то похороны меня возьмут. Теперь они не смогут сказать, что я мал еще.
Когда умер дедушка, мне едва минуло шесть лет и на похороны меня не взяли. Моя память хранит одно – неизгладимое – воспоминание о деде. Однажды он позвал меня в свой кабинет, усадил на колени и нарисовал лошадку. На лошадку он поместил ездока. Я смотрел, хихикал, а он тем временем пририсовал ездоку бороду и опушенную мехом круглую раввинскую шапку – штраймл, – какую носил сам.
Мой дед был цадиком, одним из праведных, и меня убеждали, что ничто не может так обогатить, как изучение Талмуда с ним. На его похороны меня не взяли, но много лет спустя мне показали телеграммы соболезнования – их прислали из Ирландии, Польши и даже Японии. Деду принадлежит множество трудов: перевод книги «Сияния» (Зогар) на современный иврит – труд этот занял лет двадцать, уйма тощеньких книжечек проповедей, хасидские истории и раввинистические комментарии. Книги его издавали в Варшаве, а впоследствии и в Нью-Йорке.
– На похороны, – рассказывала мама, – чтобы предотвратить давку, прислали шесть полицейских на мотоциклах. Жара стояла такая, что двенадцать женщин упали в обморок, это не считая миссис Воксман с верхнего этажа. Ей, сам понимаешь, любой предлог годится – лишь бы на мужчину упасть. Хотя бы на Пинского. Говорила я тебе или не говорила, что на похороны пришел даже священник из франко-канадцев?
– Да ну, не может быть.
– Этот священник – он кнакер [64]64
Шишка ( идиш).
[Закрыть]. Чуть ли не епископ. Учился с зейдой [65]65
Дедушка ( идиш).
[Закрыть]. Зейда, сам понимаешь, был человек выдающийся. Возвышенный и притом житейски мудрый. Такие люди больше не рождаются. Сегодня что раввины, что орехи измельчали.
Однако, по мнению папы, зейду (его тестя) не так уж и почитали.
– Я бы тебе тоже кое о чем мог порассказать, – говорил он. – И не только о хорошем.
Мой дед вел свой род от многих поколений раввинов, раввином стал и его младший сын, но никому из его внуков раввином не суждено было стать. Мой двоюродный брат Джерри стал социалистом, притом воинствующим. Однажды я слышал, как он рассказывал: «Когда работники кошерных пекарен забастовали, зейда выступал против них и на улицах, и в шулах. Его ничуть не волновало, что людям сильно недоплачивают. Его отсталые последователи должны во что бы то ни стало есть кошерный хлеб. Дедуля был тот еще реакционер».
Через неделю после смерти деда у бабушки случился удар. Правую сторону у нее полностью парализовало. Она не могла говорить. Правда, поначалу ей еще удавалось произнести одно-два слова внятно и двигать правой рукой настолько, чтобы написать свое имя на иврите. Ее звали Малка. Однако с каждым днем она все больше сдавала.
У бабушки было семеро детей и семеро пасынков и падчериц: она была второй женой дедушки. Его первая жена умерла на прежней родине. Два года спустя он женился на моей бабушке, единственной дочери самого состоятельного человека в штетле. Брак их оказался на редкость счастливым. Бабушка была хороша собой. К тому же из нее вышла практичная, сметливая и терпеливая жена. Качества, должен сказать, необходимейшие для жизни с цадиком. Синагога не положила дедушке определенного жалованья, а существенную часть денег, которые ему удавалось раздобыть там-сям, он имел обыкновение раздавать учащимся ешивы, бедствующим эмигрантам и вдовам. Из-за этого изъяна – а именно так расценивала дедушкино поведение едва сводящая концы с концами дедушкина семья – дедушка как опора семьи был ничуть не лучше пьяницы. Чтобы подкрепить это уподобление, добавлю, что бабушке приходилось очертя голову, притом тайком, то и дело бегать в ломбард – закладывать свои украшения. Притом далеко не все ей потом удавалось выкупить. Зато дети не терпели недостатка ни в чем. Младшенький, ее любимец, стал раввином аж в Бостоне, старший совмещал в одном лице актера и администратора нью-йоркского идишского театра, третий стал юристом. Одна дочь жила в Монреале, две переехали в Торонто. Мама была младшей из бабушкиных детей, и когда с той случился удар, на семейном совете постановили возложить заботы о бабушке на маму. Виной тому был папа. Остальные мужья, встав на защиту жен, с пылом излагали, что их жены и без того валятся с ног – у них хлопот полон рот, им просто не справиться; отец же – он не любил ссор – молчал. И бабушку перевезли к нам.
Ее комнату за кухней вообще-то обещали, когда мне минет семь, отдать мне, а так я волей-неволей по-прежнему ютился в одной комнате с сестрой. Поэтому я – и меня можно понять – упирался, когда мама принуждала меня зайти перед школой к бабушке и поцеловать ее.
– Масик, масик. – Больше ничего бабушка выговорить не могла.
В первые месяцы в нас еще теплилась надежда.
– Ну кто бы мог двадцать лет тому назад предположить, что найдут лекарство от диабета? – вопрошал папа. – Пока ты жив… словом, вы понимаете…
Бабушка улыбалась в ответ, пыталась что-то сказать – глаза выдавали, каких усилий ей это стоило. Я гадал: знает ли она, что я жду не дождусь, когда смогу перебраться в ее комнату?
И позже она, случалось, прижимала мою руку к груди – левая ее рука оставалась на удивление сильной. Однако, по мере того как болезнь затягивалась, стала частью домашнего уклада, не оставлявшей оснований ни для надежды, ни для ропота, – чем-то вроде подтекающего холодильника, – поцелуи приобретали все менее личный, все более ритуальный характер. Ее комната стала внушать мне страх. Нагромождение липких лекарственных пузырьков, растреснутый стульчак у кровати, остекленелые, притом молящие глаза, слабая улыбка, мокрый, поползший на сторону рот, чмокающий меня в щеку. Я отдергивался. А спустя два года стал отлынивать, говорил маме:
– Какой смысл докладываться ей, куда я иду – туда или сюда? Она меня не узнаёт.
– Не дерзи. Она твоя бабушка.
Дядя, тот, что работал в нью-йоркском театре, в первые месяцы регулярно посылал деньги – помогал содержать бабушку; посылали деньги и другие дети. Однако едва первое, подстегивавшее их потрясение прошло, они почти перестали нас навещать. Если поначалу, тревожась о ней, они наведывались каждую неделю – «Как она, бедняжечка, сегодня?» – в скором времени они стали заскакивать раз в месяц на минутку лишь из чувства долга, а там и раз в полгода, да и то попутно.
Когда они все же приходили, мама не давала им спуску.
– Мне приходится поднимать ее не меньше трех раз на дню. И ты думаешь, я всегда поспеваю? Иногда я вынуждена менять ей белье по два раза на дню. Твоей бы жене так, – выговаривала мама моему дяде раввину.
– Мы могли бы отдать ее в дом престарелых.
– А что, это мысль, – говорил папа.
– Пока я жива, этого не будет. – Мама метнула на папу испепеляющий взгляд. – Сэм, ну скажи же ты что-нибудь.
– Ссоры делу не помогут. А только всех озлобят.
Теперь доктор Кацман приходил раз в месяц.
– Уму непостижимо, – говорил он всякий раз. – Она такая сильная, ну просто лошадь.
– И это жизнь? – говорил папа. – Сказать она ничего не может, никого не узнает – чего ради так жить?
Доктор был человек с культурными запросами: он часто выступал в женских клубах – когда с лекцией об идишской литературе, когда – и тут его румяное лицо грозно разгоралось, а голос звучал замогильно – об опасности рака.
– Не нам судить, – говорил доктор. – Кто мы такие?
В первые месяцы бабушкиной болезни мама каждый вечер читала ей по рассказу Шолом-Алейхема.
– Сегодня она улыбалась, – рассказывала мама. – И не думай возразить! Она понимает. Я же вижу.
В погожие дни мама поднимала старушку, сажала ее в кресло-каталку, вывозила на солнышко, раз в неделю делала ей маникюр. Днем кто-то должен был непременно оставаться дома: вдруг бабушке что-нибудь понадобится. Нередко по ночам старушка, неизвестно почему, поднимала крик, мама вставала и, обняв бабушку, часами укачивала ее. Но вот прошло четыре года, а бабушка все болела, и напряжение стало сказываться. Маме ведь приходилось не только ухаживать за бабушкой, но и вести хозяйство – муж как-никак, двое детей. Она стала третировать отца, цепляться к сестре, ко мне. Отец повадился проводить вечера у Танского, в его «Табачных изделиях и напитках» за игрой в безик. А по выходным водил меня в гости к своим братьям и сестрам. И куда бы папа ни пошел, все норовили дать ему какой-нибудь совет.
– Сэм, ты все равно что холостяк. Кто-то из других детей должен взять ее на время к себе. А тебе раз в кои-то веки надо бы стукнуть кулаком по столу.
– Смотри как бы я тебя не стукнул.
Моя двоюродная сестра Либби – она училась в Макгилле – сказала:
– Не исключено, что эта ситуация окажет самое отрицательное воздействие на формирование твоих детей. В годы, когда закладываются основы характера, дядя Сэмюэл, нужно, чтобы постоянная близость смерти не…
– Что тебе нужно – так это обзавестись парнем, – сказал папа. – И еще как нужно.
Теперь после ужина мама задремывала в кресле, даже если по радио шла передача «Лучшие спектакли». Только что она латала мои бриджи или прикидывала, кого из дам пригласить на партию в бинго, подсчитывала, сколько денег собрано на талмуд-тору [66]66
Еврейская религиозная школа, где после уроков в обычной школе изучают иврит, Тору, еврейскую историю и начатки иудаизма.
[Закрыть], – глядь, а она уже похрапывает. Затем, как и следовало ожидать, настало утро, когда она не смогла встать с постели. Не дожидаясь его регулярного визита, пришлось вызвать доктора Кацмана посреди недели.
– Ну и ну, ну и ну, куда же это годится?
Доктор Кацман увел папу в кухню.
– У вашей жены, – сказал он, – желчнокаменная болезнь.
Бабушкины дети снова собрались, на этот раз без мамы, и решили отдать старушку в Еврейский дом престарелых на Испленейд-стрит. Пока мама спала, за бабушкой приехала перевозка.
– Так ей будет лучше, – сказал доктор Кацман, но папа – он был в комнате за кухней – видел, как бабушка цеплялась за изголовье кровати: не хотела, чтобы ее уносили какие-то амбалы в белом.
– Полегче, бабуля, – сказал тот, что помоложе.
После того как бабушку увезли, папа не пошел к маме. А вышел пройтись.
Две недели спустя, когда мама поднялась с постели, на ее щеках, как и прежде, играл румянец; впервые за много месяцев она перешучивалась со мной. Ее чем дальше, тем больше интересовало, каковы мои успехи в школе и всегда ли я чищу ботинки. Она снова стала готовить отцу его любимые блюда, снова вела дружбу с дамами из совета хедера. Отец перестал вскидываться на нас, более того – он перестал что ни вечер уходить к Танскому и рано возвращался с работы. Тем не менее о бабушке мы избегали упоминать. Вплоть до того вечера, когда я, поцапавшись с сестрой, сказал:
– Почему бы мне не перебраться в комнату за кухней?
Папа ожег меня взглядом.
– Не распускай язык!
– Она же пустует, что ли нет?
Назавтра мама надела свое парадное платье и пальто, новую весеннюю шляпку.
– Не буди лиха, – сказал папа.
– Прошел месяц. Надо посмотреть, хорошо ли о ней заботятся.
– Там же опытные люди – им и карты в руки.
– Ты что думал – я не буду ее навещать? Я, знаешь ли, не зверь.
– Хорошо, иди.
Однако, когда мама ушла, папа подошел к окну и сказал:
– Кому везет, тому везет, и тут уж ничего не поделаешь.
Я сидел внизу, на терраске, смотрел на проезжающие машины. Папа расположился на балкончике, щелкал орехи – ждал. В шесть часов, а может, и попозже у нашего дома притормозила санитарная машина и, покачнувшись, остановилась.
– Так я и знал, – сказал папа. – Кому везет, тому везет.
Первой из машины вышла мама – глаза у нее покраснели, опухли – и кинулась наверх, стелить бабушке постель.
– Ты снова сляжешь, – сказал папа.
– Прости, Сэм, но что мне оставалось делать? Стоило ей меня увидеть, как она заплакала, и все плакала и плакала. Это был такой ужас!
– Там же самые опытные люди – им и карты в руки. Они лучше тебя знают, как ходить за ней.
– Опытные люди? Опытные убийцы – вот они кто. Сэм, у нее пролежни. Эти ирландские сиделки – такие мерзавки, она подолгу лежит мокрая, они ее ненавидят. Она похудела килограммов на десять, не меньше.
– Через месяц ты сляжешь, помяни мое слово.
Папа снова повадился что ни вечер уходить к Танскому, меня снова что ни утро заставляли целовать бабушку. Она – вот что странно – стала походить на мужчину. На подбородке у нее пробивались волоски, встопорщились седые усы, она практически облысела.
И снова дядья и тетки стали, хоть и нерегулярно, посылать по пять долларов на содержание бабушки. Старики, в прошлом последователи дедушки, наведывались – справиться о бабушкином здоровье. Они располагались в комнате за кухней и, опершись о палки, раскачиваясь, разговаривали сами с собой. Отец называл их «Святые трясуны». Я сторонился этих изрытых морщинами, усохших старцев: они норовили ущипнуть меня за щеку или подсунуть мне нюхательного табаку и закатывались смехом, когда на меня нападал чих. Навестив бабушку, они неизменно застревали на кухне и битый час смотрели, как мама готовит локшн [67]67
Лапша ( идиш).
[Закрыть], отхлебывая чай с лимоном из блюдечка. Вспоминали изречения, книги и добрые дела покойного цадика.
– На похороны, – маме не наскучивало рассказывать им одно и то же, – чтобы предотвратить давку, прислали шесть полицейских на мотоциклах.
В последующие два года в бабушкином состоянии значительных изменений не наблюдалось; вместе с тем мама снова стала уставать, раздражаться и видеть все в черном свете. Она бранилась с братьями и сестрами, и как-то раз, зайдя после особенно ожесточенной ссоры в комнату, я увидел, что она сидит, обхватив голову руками.
– Если бы, упаси, Господи, со мной случился удар, – спросила она, – ты отдал бы меня в дом престарелых?
– Нет, конечно.
– Хочется надеяться, что мне никогда и ни в чем не придется рассчитывать на помощь детей.
Бабушка болела уже седьмое лето, предполагалось, что она вот-вот умрет, и мы ожидали этого со дня на день. Меня нередко отправляли обедать к одной из теток или к бабушке с отцовской стороны. Дома я почти не бывал. В ту пору мальчишек по будням пускали на левые – самые дешевые – трибуны «Делормье даунз», и мы, Дудди – иногда к нам присоединялся Гас, – Херши, Стэн, Арти и я, с утра до вечера болтались на стадионе «Монреаль ройялз», где в основном ковались кадры для «Доджерс» – он был тогда одним из лучших клубов. В его составе играли Джекки Робинсон, Рой Кампанелла, Лу Ортис, Ред Дэррет, Честняга Джон Габбард и Кермит Китман. Мы боготворили Китмана. Ликовали, глядя, как этот ушлый еврейчик, один из наших, мчит по полю наравне с рослыми вахлаками с Юга.
– Эй, Китман! – вопили мы. – Эй ты, дурья голова, знал бы твой папаша, что ты играешь в субботу!
Кермит играл хорошо, а вот с битой, увы, был не в ладах. И в высшую лигу его так и не взяли.
– Вот он – Кермит Китман, – орали мы после того, как он опять промазал по мячу, – первый еврейский мазила Международной лиги! – После чего переходили на идиш и ругали его на чем свет стоит.
Когда я после одной из таких игр вернулся посреди дня домой, перед нашей дверью толпились люди.
– Это ее внук, – сказал кто-то.
Напротив нашего дома, по другую сторону улицы, стояла кучка стариков – они неотрывно смотрели на нашу дверь. Подъехало такси, из него выскочила моя тетка – она закрывала лицо руками.
– Это ж сколько лет она болела, – сказали в толпе.
– А на следующий год, глядишь, и найдут лекарство. Так всегда.
В нашу квартиру набился народ. Дядья и тетки с отцовской стороны, какие-то незнакомые люди, доктор Кацман, соседи – все толклись в комнатах, переговаривались приглушенными голосами. Папу я застал в кухне – он вынимал из шкафчика абрикосовый бренди.
– Твоя бабушка умерла, – сказал он.
– А мама где?
– В спальне, с… Тебе лучше туда не ходить.
– Я хочу к ней.
Мама – голова ее была покрыта черной косынкой – буравила взглядом зажатый в растрескавшейся от каустика руке мятый-перемятый платок.
– Не входи сюда, – сказала она.
Кровать окружали бородатые сгорбленные мужчины в заношенных черных пиджаках. Они заслоняли бабушку.
– Твоя бабушка умерла.
– Папа мне сказал.
– Поди умойся и причешись.
– Хорошо.
– Поужинаешь сам.
– Угу.
– Погоди. От бабы остались кое-какие украшения. Бусы перейдут к Ривке, а кольцо к твоей жене.
– Какой еще жене?
– Иди-ка умойся. И за ушами не забудь помыть.
Мы разослали телеграммы, позвонили всем, кому положено, в другие города, и весь вечер в дом стекались родственники, соседи и старые почитатели цадика. Вслед за ними явились и гробовщики.
– А вот этот еврей, – сказал Сегал, завидев гробовщика, – хотел бы, чтобы его клиентами были одни немцы.
– Нашел время шутить.
– Слушай, жизнь же не кончилась.
Мой двоюродный брат Джерри взял моду курить, вставляя сигареты в мундштук.
– Сейчас заведут эту религиозную бодягу, – сказал он мне.
– Что?
– Сейчас все пустят слезу – глаза б мои на них не глядели.
Следующий день пришелся на субботу, а значит, по закону бабушку нельзя было хоронить до воскресенья. Всю ночь ей полагалось лежать на полу. Две седые тетки, все в белом, пришли переложить и обмыть ее, явился и плакальщик – сидеть около нее и молиться.
– Его лицо не вызывает доверия, – сказала мама. – Он заснет.
– Да не заснет он.
– Ты уж, Сэм, присмотри за ним.
– Много толку ей сейчас от молитв. Ну ладно, ладно. Я за ним присмотрю.
Папу бесил Сегал.
– Он так хлещет бренди – можно подумать, бутылки в жизни не видал.
Нас с Ривкой отправили спать, но заснуть мы не могли. Тетка рыдала над телом в гостиной, старик молился, перхал, задремывал, а когда просыпался, отхаркивался в платок; из кухни, где сидели папа с мамой, доносились приглушенные голоса, всхлипы. Ривка дала мне раз-другой затянуться своей сигаретой.
– Вот так-то, пишерке [68]68
Сцыкунчик ( идиш).
[Закрыть], в последний раз мы с тобой спим в одной комнате. Завтра сможешь перебраться в комнату за кухней.
– Ты что, спятила?
– Ты же всегда хотел там жить, разве нет?
– Хотеть-то хотел, только она ж умерла там.
– И что?
– Я теперь не смогу там спать.
– Спокойной ночи, приятных снов.
– Слушай, давай еще поговорим.
– А ты знаешь, – сказала Ривка, – что у висельников в последнюю минуту случается оргазм?
– Что-что?
– Замнем. Я забыла: у тебя еще молоко на губах не обсохло.
– Поцелуй меня в…
– На похоронах гроб откроют и в лицо ей будут кидать грязь. Считается, что это земля из Эрец. Тут тебе надо будет на нее поглядеть.
– Скажешь тоже.
А чуть спустя, как только мы выключили свет, Ривка подобралась к моей кровати – голову накрыла простыней, руки воздела кверху:
– Масик, масик! И кто это спит в моей кровати? У-у-у-у!
Дядя, тот, что работал в театре, и тетя из Торонто приехали на похороны. Дядя раввин тоже прибыл.
– При ее жизни, – сказала мама, – он не мог послать ей и пяти долларов в месяц. Пусть он уйдет, Сэм. Мне тяжело его видеть.
– Вы не в себе, – сказал доктор Кацман, – сами не знаете, что говорите.
– Вы бы дали ей успокоительное, – сказал раввин.
– Сэм, да не молчи ты! Хоть раз в жизни скажи, что ты думаешь.
Папа – он раскраснелся, глаза его сверкали – подступился к раввину.
– Я тебе, Израиль, скажу напрямик. Твоя цена в моих глазах упала.
Раввин слегка раздвинул губы в улыбке.
– Год за годом, – продолжал папа – лицо его уже побагровело, – твои акции падали все ниже и ниже в моих глазах.
Тут мама разрыдалась, и ее, как она ни противилась, увели и уложили в постель. Пока папа, как мог, старался ее успокоить, бормоча что-то утешительное, доктор Кацман воткнул ей в руку шприц.
– Вот так-то, – сказал он.
Я вышел – посидеть на крылечке с Дудди. Мой дядя раввин и доктор Кацман перебрались на солнышко – покурить.
– Я прекрасно представляю себе, что вы чувствуете, – сказал доктор Кацман. – Умер близкий вам человек, а миру, как вам кажется, нет дела до вашей утраты. Ваше сердце разбито, а день такой погожий, прямо созданный для любви и веселья… и вам видится в этом большая жестокость.
Раввин кивнул, испустил вздох.
– Вообще-то, – сказал доктор Кацман, – уму непостижимо, как только ей удалось так долго продержаться.
– Непостижимо? – сказал раввин. – Сказано: если человек был женат дважды, на небесах он пробудет со своей женой столько же, сколько и на земле. Мой отец, мир его праху, прожил со своей первой женой семь лет, и моей маме, мир ее праху, удалось продержаться семь лет. Сегодня на небесах она сможет соединиться с моим отцом, мир его праху.
Доктор Кацман покачал головой.
– Поразительно, – сказал он. И рассказал дяде, что пишет книгу, в основу которой лег его опыт целителя. – Тайны человеческого сердца.
– Да-да.
– Потрясающе.
Из дома выскочил папа.
– Доктор Кацман, прошу вас. Жене нехорошо. Наверное, укол был недостаточно сильный. Она все плачет и плачет. Слезы текут, ну все равно как вода из крана. Прошу вас, пройдите к ней.
– Извините, – сказал дяде доктор Кацман.
– О чем речь! – Дядя повернулся ко мне и к Дудди. – Ну что, мальчики, – сказал он, – кем бы вы хотели стать, когда вырастете?








