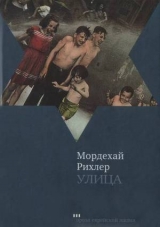
Текст книги "Улица"
Автор книги: Мордехай Рихлер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
– Он в восторге от моей энергии и увлеченности, так или не так?
Мервин отправил роман в очередное издательство, но у окна больше не стоял – Молли не сторожил. Он сильно переменился. И не в том дело, что его еще пуще закидало прыщами, – закидать-то закидало, что да, то да, но это скорее всего потому, что он опять стал есть чуть ли не одни углеводы, – а в том, что ему вдруг стала безразлична судьба его романа. Я произвел на свет дитя, говорил он, отпустил его на все четыре стороны, а теперь – будь что будет. Играло роль и еще одно обстоятельство: Мервин вновь, как он выразился, зачал (оно и видно, сказал мне один из завсегдатаев Танского): иными словами, Мервин приступил к работе над новым романом. Мама считала, что это хороший знак, и чего только ни делала, чтобы подбодрить Мервина. И хотя она чуть ли не через день меняла ему белье, она не роптала. Да что говорить, она даже делала вид, что у нас так заведено. Тем не менее Мервин был всегда не в духе и отлынивал от литературных разговоров, которые прежде так радовали маму. Теперь он что ни вечер встречался с Молли и, случалось, возвращался домой лишь в четыре-пять утра.
И вот что любопытно – теперь Мервина дожидался папа: допоздна не ложился спать, а то и поднимался с постели и присоединялся к нему на кухне. Варил кофе, приносил в кухню заветную бутылочку абрикосового бренди. Меня нередко будили раскаты смеха. Папа рассказывал Мервину про свое детство, про жизнь в отцовском доме, про то, как туго ему пришлось потом. Рассказывал, что его теща была семь лет прикована к постели, и с гордостью, сквозившей в каждом слове, гордостью, которая маму удивила бы и, как знать, может быть, и польстила бы ей, рассказывал, что мама ходила за старушкой лучше, чем любая сестра с кучей дипломов.
– Посмотреть на нее сейчас, – говорил папа, – это же день и ночь. До того, как с тещей случился удар, она не была такой брюзгой. Что ж, жизнь есть жизнь.
Папа рассказывал Мервину, как познакомился с мамой и как она писала ему письма со стихами Шелли, Китса и Байрона, а ведь он жил всего за две улицы от нее. В другой раз я слышал, как папа сказал:
– В молодости, знаешь ли, я, бывало, и вовсе не ложился. От полноты чувств. Так во мне все бурлило. И чем переводить время на сон, уходил из дому, бродил по улицам. Думал: а вдруг просплю что-то важное. Ну не бред ли?
Мервин что-то бормотал в ответ. Чувствовалось, что он устал, замкнулся в себе. Но папу это не останавливало. Я слышал, как он ласково говорит с Мервином, его непривычный для меня смех, и меня пронзала зависть, для которой имелись основания. Папа никогда так не разговаривал ни со мной, ни с сестрой. Он открылся для меня с совершенно неожиданной стороны, и я до того был этим ошарашен, что вскоре перестал ревновать его к Мервину.
Как-то вечером я услышал, как Мервин говорит папе:
– Не исключено, что мой роман никуда не годится. Возможно, мне необходимо было написать его, чтобы от многого освободиться.
– Как это понимать – «никуда не годится»? Я раструбил, что ты великий писатель.
– Это я под воздействием бренди сказанул. – Мервин дал задний ход. – Я вас дразнил.
При всем при том кое-какие трудности Мервин испытывал. Братишка Молли передал мне, что мистер Розен объявил: он готов уйти на покой. «Хотя обременять собой я бы никого не хотел», – сказал он. Молли же стала скупать все киношные журналы, какие только имелись у Танского: «Надо быть в курсе, – сказала она Гитл, – ведь мне придется встречаться с кинозвездами, и я не хочу попасть впросак и оконфузить Мервина».
У Мервина меж тем пропал аппетит: он нередко выбегал из-за стола, зажимая рот рукой, – мчался в ванную. И тут только я узнал, что мама давно уже купила клеенку и подкладывает ее Мервину под простыню. Если Мервину доводилось проходить мимо заведения Танского, он теперь не заглядывал туда поболтать. А опускал голову и спешил проскочить мимо. Как-то раз его остановил Сегал.
– В чем дело? – спросил он. – Загордился – мы теперь тебе не компания?
Завсегдатаи Танского начали поддевать отца.
– Этот твой гений, с чего бы вдруг он такой большой шишкой себя возомнил, – сказал Шугарман, – что ему уже недосуг с нами пообщаться?
– Посмотрим правде в лицо, – сказал папа. – Кто вы – нули без палочки. Как и все мы. А вот мой друг Мервин…
– Не заливай, Сэм. Он продавец воздуха. Дурного воздуха.
Папа и вовсе перестал ходить к Танскому. А пристрастился раскладывать пасьянсы.
– Ты почему торчишь дома? – спрашивала мама.
– Что, уже нельзя вечер дома посидеть? Я ведь, как ты знаешь, тоже живу тут.
– Сэм, не увиливай от ответа.
– Достали они меня. Думаешь, эти жуки навозные знают, как живется художнику? – Папа запнулся: следил за маминым лицом. – По их выходит, что Мервин – не Бог весть что. Короче, не писатель.
– А тебе известно, – сказала мама, – что он задолжал нам за семь недель?
– В тот день, когда Мервин к нам пришел, – папа, полуприкрыв глаза, поднес спичку к трубке, – он сказал, что между нами пробегают токи. И я не брошу его в трудную минуту из-за нескольких долларов.
Тем не менее Мервина что-то грызло. Ни в этот вечер, ни в следующий он не пошел на свидание с Молли. Снова стоял у окна, ждал, когда Молли пройдет мимо, затем возвращался в свою комнату – решал кроссворды.
– В картишки перекинуться не хочешь? – спросил я.
– Я люблю эту девушку, – сказал Мервин. – Обожаю ее.
– Я считал, у вас дело на мази. Считал, вы времени даром не теряете.
– Да нет же, нет. Я хочу на ней жениться. Я сказал Молли, что остепенюсь и поступлю на работу, если она пойдет за меня.
– Ты что, спятил? Какая работа? С твоим-то талантом?
– И она так говорит.
– Да ладно, давай перекинемся в картишки. Отвлечешься хотя бы.
– Она не понимает меня. Никто не понимает. Для меня поступить на работу – вовсе не то же, что для рядового парня. Я не перестану наблюдать за собой, за своими реакциями. Я хочу понять, что чувствует рассыльный, но не извне, а побывав в его шкуре.
– Ты что – и впрямь собираешься стать рассыльным?
– Да нет, не совсем так. Кто меня не знает, может подумать, что так оно и есть, но на самом деле я буду все время наблюдать за своими товарищами. Я же художник, сам понимаешь.
– Мервин, да не дергайся ты. Попомни мои слова: завтра же придет письмо из издательства – они тебя еще будут умолять, чтобы ты отдал им свою книгу.
Но назавтра никакого письма не пришло. Прошла неделя. А там и десять дней.
– Это хорошо, – сказал Мервин. – Значит, к моей книге отнеслись серьезно, ее рассматривают.
Дело дошло до того, что мы все стали с нетерпением ждать появления почтальона. Мервин заметил, что папа больше не ходит к Танскому, а мамины подруги ее поддразнивают. Он если и выходил из своей комнаты, так только чтобы позвонить Молли – звонил он ей по многу раз на дню. Но звони не звони, Молли не хотела с ним разговаривать.
Как-то вечером, когда папа возвратился с работы, лицо его горело.
– Сукин он сын, этот Розен, – сказал папа, – гнида поганая! Знаешь, что он сказал? Сказал, что не хочет иметь зятем обманщика или проходимца. Сказал, что никакой ты, Мервин, не писатель, а дерьмо. – Отца разбирал смех. – Но я его поймал на вранье. Знаешь, что он сказал? Что ты собираешься поступить на службу рассыльным. Ну уж тут я ему выдал.
– Что ты ему сказал? – спросила мама.
– Выдал по первое число. Уж будь уверена. Ты же знаешь, если меня достать…
– А что, неплохая мысль: воможно, Мервину и стоит поступить на работу. Все лучше, чем залезать в долги…
– Что бы вам поменьше хвастаться перед своими друзьями, – это Мервин маме сказал. – Я вас об этом не просил.
– Значит, я хвастунья? Немедленно возьмите свои слова обратно. Вы, по-моему, просто обязаны извиниться передо мной. В конце концов, кто утверждал, что вы большой писатель, вы или не вы?
– Что у меня талант – это неоспоримо. У меня пачка писем от видных людей и…
– Я жду, чтобы вы извинились. Сэм, ну что же ты?
– Скажу по справедливости. Кое-какие из писем я видел, что да, то да. Но это вовсе не означает, что Эмили Пост [125]125
Эмили Прайс Пост (1873–1960) – автор популярной книги «Этикет – голубая книга хорошего тона» (1922), выдержавшей много изданий.
[Закрыть]одобрила бы Мервина: он не должен был говорить, что ты…
– Когда мой муж увидел вас впервые, он сразу понял, кто вы такой… Он тогда еще сказал, что вы – паразит.
– Не беспокойтесь, – это Мервин сказал папе. – За квартиру я заплачу, чего бы это мне ни стоило. Спокойной ночи!
А вот за это не поручусь. Может, мне и почудилось. Но глубокой ночью, когда я встал – сходить в уборную, – мне послышалось, что Мервин рыдает. Однако как бы там ни было, на следующее утро в нашу дверь позвонил почтальон и вручил Мервину письмо и бандероль.
– Вот уж не ко времени, – сказал папа.
– А вот и ошибаетесь. Это письмо от одного из самых серьезных издателей в Америке. Он предлагает за мою книгу аванс – две с половиной тысячи долларов.
– Вот это да! Покажи.
– Вы что, мне не доверяете?
– Доверяем, конечно, доверяем. – Мама кинулась обнимать Мервина. – Я всегда знала, что у вас талант.
– Такое дело надо обмыть, – сказал папа и пошел за абрикосовым бренди.
Мама тут же позвонила миссис Фишер.
– Ида, звоню, чтобы сказать – я все-таки испеку что-нибудь для благотворительного базара. Нет, нет, ничего нового. Да, чуть не забыла. Помнишь, ты еще говорила, что Мервин – просто-напросто шаромыжник. Так вот, нью-йоркский издатель предлагает ему фантастические, ну прямо фантастические деньги за его книгу. Нет, нет, это секрет, могу только сказать, что цифра четырехзначная. Взволнован? Ну нет. Может быть, он им еще и откажет.
Папа бросился к телефону – звонить Танскому.
– Минутку. Не пори горячку. Что, если пока никому ничего не говорить, а отпраздновать в узком кругу?
Папа все же позвонил Танскому.
– Шугарман, ты? Привет. Валите все к нам. Ставим выпивку. Что, что, «Корсаковскую», конечно. А вот, умник, и не угадал. Никак нет. В ее-то годы. Успех Мервина хотим обмыть. Он получил предложение от издателя – пять тысяч долларов аванса, сейчас он решает – подписать договор или нет.
Не успел папа положить трубку, как зазвонил телефон.
– А, это вы, миссис Розен, здравствуйте, – сказала мама. – Спасибо. Да, передам. Да нет же, нет, разумеется, я ничего против вас не имею – сколько лет мы прожили рядом. Да нет. Разумеется, нет. Вы же не меня назвали скупердяем. Ваша Молли не надо мной насмехалась.
Мервин сидел туг же на диване, обхватив голову руками, – его никто не замечал.
– В дверь звонят, – сказал папа
– Я, пожалуй, ненадолго прилягу. Извините.
К тому времени, когда Мервин появился вновь, к нам стеклись чуть не все завсегдатаи Танского.
– Будь на то моя воля, – сказал папа, – я ни одного из вас на порог бы не пустил. Но Мервин – он зла не помнит.
Отец Молли протолкался к Мервину – того обступили со всех сторон.
– Хочу, чтоб ты знал, – сказал он, – я тобой горжусь. Другого зятя я себе и не желал бы.
– Уж не слишком ли вы торопите события? Или я не прав?
– Когда она тебе отказывала, разве ты не предлагал ей выйти за тебя раз сто, не меньше? А теперь, когда я пришел, чтобы сказать – дело в шляпе, у тебя поджилки от страха затряслись. Ну как вам это понравится?
Все обернулись к ним. Послышался смех, впрочем, вполне добродушный.
– Ты ей писал такие письма, что я до сих пор краснею со стыда…
– Но ведь письма возвращали нераспечатанными?
Отец Молли пожал плечами, лицо Мервина посерело – стало цветом в промокашку.
– Слушай сюда, – сказал Розен. – Моя Молли, ты уж извини, не нуждается, чтобы за нее просили.
Тут кто-то сказал:
– А вот и она.
Завсегдатаи теснее сплотились вокруг Мервина.
– Привет. – Молли благоухала ландышем. Сквозь свитерок просвечивал лифчик (и тот и другой цвета «полуночной тьмы», от «У Сьюзи»). Ее клетчатую шотландскую юбку скалывала большущая позолоченная английская булавка. – Привет, котик. – Она кинулась Мервину на шею, расцеловала его. – Мама мне только что сказала. – Молли одарила собравшихся лучезарной улыбкой. – Мистер Капланский просил моей руки. Мы обручились.
– Поздравляю! – Розен хлопнул Мервина по спине. – Наилучшие пожелания вам обоим.
Все закричали, захлопали.
– Когда придет время выбирать спальный гарнитур, обратитесь к моему зятю Лу – не ошибетесь.
– Надеюсь, – сказал Такифман, – в вашем доме будет строго соблюдаться кошер.
– Я тебе, Такифман, напрямик скажу: кое-кто из самых отъявленных мошенников нашего города ест исключительно кошерное.
– А он дело говорит. Сейчас ведь что самое главное – чтобы у молодых в постели была совместимость.
Мервин, окруженный плотным кольцом мужчин, выглядывал из-за их голов: искал глазами Молли. Она обнаружилась в дальнем углу комнаты – зажатая, как и он, кольцом гостей, она ела банан. Молли рассиялась в улыбке, подмигнула.
– Ну не славная ли выйдет парочка?
– Двадцать лет назад так же говорили и о нас. Ну как, ответил я на твой вопрос?
Мервин опрокидывал рюмку за рюмкой. Вид у него был хуже некуда.
– Эй, Сегал, – сказал папа, расплескивая бренди. – А ну-ка, Сегал, отгадай, что входит твердое и крепкое, а выходит мягкое и мокрое.
– Тоже мне загадка, – сказал я. – Жевательная резинка. Эта загадка с бородой.
– А ну попридержи язык! – сказал папа. – Нарываешься!
– Знаете что, – сказал Миллер. – Я бы не прочь чего-нибудь покушать.
Мама молча, с поджатыми губами ходила по комнате, и стоило гостю выпустить рюмку из рук, как она тут же ее забирала.
– Я вам вот что скажу, – пророкотал Розен, – пойдемте-ка к нам – я вас прилично покормлю, да и на джин не поскуплюсь.
Наша гостиная опустела еще быстрее, чем заполнилась.
– Где твоя мать? – Папа был озадачен.
Я сказал, что она на кухне, и мы пошли за ней.
– Ну же, ну, – сказал папа. – Пошли к Розенам.
– А кто, интересно знать, будет прибираться – вон твои друзья как намусорили.
– Успеется.
– У тебя совсем нет гордости.
– Бога ради, не заводись. Хотя бы сегодня.
– Тебе бы только напиться.
– Как же, как же, я – второй Рей Милланд [126]126
Рей Милланд (1907–1986) – американский актер, исполнил роль алкоголика, допившегося до белой горячки, в знаменитом, получившем премию Оскара фильме Б. Уайлдера «Пропавший уикэнд» (1945).
[Закрыть]. Вот-вот чертей начну ловить.
– Бедного мальчика – он такой неопытный – заставляют жениться, хочет он этого или не хочет, а тебе хоть бы хны.
– А ты не можешь всего раз, один-единственный раз порадоваться жизни?
– Ты бы на него поглядел – ты что, не видел, как он напуган? Я боялась, как бы он сознание не потерял.
– Если парня не подтолкнуть, кто бы тогда женился? Да что говорить, помню, в молодости я…
– Иди к Розенам, Сэм. Сделай одолжение.
Папа выпроводил меня из комнаты.
– Мне не… – начал он, – короче, мне не всегда хорошо с тобой. Во всяком случае, не изо дня в день. Я тебе это напрямик говорю.
– Когда я нуждалась в твоей защите, где ты был? Сегодня храбрость черпают в бутылке. Сделай такое одолжение, Сэм. Иди.
– Чтобы я ушел, а ты сидела одна, – разве я этого хотел? Я хотел остаться с тобой. Но раз ты так…
Папа пошел в гостиную за пиджаком. Я вскочил.
– А ты-то куда? – спросил он.
– К Розенам.
– Оставайся дома с мамой – ну до чего же ты черствый!
– А, черт!
– Ты меня слышал. – На пороге папа остановился. Просунул пальцы под подтяжки, раскачиваясь на каблуках, запрокинул голову – подбородок его нелепо задрался. – Я не всегда был отцом. И я когда-то был молодым.
– И что?
– Знаешь, словом «брак» хорошую вещь не назовут. Вот так-то.
Посреди ночи я проснулся оттого, что в гостиной с грохотом упал стул: кто-то рухнул на пол, затем зарыдал. Это был Мервин. Несчастный, растерянный – ноги его не держали. Он сидел на полу с бокалом в руке. Увидев меня, он поднял бокал.
– Зелье – худший враг словотворца, – ухмыляясь, сказал он.
– А когда ты женишься?
Мервин засмеялся. Засмеялся и я.
– И вовсе я не женюсь.
– Что?
– Ша.
– Я думал, ты по Молли сохнешь.
– Было да сплыло. – Мервин встал, шатаясь, добрел до окна. – А с тобой так случалось, – ска зал он, – смотришь на звезды и понимаешь, как ты мал и ничтожен?
– Нет, до сих пор нет.
– На самом деле ничто не имеет значения. В масштабах вечности наши жизни не долговечней дымка от сигареты. Ага, – сказал он. – Ага. – Вынул ручку – в нее был вделан фонарик – и написал что-то в блокноте. – У писателя, – сказал он, – все идет в дело. Никакой опыт не может его унизить.
– А как насчет Молли?
– Молли – одноклеточное. Я тебе после первой же с ней встречи так и сказал. Ей нужен не я, а побрякушки, которые я могу ей обеспечить. Моя слава… Если ты и впрямь вознамерился стать словотворцем, тебе следует помнить одно. Пока ты пробиваешься – мир насмехается над тобой. Но стоит тебе пробиться – и первые красавицы ползком приползут к тебе.
Он снова заплакал.
– Хочешь, я с тобой посижу? – сказал я.
– Нет. Иди ложись. Мне нужно побыть одному.
Наутро за завтраком мама с папой не разговаривали. Глаза у мамы покраснели и опухли, а папа был сердитый: плюнь – зашипит. Мервину пришла телеграмма.
– Из Нью-Йорка, – сказал он. – Требуют, чтобы я незамедлительно приехал. Голливуд хочет купить мою книгу, а без меня издатели не могут ничего предпринять.
– Не может быть!
Мервин сунул папе в руки телеграмму.
– Вот, – сказал он. – Читайте.
– Не кипятись. Что я такого сказал… – Телеграмму папа тем не менее прочитал. – Ишь ты, – сказал он, – Голливуд.
Мы помогли Мервину собраться.
– А Молли не надо вызвать? – спросил папа.
– Не стоит. Я уезжаю всего на два-три дня. Хочу сделать ей сюрприз.
Мы подошли к окну – помахать ему вслед. Перед тем как сесть в такси, Мервин поглядел на нас – глядел долго, но в ответ нам не помахал, и, конечно же, больше мы его не увидели. А через несколько дней пришел счет – счет за телеграмму. Она была отправлена из нашего дома.
– Меня это ничуть не удивляет, – сказала мама.
Мама считала, что, если бы не Розены, Мервин никогда бы от нас не сбежал. Розены же возлагали вину за, как они выражались, «бесчестье» своей дочери на нас. Папа снова убрал трубки подальше, у Танского над ним поиздевались всласть – не упускать же такой случай. А через месяц из Торонто пошли переводы по пять долларов. И приходили время от времени до тех пор, пока Мервин не выплатил все, что задолжал. Но на папины письма он так ни разу и не ответил.
10
Блумберг – он учил нас в четвертом классе – был воинствующим сионистом.
– Как мы добывали оружие в Эрец? Как, как, у англичан покупали – вот как. Делали вид, что кого-то хороним, набивали гроб винтовками и зарывали, ну а как возникнет в них надобность, выкапывали.
Мы, слушая его байки о хитроумии евреев, зевали или поднимали два пальца вверх, показывая, что не верим ему, однако это вовсе не означало, что его рассказ нас не впечатлил. Просто Блумберг, беженец из Польши, загружал нас домашними заданиями, вот мы и забавлялись – осаживали его. Блумберг пичкал нас устрашающими рассказами о зверствах антисемитов. Жизнь будет нелегкой. Гои станут чинить нам всяческие обиды. Меня ему не удавалось застращать: евреем наподобие Блумберга я не буду, вот уж нет – с таким нелепым выговором, с вечным ловкачеством, с явно негигиеничной привычкой слюнить палец, перед тем как перевернуть страницу «Aufbau». Я – настоящий канадец и вполне понимаю, почему Блумберг вызывает у канадцев неприязнь и даже насмешки. Как и у меня. Блумберг какое-то время прожил в Палестине и к английской армии относился с презрением. В отличие от меня. Как я мог ее презирать? Фильм «В котором мы служим» [127]127
Фильм Д. Лина и H. Коуарда (1942) о мужестве английских моряков в годы второй мировой войны.
[Закрыть]уже несколько недель шел в «Орфеуме». Мои двоюродные братья и дядья служили в канадской армии – готовились вторгнуться в Европу из Суссекса.
Война. «Славьте Господа, – выпевал отец, требуя подложить ему еще печеных бобов, – и передавайте снаряды» [128]128
Так военный священник Хауэлл М. Форги (1908–1983) подбадривал солдат 7 декабря 1941 г., когда японские самолеты бомбили Перл-Харбор.
[Закрыть]. Мой двоюродный брат Джерри носил значок Красного Креста – он сдавал кровь. Я собирал лом.
Война означала: если есть много моркови, будешь видеть в темноте не хуже ночных истребителей. Два растопыренных пальца означают – V (victory) – победа! На Рейне Пол Лукас стоит на страже. В окнах всех табачных и кулинарных лавчонок висели плакаты – они предостерегали хасидов, оптовых галантерейщиков и меламедов не болтать лишнего о передвижении наших войск. Студенты университета, в том числе и мой двоюродный брат Джерри, ездили в западные провинции – убирать пшеницу. Мои дядья назвали своих собак – они купили их для охраны свалки – Адольф и Бенито. Арти, Гас, Херши, Дудди и я в войну прекратили собирать программы хоккейных матчей и вместо этого увлеклись самолетами. На переменах мы махали перед носом друг у друга картинками с изображением самолетов. Я научился отличать немецкие бомбардировщики от английских истребителей.
Один из первых добровольцев погиб чуть не сразу же. Бенджи Трахштейн пошел в Королевские канадские вооруженные силы, и, когда он в первый раз поднялся в воздух вместе с инструктором, тренировочный самолет развалился и разбился в окрестностях Монреаля, а Бенджи сгорел. Обуглился. На его похоронах отец сказал:
– Значит, такая его судьба, так ему предопределено. Если твое время придет, оно придет.
Миссис Трахштейн тронулась в уме, а отец Бенджи, бакалейщик, стал живым укором для всех и каждого. «Когда твой сын-спекулянт пойдет воевать?» – спрашивал он одну мать, другой говорил: «Сколько ты дала врачу на лапу, чтобы освободить сынка от армии?»
Мы стали обходить бакалею Трахштейна стороной, объясняя это тем, что он перестал мыть руки: стоит взять полкило сыра или съесть селедку, до которых он дотрагивался, – и тебя стошнит. Подозревали также, что анонимные письма с доносами на владельцев других магазинов в Военный комитет по ценообразованию и торговле посылал не кто иной, как Трахштейн. Письма эти были докукой, влекшей за собой чувствительные потери. За таким доносом неизбежно следовал визит инспектора – ведь он обеспечивал ему двадцатник, а то и ящик виски.
Бессмысленная гибель Бенджи стала жупелом: ею стращали любого парня, если подозревали, что он способен вгорячах пойти в армию. И тем не менее наши парни записывались в армию добровольцами. Одни от гражданских чувств, другие от скуки – таким море было по колено. Как-то субботним утром Горди Рот, долговязый парень с курчавой шапкой волос и водянистыми голубыми глазами, явился в синагогу «Молодой Израиль» в офицерской форме. Отец его – вне себя от горя – разрыдался и поплелся из синагоги, так ничего и не сказав сыну. Те, кто предпочел и дальше учиться в Макгилле, освободившись таким образом от военной службы, сочли себя оскорбленными поступком Горди. Одно дело, если свежеиспеченный дантист берет назначение в военно-медицинскую службу, и совсем другое, если парень бросает юридический факультет и идет в пехоту. Втихаря ребята говорили, что не такой уж Горди и герой: его бы так и так отчислили из Макгилла. Сынок Гарберов – он специализировался по психологии – плел много чего о жажде смерти. Но Фей Кац презрительно морщила нос и подкалывала его: «Языком молоть ты горазд, но у самого-то тебя кишка тонка».
Мамаши, которые прежде выхвалялись друг перед другом здоровьем своих отпрысков, а детские болезни считали свидетельством постыдной слабости, нынче больше всего радовались их плоскостопию, астигматизму, шумам в сердце или грыже. После месяца в университетском военном лагере мой двоюродный брат Джерри приковылял домой со сбитыми в кровь ногами и желтухой. Некий сержант Маккормик обозвал его хитрожопым жиденком.
– Чего ради нам воевать за них, за этих фашистов? – сказал папа.
– Бедненький, чего только он там не натерпелся, – сказала мама.
Брат Херши воевал в Европе. Двоюродный брат Арти из Америки служил в морской пехоте. Джерри меня разочаровал, я избегал смотреть ему в глаза.
Как-то вечером папа прочел нам заметку – она была напечатана на первой полосе «Стар». Немецкому летчику, сбитому над Лондоном, понадобилось переливание крови. «Вот так-то, парень, – сказал ему английский врач. – Теперь в твоих жилах течет добротная еврейская кровь». Перед тем как перевернуть страницу, папа долго чесал в затылке, и я видел, что заметка его порадовала.
Лишь Танский, владелец углового заведения «Табачные изделия и напитки», подвергал сомнению бескорыстие британцев. В битве за Атлантику потопили много пароходов, это так, но мало кто знает, что подлодки никогда не торпедируют пароход, если он застрахован компанией «Ллойд», а также что некоторые немецкие заводы никогда не бомбят, потому что среди их директоров есть и англичане.
Если Танскому не давало покоя коварство еврейских капиталистов, нас больше тревожили франко-канадцы – и для этого, по правде говоря, имелись куда более веские основания. Партия Дюплесси «Union Nationale» распространяла брошюру, на обложке которой был изображен отвратный старик еврей с длинным крючковатым носом, уволакивающий во тьму мешки с золотом. Надпись поверх его головы гласила, что Айки следует убираться восвояси, в Палестину. Мистер Блумберг, наш учитель, тоже так считал:
– Еврей должен жить только в Эрец. Но вы, ребята, слабаки. Вы даже не представляете себе, что такое настоящий еврей.
Сионизм главы нашего хедера был другого рода. Его страстью была литература. Ахад га-Ам [129]129
Ахад га-Ам (псевдоним Ошера Гинзбурга; 1857–1927) – эссеист. Был противником «политического» сионизма, считал необходимым прежде создать духовный центр нации.
[Закрыть], Бялик [130]130
Хаим-Нахман Бялик (1873–1934) – еврейский поэт. В 1920 г. уехал из России в Западную Европу, затем в Палестину.
[Закрыть], Бубер [131]131
Мартин Бубер (1878–1965) – еврейский философ, родом из Австрии. Один из идеологов сионизма.
[Закрыть]. Тем не менее я ухитрился окончить ФСШ, ни в коей мере не поддавшись этим веяниям. По правде говоря, я, наверное, никогда не стал бы сионистом, если бы не Ирвинг.
Ирвинг – он учился со мной в одном классе – поначалу не замечал меня. Но в день, когда нам раздали табеля, он неожиданно подошел ко мне в раздевалке и шутливо хлопнул по плечу.
– Прими и проч., – сказал он.
Я оторопел.
– У тебя же у самого второе место, разве нет?
Ирвинг был воплощением всего, что меня восхищало. Он ходил в блейзере, на его широкой спине красовались вышитые золотом буквы ИРВ, на груди – хоккейный герб. Он был боксером, выступал за Ассоциацию иудейской молодежи и в школьной баскетбольной лиге закидывал мячи лучше многих. Когда Ирвинг ловко вел мяч, девчонки, визжа, вскакивали с мест и выкрикивали:
X 2, Y 2, H 2S0 4!
Фемистокл, Фермопилы,
Пелопоннес идет войной,
Раз, два, три, четыре!
Ирвинг – наш герой!
Ирвинг – в бой!
Ирвинг щеголял в неимоверно зауженных брюках, в бумажнике носил презервативы.
– Хочешь сегодня пойти со мной в «А-боним» [132]132
«А-боним» – молодежная сионистская организация.
[Закрыть]? Если тебе там понравится, глядишь, и сам вступишь.
– Почему нет? – сказал я.
Клуб «А-боним» находился на улице Жанны Манс, неподалеку от дома моего деда, и я помню, что в пятницу вечером, когда хаверим [133]133
Товарищи ( иврит).
[Закрыть], с подъемом распевая, проходили мимо, старик злобно зыркал на них. Дело происходило в канун субботы, и лишь это препятствовало деду позвонить в полицию и пожаловаться, что от этих хаверим можно оглохнуть. Дед был твердокаменный ортодокс. По субботам нам запрещалось зажигать свет и рвать бумагу. Поэтому на одну из моих теток по пятницам, ближе к вечеру, возлагалась обязанность нарвать столько пипифакса, чтобы его хватило на субботу; а один из моих дядьев соорудил приспособление вроде тех, что рисовал Руб Гольдберг [134]134
Руб Гольдберг (1883–1970) – американский карикатурист и скульптор. В его карикатурах простейшие операции выполняют изощренно-сложные приспособления.
[Закрыть], главной частью которого была веревка, привязанная к часам, – в полночь, когда звонил будильник, оно выключало свет в уборной и в коридоре.
Теперь мне придется, невзирая ни на что, проходить с гурьбой хаверим мимо нашего дома. Толкаясь, кидаясь снежками, цепляясь к девушкам, горланя:
Ирвинг – он грыз спичку – пришел ко мне после ужина, по дороге мы прихватили Херши и Гаса. Я был польщен – Ирвинг в первую очередь зашел за мной – и стал расписывать, какие замечательные парни Херши и Гас, при этом тонко давая понять, что дружить со мной куда интереснее.
И все четыре года, что я проучился в средней школе, по вечерам в пятницу мы – я, Ирвинг, Херши и Гас – неизменно ходили в «А-боним».
Война закончилась. Один за другим возвращались домой братья и дядья.
– Ну и что ты про это скажешь?
– Скажу, что это хорошая школа.
«Стар» написала, что ветеран из Денвера в приступе безумия перестрелял на улице кучу народа; «Ридерз дайджест» предостерегал нас – не следует докучать ветеранам вопросами: они прошли через ад; при всем при том ветераны с улицы Св. Урбана скидывали форму, покупали костюмы и начинали с того самого места, с которого их сорвала война.
УМЕР ГИТЛЕР ИЛИ НЕТ? – это касалось каждого из нас. Это и конец военным нехваткам. Сахар, кофе и бензин можно было купить без карточек. Бюро «Помощь покупателю» предостерегало домохозяек: не следует приобретать мыло или расчески у разносчиков, выдающих себя за инвалидов войны. Репортер рискнул пройти из конца в конец главную улицу Калгари в форме эсэсовца, и никто его не остановил. «НЕУЖЕЛИ МЫ ЗАБЫЛИ, ЗА ЧТО ОТДАЛИ ЖИЗНЬ НАШИ ПАРНИ?» – вот что он хотел узнать. Тед Уильямс [136]136
Тед Уильямс – американский бейсболист.
[Закрыть]не погиб, не погиб и Джимми Стюарт [137]137
Джеймс Стюарт – американский киноактер.
[Закрыть]. Маккензи Кинг писал: «Мне доставляет большое удовольствие – и как человеку, и как премьер-министру – выразить дань признательности канадским евреям, служившим в наших вооруженных силах в только что окончившуюся войну». С Питом Греем, игроком торонтских «Мейпл ливз», расторгли контракт. Его место занял вернувшийся с войны ветеран.
Гарри, руководитель нашей группы в «А-боним», отслужил в канадской армии, там в его обязанности входило показывать вернувшимся с задания летчикам-истребителям пленки, снятые во время боя. Каждый раз, когда летчик стрелял, объяснял нам Гарри, камера, вделанная в крыло, снимала бой, устанавливая таким образом, сбил летчик вражеский самолет, или ему только показалось. На некоторых пленках, рассказывал Гарри, видно было, как немецкий самолет охватывает пламя. Однажды чуть не все пилоты, возвращаясь на базу, пролетели над улицами немецких городов на бреющем полете и, забавляясь, стреляли по велосипедистам. Как только велосипедист падал, съемка обрывалась.
Отец Херши – в начале войны он торговал утилем, – добродушный толстяк, чьи занятия спортом ограничивались тем, что по воскресеньям он, сидя на дешевых трибунах «Делормье даунз», щелкал орехи, нынче возил в свой охотничий домик на берегу озера в Северном Квебеке артиллерийских полковников и их секретарш на зафрахтованных самолетах. Он выбился на первое место в торговле излишками армейского имущества – грузовиками, джипами и прочей тяжелой техникой. Семья Херши переехала на Утремон-стрит.
Дудди Кравиц тоже откочевал. Поименовав себя «Продавцом-победителем», он купил четыре автомата по торговле арахисом и расставил их на четырех самых, как он вычислил, людных углах по соседству.
Мы с Ирвингом стали неразлучны, при всем при том отец его меня ужасал.
– Знаешь, кто ты такой? – то и дело повторял он. – Отцов промах – вот ты кто.
Отец Ирвинга – жилистый, седой, с ехидными черными глазами – вдовел. Я ему поражался: он ел некошерную пищу, выпивал. И не так, как мой папа и другие отцы: те на бар-мицвах в синагоге опрокидывали по-быстрому рюмочку-другую водки, заедали медовой коврижкой – голова запрокинута, глаза подернуты влагой.








