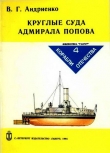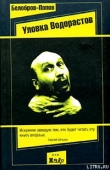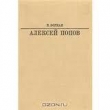Текст книги "Александр Попов"
Автор книги: Моисей Радовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Но никакие строгости не могли повернуть колесо истории вспять. В это время в семинарии на место бурсака-вожака выдвинулся новый тип юноши, стремящегося к подлинным знаниям и увлекающегося новейшими литературными и научными течениями. Не Духовная академия является дальнейшей целью, а университет [100]100
Исследователь жизни и деятельности Д. Н. Мамина-Сибиряка Е. А. Боголюбов первый обратил внимание на то, насколько велика была тяга учащихся Пермской семинарии в высшие учебные заведения: «В неопубликованных записях пермского врача П. Н. Серебренникова мы нашли очень ценный материал, характеризующий это неудержимое стремление лучшей части семинаристов уйти от поповства. За девятилетие, с 1870 по 1879 год, вышли из 4-го класса для поступления в высшие учебные заведения 173 семинариста, а остались обучаться в богословских классах 158 человек, т. е. менее половины. Единственная тогда в Перми гимназия выпустила за то же девятилетие, по данным доктора Серебренникова, только 92 человека, т. е. почти вдвое менее, чем дала студентов высшим учебным заведениям семинария» ( Е. А. Боголюбов.Указ. соч. С. 193).
[Закрыть]. «Под влиянием литературы шестидесятых годов, в особенности Писарева, – писал выдающийся физиолог И. П. Павлов, также получивший среднее образование в духовной семинарии, – наши умственные интересы обратились в сторону естествознания, и многие из нас – в числе этих и я – решили изучать в университете естественные науки» [101]101
См. «Автобиографию» И. П. Павлова, напечатанную в т. V Полного собрания трудов (С. 371). Влияние времени сказывалось и на учащихся высших духовных заведений. Тяга к общественно полезной деятельности привела к тому, что Святейший синод должен был издать указ «О правилах к предупреждению уклонений воспитанников духовных академий от обязательной для них службы по духовно-учебному ведомству». В указе подробно перечислены меры «для предотвращения продолжающегося затруднения в замещении наставнических вакансий в духовно-учебных заведениях, вследствие уклонения академических воспитанников от обязательной для них службы по духовно-учебному ведомству». Принятые меры были весьма строгими. Например, § 7 названных Правил гласил: «В случае нежелания поступить на духовно-учебную службу казеннокоштные воспитанники академии обязываются возвратить сполна и единовременно израсходованную сумму на содержание их в академии и семинарии, если они и в последней состояли на казенном содержании; никакие рассрочки во взносе таковой суммы не допускаются» (Перм. епарх. вед. 1871. Отд. офиц. С. 378).
[Закрыть].
О повышенном интересе к естествознанию, охватившем многих семинаристов, пишет Д. Н. Мамин-Сибиряк: «Зачитываясь книгами по естествознанию, я жил в каком-то совершенно фантастическом мире. Много лет прошло, а я как теперь вижу эту заветную полочку на стене, где заманчиво выглядывали объемистые томики геологии Ляйеля, „Мир до сотворения человека“ Циммермана, „Человек и место его в природе“ Фогта, „Происхождение видов“ Дарвина и т. д. и т. д. Сколько бессонных ночей было проведено за чтением этих книжек, и вера в естествознание разрасталась, крепла и в конце концов превратилась в какое-то слепое поклонение» [102]102
Боголюбов Е. А.Указ. соч. С. 212.
[Закрыть].
1860-е годы можно назвать эпохой популяризации натуралистического просвещения. Большую роль в этом играли публичные лекции, которые читали в Петербурге ведущие ученые столицы, такие, как академики Э. X. Ленц, Б. С. Якоби, профессора Л. С. Ценковский, И. А. Вышнеградский [103]103
К. А. Тимирязев, посещавший эти лекции, писал: «Проверяя собственные впечатления, не раз приходилось делать опрос своих сверстников по науке, и многие из них признавали в этих лекциях первый толчок, пробудивший и в них желание изучать естествознание». Тимирязев оставил превосходное описание обстановки, в которой проводились лекции. «Должно отметить, – писал он, – сыгравший немаловажную роль в пробуждении у нас вкуса к естествознанию ряд блестящих публичных лекций в зале Петербургского пассажа (ныне помещение театра. – М. Р.), организованных своеобразным учреждением, возникшим в 1858 г., под названием „Торгового дома Струговщикова, Пахитонова и Водова“, позднее превратившегося в более известное издательство – Товарищество „Общественная польза“. Задачей этого оригинального „торгового дома“ было способствовать обнаруживавшейся в обществе „настоятельной потребности в изучении естественных наук“ путем издания подходящих книг и организации публичных научных курсов. Являясь результатом совершенно частного почина, лишенного к тому же всякой филантропической подкладки, это предприятие было одним из характерных учреждений своего времени и сыграло несомненную роль в развитии русской науки. Изящный специально отстроенный зал был, вероятно, первым вполне приспособленным к чтению лекций с необходимой обстановкой для опытов и демонстраций при помощи волшебного фонаря. В антрактах красная драпировка между белыми колоннами, составлявшая фон аудитории, раздергивалась, как бы приглашая публику в ряд помещений, своего рода педагогический музей, где она могла знакомиться с диковинной для нее химической посудой, физическими приборами, естественно-историческими коллекциями, так как в круг деятельности „торгового дома“ входила и торговля этими почти неизвестными публике предметами. Читавшиеся в этой аудитории курсы могли бы принести честь и любому европейскому научному центру» ( Тимирязев К. А.Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов // Сочинения. Т. VIII. М., 1934. С. 170).
[Закрыть]. Не только в столице, а и во многих крупных городах страны лекции на природоведческие темы, иногда с увлекательными демонстрациями опытов, собирали в те годы многочисленные аудитории. И в Перми нашлись свои пропагандисты естественнонаучных знаний. Из сообщений прессы того времени видно, что и здесь устраивались лекции, рассчитанные на широкую аудиторию, интересовавшуюся новейшими достижениями науки. Рассадником таких знаний была местная гимназия [104]104
Вот содержание одной заметки о цикле подобных выступлений: «Преподаватель Пермской гимназии А. П. Орлов на второй и третьей неделе поста прочитал в зале гимназии ряд публичных лекций о современном учении о соотношении физических сил, – учении, давшем возможность возвыситься человеческим воззрениям до установления общей динамической теории физических процессов и до вывода знаменитого закона сохранения силы… В своих лекциях г. Орлов старался показать, что закон этот имеет такое же значение в науке о природе вообще, какое имеет закон тяготения Ньютона в физической астрономии… Лекции, кроме высокого интереса их содержания, отличались полным изяществом изложения; великие результаты, добытые в последнее время наукой естествоведения, передавались слушателям в возможно доступной форме» (Перм. губ. вед. 1866. № 19. 5 марта. Ч. неофиц. С. 75).
[Закрыть].
Эти веяния все больше давали себя знать и в духовных учебных заведениях. Репрессивные меры могли приглушить, задержать, но не искоренить то новое, что несла с собой эпоха. Во многих семинариях нашлись преподаватели, которые были сторонниками передовых общественных идей и пытались дать своим воспитанникам полноценное среднее образование, чтобы подготовить их таким образом к сознательной и полезной деятельности на жизненном поприще [105]105
Это отмечено и в процитированной автобиографии И. П. Павлова: «Среднее образование получил в местной (рязанской) духовной семинарии. Вспоминаю ее с благодарностью. У нас было несколько отличных учителей, а один из них – высокий, идеальный тип священник Феофилакт Антонович Орлов» (Полное собрание трудов. Т. V С. 371).
[Закрыть]. Как раз в школьные годы Попова были предприняты меры к повышению уровня подготовки семинаристов по общеобразовательным дисциплинам. В 1871 году Синоду пришлось издать указ «О принятии мер к возвышению уровня познаний воспитанников семинарий по тем предметам, по которым познания эти оказались неудовлетворительными на поверочных испытаниях при приеме воспитанников в С.-Петербургский университет» [106]106
Перм. епарх. вед. 1871. Отд. офиц. С. 395. Вот что записано в представленном совету названного университета отчете экзаменационной комиссии: «Наибольший процент не выдержавших проверочное испытание приходится в настоящем учебном году на долю духовных семинарий… Частные замечания, сделанные членами отдельных испытательных комиссий, заключаются в следующем.
а) По отношению к русскому языку:
Ученики духовных семинарий по умению письменно излагать свои мысли никак не уступают воспитанникам гимназий; что же касается сведений литературных, то в некоторых провинциальных семинариях они неудовлетворительны по все еще сохраняющейся за ними привычке считать сочинения некоторых авторов, например Гоголя, запретными для воспитанников.
б) По отношению к Русской истории:
Требования испытателей по русской истории были весьма умеренные… Знания по русской истории учеников духовных семинарий оказались особенно слабыми, из чего экзаменаторы заключили, что преподавание в сих учебных заведениях истории не только Западной Европы, но и отечественной, особенно с Петра Великого, идет неудовлетворительно.
в) По отношению к математике:
По производстве поверочных испытаний из математики экзаменаторы ограничились требованием знания только главнейших частей элементарного курса, совершенно необходимого для того, чтобы желающий поступить в число студентов физико-математического факультета мог с успехом следить за университетскими курсами… Сравнительно слабый уровень познаний в математике оказали воспитанники духовных семинарий» (Там же. С. 396–397).
[Закрыть].
Пропагандируемые передовыми педагогами внеклассные занятия, отвечающие склонностям учащихся, получили признание и в Пермской семинарии. Попов пользовался этой возможностью с увлечением. Кроме успешных занятий по всем дисциплинам (годовой балл на протяжении всех четырех классов семинарии у него был «5»), он пристрастился к точным наукам и так усердно их изучал, что получил среди семинаристов прозвище «математик». Тогда все точные науки входили в разряд математики не только в средней школе, но и в университете. Товарищи Попова по семинарии не чуждались его, хотя он стоял в стороне от их мальчишеских проделок. «Товарищи его по семинарии, – писал Дерябин, – среди которых у меня были знакомые, хотя очень уважали „математика“ А. С., но все же он не мог избежать их глупых, озорных шуток, нередко непристойных; на это он обыкновенно отвечал „дура“ и уходил от них, делая пируэт ногой…. за что и был прозван „конь“» [107]107
Т и ТбП. 1923. № 21. С. 394.
[Закрыть]. Лучшее удовольствие он находил в естественно-научных занятиях, особенно в занятиях физикой.
Физику в семинарии проходили лишь в четвертом классе; ей уделялось всего четыре часа в неделю – в пять раз меньше, чем греческому языку [108]108
Расписание учебных предметов для семинарии, с обозначением числа уроков по каждому из них. Перм. епарх. вед. 1867. Отд. офиц. С. 136.
[Закрыть], однако Попов с лихвой восполнил этот пробел самообразованием. Е. Л. Коринфский, с которым Попов со студенческой скамьи поддерживал дружбу, длившуюся десятилетия, рассказывает: «Первым импульсом к занятию физическими науками был подаренный ему, ученику семинарии, кем-то учебник физики Гано, тогда только лишь переведенный на русский язык. Чтение этой книги бесповоротно направило его избрать специальностью физику» [109]109
Котлин, газета морская, общественная и литературная. 1906. 22 янв.
[Закрыть].
Учебник Гано оказался, впрочем, не единственным пособием при изучении заинтересовавшей Попова области знания. В то время пользовался уже широкой известностью учебник К. Д. Краевича [110]110
Краевич Константин Дмитриевич(1833–1892) – преподаватель физики в средних и высших учебных заведениях Петербурга, в том числе и в Военно-морской академии. Учившийся здесь А. Н. Крылов в своих воспоминаниях дал высокую оценку педагогической деятельности К. Д. Краевича, отметив «редкую поучительность его лекций» ( Крылов Л. Н.Воспоминания и очерки. М., 1956. С. 104).
[Закрыть], выдержавший потом десятки изданий. В семинарские годы Попова была издана «Начальная физика в объеме гимназического преподавания», составленная профессором Московского университета Н. А. Любимовым [111]111
Любимов Николай Алексеевич(1830–1897) – физик, автор ряда работ по истории наук, в том числе одной из первых биографий М. В. Ломоносова (М., 1865).
[Закрыть], который добился того, чтобы его учебник был принят в качестве пособия для учащихся духовных семинарий [112]112
См.: Журнал Учебного комитета при св. Синоде за № 60. О составленной профессором имп. Московского университета Николаем Любимовым «Начальной физике в объеме гимназического преподавания» (Перм. епарх. вед. 1874. Отд. офиц. С. 394).
[Закрыть]. В решении Учебного комитета Святейшего синода записано: «Допустить „Начальную физику“ Любимова наравне с „Учебником физики“ Краевича для употребления в духовных семинариях, в качестве учебного руководства по означенному предмету» [113]113
См.: Журнал Учебного комитета при св. Синоде за № 60. О составленной профессором имп. Московского университета Николаем Любимовым «Начальной физике в объеме гимназического преподавания» (Перм. епарх. вед. 1874. Отд. офиц. С. 396).
[Закрыть].
При всех достоинствах учебника Краевича, на котором выросли многие поколения учащихся, курс Любимова по сравнению с ним имел преимущества, это отмечается в следующих строках протокола (журнала) Учебного комитета Святейшего синода: «Помимо верности и точности всего изложенного в „Начальной физике“ профессора Любимова, – чему достаточным ручательством служит уже имя автора как известного ученого и знатока своего предмета – физика г. Любимова заключает в себе некоторые особенности, придающие ей большое значение в педагогическом отношении. А именно: 1) автор „Начальной физики“ при изложении важнейших положений этой науки старался уловить нить идей изобретателей и, где возможно, говорить их собственными словами… Слияние исторического и догматического элементов не только придает особый интерес изложению, но и знакомит ученика с ходом того или другого открытия и делает его как бы участником этого открытия, позволяя ему следить за мыслью изобретателя в той первоначальной и ясной форме, в которой она родилась и развилась в голове самого изобретателя» [114]114
См.: Журнал Учебного комитета при св. Синоде за № 60. О составленной профессором имп. Московского университета Николаем Любимовым «Начальной физике в объеме гимназического преподавания» (Перм. епарх. вед. 1874. Отд. офиц. С. 395).
[Закрыть].
Товарищи Попова по семинарии не оставили о нем своих воспоминаний. Дальнейшие известия дошли до нас уже от его университетских друзей. Кроме цитированного рассказа Е. Л. Коринфского, некоторые указания содержатся в статье другого близкого друга Попова, Г. А. Любославского [115]115
Любославский Геннадий Андреевич(1860–1915) – профессор Лесного института. С Поповым его связывали не только дружеские отношения, начавшиеся с университетских лет. С именем Г. А. Любославского связаны первые опыты практического применения (в области метеорологии) изобретения Попова. Наблюдения Любославского Попов подробно описал в первой публикации о своем аппарате (Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний. ЖРФХО. 1896. Т. 28. Вып. 1. С. 12 и сл.).
[Закрыть], их сообщил ему сам Попов: «Воспитанник сначала духовного училища, затем духовной семинарии, все способности и склонности которого направлены были исключительно в сторону математики и физики, он проходит, однако, суровую, приучающую к самостоятельности и упорной работе семинарскую школу до пятого класса включительно» [116]116
Слово. 1906. 7 янв. О своих отношениях с Поповым Г. А. Любославский рассказал в автобиографии (Изв. имп. Лесн. инст. Пг, 1916. Вып. 29. С. 1–2).
[Закрыть].
Наилучшей почвой, на которой могли развернуться способности одаренного юноши, был, несомненно, Петербургский университет с его физико-математическим факультетом, давший стране не только выдающихся ученых-исследователей, но и заслуженных деятелей в области прикладных знаний.
Глава третья
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
Увлечение точными науками в юности предопределило область знаний, которыми Попов решил заняться, намереваясь поступить в высшую школу. В выборе учебного заведения у него никаких колебаний не было. Лучшим университетом России в то время был, несомненно, Петербургский; в нем тогда, как увидим ниже, был сосредоточен весь цвет русской науки. Хотя проживание в столице обходилось гораздо дороже и плата за «право учения» была значительно выше [117]117
В Москве и Петербурге плата была установлена на 25 процентов выше, чем в других университетах (см.: Университетский устав 1863 г. С. 31).
[Закрыть], Петербург манил разночинцев еще и тем, что, являясь не только политическим, но и культурным и промышленным центром страны, он давал более широкие возможности в смысле заработка, без которого не мог обходиться ни один студент, принадлежавший к той среде, что и Попов. Столичный университет был избран им еще и потому, что в Петербурге в течение шести лет жил его старший брат Рафаил.
Для питомцев Петербургского университета курс высшего образования не ограничивался одним прохождением учебной программы. Студенты-физики, например, готовившиеся наряду с педагогической деятельностью и к самостоятельным научным исследованиям, имели возможность пройти великолепную подготовку, участвуя в занятиях научно-технических обществ: Физического отделения Русского физико-химического общества и Шестого (Электротехнического) отдела Русского технического общества. Роль этих обществ в развитии научных и прикладных знаний в России общеизвестна. Но в полной мере оценить их вклад в отечественную науку можно будет только в том случае, если учесть то влияние, которое имела их деятельность на учащуюся молодежь.
Без этого влияния нельзя себе представить образ ни одного из деятелей русской научной электротехники, тем более что большинство из них окончило физико-математический факультет Петербургского университета [118]118
По числу студентов Московский университет, открытый за шесть с лишним десятилетий до Петербургского, занимал первое место, но ко времени поступления Попова физико-математический факультет Петербургского университета по темпам роста значительно обогнал Московский университет, где количество учащихся на этом факультете даже уменьшилось (см.: Материалы, собранные отделом высочайше учрежденной комиссии, для пересмотра общего устава Российских университетов при посещении их в сентябре, октябре и ноябре 1875 г. СПб., 1876. С. 9).
[Закрыть]. Изобретатель радио в этом отношении является характерным и, пожалуй, наиболее выразительным примером. Для Попова, как и для ряда других пионеров научной электротехники в нашей стране, «университетом» в широком смысле слова были наряду с высшей школой, в которой они учились, также и названные общества, активными деятелями которых они сами стали впоследствии.
Между тем пользоваться богатыми научными возможностями, открывшимися перед студентами столичного университета, было нелегко: многие из студентов, в том числе и Попов, испытывали острую материальную нужду, и им приходилось постоянно думать о хлебе насущном. Для Попова вначале опорой был старший брат, который уже много лет жил в столице, занимаясь литературным трудом.
Восемнадцатилетнему Александру на первых порах пришлось жить у брата и помогать ему в его издательской деятельности. Издававшееся с 1863 года «Мирское слово» было еженедельной газетой, но в год приезда Попова в Петербург она стала выходить только два раза в месяц [119]119
Русская периодическая печать (1702–1894). Справочник под редакцией А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова. М., 1959. С. 440.
[Закрыть]. Хотя газета предназначалась для народа (в ее заголовке значилось: «народная иллюстрированная газета»), это была газета консервативная; направление ее отнюдь не выражало интересы трудовых масс. До Рафаила Попова газета издавалась и редактировалась священниками В. В. Грегулевичем и С. Я. Протопоповым, которые на первое место ставили религиозные темы. Попов принял на себя издание (и редактирование) газеты в сентябре 1878 года [120]120
Мирское слово. 1878. 13 авг.
[Закрыть]и постарался внести в нее изменения, что, между прочим, видно уже из самого заголовка, в котором славянский шрифт был заменен русским. Он пытался печатать материалы, более отвечающие духу времени.
В первом подписанном Р. С. Поповым номере сообщалось: «Газета „Мирское слово“ имеет в виду преимущественно читателей из народа. Сообразно этому как подбор материала, так и изложение его приноравливается по возможности к пониманию лиц, не получивших достаточного образования. Во всем же остальном это издание близко подходит к обыкновенным литературно-политическим газетам» [121]121
Мирское слово. 1879. 7 янв.
[Закрыть]. Однако репутация, установившаяся за газетой, помешала привлечению новых читателей и не дала возможности продолжать издание [122]122
Оно прекратилось в мае 1879 года на 19-м номере. В извещении «От издателя» сообщалось: «Издание газеты „Мирское слово“ приостанавливается впредь до утверждения установленным порядком постоянного редактора газеты, вместо несущего его обязанности издателя. Возобновление последует в непродолжительном времени». Но этого не случилось, больше не вышло ни одного номера газеты.
[Закрыть].
Несколько лучше дело обстояло с изданием журнала «Мирской вестник», выходившего свыше двадцати лет – с 1863 по 1885 год (позже он стал называться «Чтение для народа»). В нем печатались популярные статьи на естественно-научные темы, давались практические советы крестьянам по ведению сельского хозяйства, но общее направление журнала, уделявшего много внимания вопросам морали и религии, было далеко от народных дум и чаяний [123]123
Журнал издавался генерал-майором А. Ф. Гейротом (1817–1882) и ставил себе целью всячески восхвалять новые порядки, установившиеся после освобождения крестьян. В извещении об издании «Мирского вестника», именовавшегося «Народным журналом», указывалось: «Быстрое распространение грамотности ко всей массе русского народа вызвало в последнее время потребность в книгах, а также и в особых периодических изданиях для народа. С решением великого вопроса об освобождении крестьян, простолюдин в настоящее время приобрел обширные гражданские права, которые дают ему возможность принять живое участие в общей деятельности всех сословий государства… Отделы журнала „Мирской вестник“ имеют целью распространение в народе религиозных и нравственных истин, практических и научных сведений».
[Закрыть].
В этом журнале Р. С. Попов принимал деятельное участие, выполняя одно время функции помощника редактора. В журнале им было помещено много статей, преимущественно историко-этнографического характера; сюда относится ряд очерков под общим названием «Славянские народы» [124]124
Мирской вестник. 1876. Кн. 1. С. 30–67; Кн. 2. С. 30–55; Кн. 3. С. 20–34.
[Закрыть]об истории и быте украинцев [125]125
Мирской вестник. 1875. Кн. 11. С. 29–87.
[Закрыть]и белорусов [126]126
Мирской вестник. Кн. 12. С. 35–74.
[Закрыть]. Во время Русско-турецкой войны 1878–1879 годов, завершившейся освобождением болгар от османского ига, Р. Поповым была напечатана в газете «Мирское слово» большая статья об этом братском народе [127]127
Мирское слово. 1878. № 1–7.
[Закрыть]. Разумеется, все эти статьи представляли собой не более чем компиляции. Подобная работа будущему изобретателю радио, занятому мыслями о творческой деятельности, была не по душе, хотя в журнале печатались и статьи на близкие ему естественно-научные темы. Поэтому средства к существованию он вскоре стал добывать из других источников, обычных для студентов-разночинцев.
Приехав в Петербург, Попов подал на имя ректора университета профессора А. Н. Бекетова [128]128
Бекетов Андрей Николаевич(1825–1902) – выдающийся русский ботаник; ректором был в течение всех лет пребывания Попова в университете. См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869–1894. СПб., 1896. Т. I. С. 42–47.
[Закрыть]прошение о принятии его на математическое отделение физико-математического факультета [129]129
В то время физико-математический факультет состоял из двух отделений, или, как тогда говорили, разрядов: математического и естественного. Математическое отделение объединяло кафедры физики, математики, метеорологии, механики и астрономии. Деканом факультета в годы учения Попова был известный русский химик Николай Александрович Меншуткин (1842–1907). См.: Биографический словарь… Т. II. С. 27–33.
[Закрыть]. К прошению были приложены: метрическое свидетельство, формулярный список отца и свидетельство об окончании курса общеобразовательных наук, выданное ему правлением Пермской духовной семинарии. Последний документ является первой известной нам документальной характеристикой его успехов на жизненном пути. В свидетельстве отмечается, что на протяжении всех четырех лет со времени поступления в семинарию (1873) он «обучался в оной при способностях отличных» и «прилежании отлично усердном» [130]130
ГИАЛО. Ф. С.-Петербургского университета. № 14. Св. 1277. Д. 19651. Л. 1.
[Закрыть]. Далее перечислены предметы, которые проходились в семинарии. Их было одиннадцать, и из них только один богословский. Вот перечень того, что составило курс среднего образования Попова и оценка его успехов:
«Изъяснение Св. Писания Ветхого и Нового завета – отлично (5).
Словесность – отлично (5).
Математика – отлично (5).
История гражданская, всеобщая и русская – отлично (5).
Логика – отлично (5).
Психология – отлично (5).
Обзор философских учений – отлично (5).
Языки: греческий – отлично (5).
латинский – отлично (5).
французский – отлично (5)».
В документе указывается, что Попов был переведен в пятый класс «с причислением к первому разряду воспитанников сего класса», но он не пожелал продолжать духовное образование, возбудив ходатайство об «увольнении» из семинарии, которое и было 30 июня 1877 года удовлетворено правлением Пермской духовной семинарии и утверждено епископом Пермским и Верхотурским.
31 августа 1877 года Попов был зачислен в университет [131]131
ГИАЛО. Ф. С.-Петербургского университета. № 14. Св. 1277. Д. 19651. Л. 27.
[Закрыть].
К этому времени Петербургский университет имел уже богатую историю [132]132
Историю открытия университетов в России см.: Сухомлинов М. И.Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. I. СПб., 1889. С. 37 и сл.; Ферлюдин П.Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Вып. 1. Академия наук и университеты. Саратов, 1893.
[Закрыть]. В отличие от других русских университетов он возник не на пустом месте, а создан на базе Главного педагогического института [133]133
См.: Материалы по истории университета // С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819–1919. Т. I. 1819–1835. Пг, 1919. С. 6–7. Через девять лет после основания университета, в 1820 году, педагогический институт возобновил свою деятельность и просуществовал еще более четверти века (закрыт в 1859 году). Среди питомцев института было много выдающихся людей, из которых назовем М. И. Глинку (учился в Благородном пансионе), Н. А. Добролюбова, Д. И. Менделеева (Краткое историческое обозрение действий Главного педагогического института. 1828–1859. СПб., 1859).
[Закрыть], который в свою очередь ведет начало с учреждения в 1782 году Учительской семинарии [134]134
Плетнев П.Первое двадцатипятилетие имп. Санктпетербургского университета. СПб., 1844. С. 6 и сл.
[Закрыть]. Первое собрание (конференция) университета состоялось 14 февраля 1819 года [135]135
Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. Ч. II. СПб., 1866. С. 77.
[Закрыть], и эту дату можно считать днем его открытия.
Несмотря на относительно молодой возраст, ко времени поступления Попова Петербургский университет был уже ведущим в стране. Здесь наиболее интенсивно развивалась творческая общественная мысль, питавшая освободительное движение. С первых лет своего существования это учебное заведение зарекомендовало себя в правительственных кругах как «неблагонадежное». Уже через год университет подвергся разгрому [136]136
Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. Ч. II. СПб., 1866. С. 86 и сл.
[Закрыть]. Это, однако, не предотвратило распространение передовых идей в высшей школе [137]137
С. С. Уваров, занимавший пост министра народного просвещения, в Записке о десятилетнем управлении им этим министерством должен был говорить о «быстром падении религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, ввиду печальных явлений, окружавших нас со всех сторон» (Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. СПб., 1864. С 2).
[Закрыть], которую царское правительство не без основания считало опасным очагом крамолы [138]138
«В словаре русской реакции слово „студент“, – писал историк студенческого движения С. Гессен, – было синонимом политически неблагонадежного лица. Студенческая фуражка в течение полустолетия являлась предметом настороженного и бдительного внимания полицейских органов и особенной ненависти черной сотни. К этому имелись серьезные основания. На протяжении всей истории русского революционного движения студенчество играло в нем выдающуюся роль. Во всех антиправительственных кружках, во всех революционных организациях, начиная с первой „Земли и Воли“, студенты принимали активное участие» ( ГессенС. Студенческое движение в начале шестидесятых годов. М., 1932. С. 3).
[Закрыть], угрожавшим самому его существованию [139]139
Не имея возможности совсем уничтожить этот оплот «крамолы», правительство стремилось максимально сократить число студентов в высших учебных заведениях. В этом отношении характерен следующий документ, датированный 30 апреля 1849 года: «Статс-секретарь Танеев сообщил министру народного просвещения, что государь император высочайше соизволяет, чтобы штат студентов в университетах ограничен был числом 300 в каждом, с воспрещением приема студентов, доколе наличное число не войдет в сей узаконенный размер. С сим вместе е. и. в. благоугодно, чтоб при будущих приемах в студенты избрать из кандидатов одних самых отличных по нравственному образованию» ( Соловьев И. М.Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. Вып. 1. СПб., 1914. С. 56).
[Закрыть]. Репрессивные меры посыпались одна за другой. Однако они только загоняли вглубь антиправительственные настроения, вырывавшиеся время от времени наружу с еще большей силой. Мощный взрыв протеста произошел в 1861 году [140]140
См. воспоминания участника студенческой группировки Л. Ф. Пантелеева, впоследствии известного издателя научно-просветительной литературы ( Пантелеев Л. Ф.Из воспоминаний прошлого. СПб., 1905. С. 183 и сл.).
[Закрыть]. Были применены неслыханные до того меры: университет в течение двух лет был закрыт [141]141
В России, а еще раньше в Германии реакционные круги выступали вообще за закрытие университетов, этих очагов «крамолы», и замену их специальными учебными заведениями, в которых будет учиться несравненно меньшее количество студентов ( Андреевский И. Е.О значении университетов в государственном, ученом и учебном отношениях // Приложения к Журналам заседаний Ученого комитета Главного правления училищ по проекту общего устава имп. Российских университетов. СПб., 1862. № 1).
[Закрыть], а сотни студентов были заточены в Петропавловской и Кронштадтской крепостях [142]142
Вольфсон Т. В.Петербургские студенты в Петропавловской и Кронштадтской крепостях в 1861 г. // Вестник ЛГУ. 1949. № 1. С. 133 и сл.
[Закрыть]. Но правительство понимало, что одними репрессивными мерами нельзя добиться успокоения; пришлось пойти на уступки.
Университетам был дан новый устав. Его принятие имело большое государственное значение и стало предметом внимания не только русской, но и зарубежной общественности [143]143
См.: Журналы заседании Ученого комитета Главного правления училищ по проекту общего устава имп. Российских университетов. СПб., 1862; Замечания иностранных педагогов на проекты уставов учебных заведений Министерства народного просвещения. СПб., 1863.
[Закрыть]. В указе 18 июня 1863 года Александр II признал, что считает «необходимым изменить, сообразно современным потребностям, действующие в настоящее время в императорских университетах наших устав и штаты» [144]144
Университетский устав 1863 года. СПб., 1863. С. 1.
[Закрыть]. Этот новый устав действовал во все годы пребывания Попова в университете.
Согласно § 85 устава в студенты зачислялись лица, представившие свидетельство об успешном окончании полного гимназического курса (или же сдавшие экзамены в какой-либо гимназии экстерном). Таким же правом пользовались и «воспитанники высших и средних учебных заведений разных ведомств, с успехом окончившие общий курс учения в них, если сей последний признан будет со стороны Министерства народного просвещения соответствующим курсу гимназическому» [145]145
Университетский устав 1863 года. СПб., 1863. С. 28.
[Закрыть]. Совету университета представлялось право в любом случае, если «признает нужным проверить степень знаний желающих поступить в студенты, подвергать их новому испытанию» [146]146
Университетский устав 1863 года. СПб., 1863. С. 28.
[Закрыть].
Выданное Попову Пермской духовной семинарией свидетельство, в котором удостоверялось, что по всем предметам он получил высший балл и что «поведения он отличного», освобождало его от проверочных испытаний, и он без экзаменов поступил в университет.
Устав 1863 года сыграл немаловажную роль в истории русской науки. Менее стеснительные условия, в которых развивалась теперь жизнь в высшей школе, дали свои плоды. На многих факультетах зарождались, а на некоторых успели уже развиться целые научные школы и направления. Включавший в себя все естественные и математические дисциплины физико-математический факультет [147]147
Еще в 1920-х годах факультет состоял из пяти отделений: математического (включая астрономию), физического, химического, биологического и геологического (см.: Ленинградский государственный университет. Л., 1925. С. 15). В 1933/34 учебном году этот факультет разделился на пять факультетов: математики и механики, физический, химический, геолого-почвенно-географический и биологический (Ленинградский университет за советские годы 1917–1947. Очерки. Л., 1948. С. 17).
[Закрыть]Петербургского университета славился своими профессорами. И. П. Павлов, окончивший этот факультет (по естественному отделению) за два года до поступления туда Попова, писал в автобиографии: «Это было время блестящего состояния факультета. Мы имели ряд профессоров с огромным научным авторитетом и с выдающимся лекторским талантом» [148]148
Павлов И. П.Полное собрание трудов. Т. V. С. 371.
[Закрыть]. В студенческие годы Попова в университете профессорская коллегия факультета возглавлялась лучшими научными силами страны – такими всемирно известными учеными, как И. М. Сеченов [149]149
Сеченов Иван Михайлович(1829–1905) – основоположник русской физиологической школы; профессором Петербургского университета состоял с 1876 по 1888 год.
[Закрыть], П. Л. Чебышев [150]150
Чебышев Пафнутий Львович(1821–1894) – основатель петербургской математической школы. В 1847 году приехал из Москвы в Петербург, где много лет преподавал в университете.
[Закрыть], А. М. Бутлеров [151]151
Бутлеров Александр Михайлович(1828–1886) – создатель теории химического строения. Профессором Петербургского университета был с 1869 года, занимал кафедру органической химии до конца жизни.
[Закрыть]и Д. И. Менделеев [152]152
Дмитрий Иванович Менделеев(1834–1907) начал преподавательскую деятельность в Петербургском университете в 1867 году; отсюда он ушел в 1890 году вследствие конфликта с реакционным министром народного просвещения И. Д. Деляновым.
[Закрыть].
Непревзойденной высоты на факультете достигли математика и химия, которые долго оставались ведущими для всей страны. Петербургская математическая школа по праву заняла почетное место в мировой науке, а достижения Бутлерова и Менделеева вошли в ее золотой фонд. Менее выдающимися были успехи в области физики. Она вообще стала широко и глубоко развиваться лишь после Великой Октябрьской революции, когда возникли школы академиков Д. С. Рождественского, А. Ф. Иоффе, П. П. Лазарева и Л. И. Мандельштама, ученики которых сами создали целые направления в науке.
Однако в последней четверти XIX века физика в Петербургском университете также получила заметное развитие. Именно здесь зародилось то научно-прикладное направление, которому столь многим обязаны такие важные области современной материальной культуры в нашей стране, как электротехника (включая сюда, разумеется, и радиосвязь) и оптика. Кафедру физики в те годы возглавлял профессор Ф. Ф. Петрушевский [153]153
Петрушевский Федор Фомич(1828–1904) – заслуженный профессор Петербургского университета, основатель и многолетний председатель Физического отделения Русского физико-химического общества. Ученик Э. X. Ленца, Ф. Ф. Петрушевский, заняв кафедру, стал учителем ряда поколений физиков, из среды которых вышли крупнейшие русские ученые-электрики и оптики ( Боргман И. И.Памяти Ф. Ф. Петрушевского // ЖРФХО. 1904. Т. 36. Вып. 3. С. 51 и сл.). Попов был связан с Петрушевским на протяжении всей его жизни. Между прочим, Петрушевский председательствовал на заседании Русского физико-химического общества, когда Попов демонстрировал изобретенный им беспроволочный телеграф в действии (Петрушевский мелом на доске расшифровывал принятую радиограмму). Об этом подробно речь будет ниже.
[Закрыть]. Наиболее близкая Попову область знания получила мощное развитие благодаря трудам создателя этой кафедры Эмилия Христиановича Ленца (1804–1865), одного из виднейших ученых в области электричества. Он является также одним из организаторов физико-математического факультета, на котором занимал пост декана; одно время Ленц был ректором университета [154]154
Баумгарт К. К.Эмилий Христианович Ленц // Ленц Э. X.Избранные труды. Л., 1950. С. 449 и сл.; Лежнева О. А., Ржонсницкий Б. Н.Эмилий Христианович Ленц. М.; Л., 1952. С. 140 и сл.
[Закрыть]. Научные интересы Ленца, тесно связанные с вопросами прикладного применения достижений в области учения об электричестве – он был одним из самых деятельных членов Комиссии для приложения электромагнетизма к движению машин [155]155
Об этой комиссии см.: Радовский М. И.Борис Семенович Якоби. М., 1953. С. 51 и сл.
[Закрыть], – наложили отпечаток на преподавание физики в университете [156]156
Историк университета, профессор В. В. Григорьев, писал: «Как профессор, Ленц отличался строгим систематическим и критическим изложением тех отделов физики, которые преподавал он; любимой же его специальностью было и здесь чтение курса об электричестве, магнетизме и гальванизме по собственным запискам, сопровождавшееся всегда опытами, к которым он приготовлялся заранее и которые потому всегда были удачны: малейшая аномалия тотчас же привлекала на себя его внимание, и он тут же старался объяснить происхождение ее слушателям» ( Григорьев В. В.Имп. С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 193).
[Закрыть]. По штату на кафедре полагалось два профессора – заведующий кафедрой и так называемый второй профессор. Вторым профессором на кафедре был сын Э. X. Ленца, Роберт Эмильевич Ленц (1883–1903) [157]157
Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. С.-Петербургского университета. Т. I. С. 404.
[Закрыть].
Федор Фомич Петрушевский также внес немалый вклад в историю физико-математического факультета. Он не ограничивал преподавание физики одними лекциями, а привлекал студентов к самостоятельным практическим занятиям в лаборатории. Он первым в России ввел лабораторные занятия. Легко себе представить, какое важное значение имело для будущих творчески работающих специалистов обладание экспериментальным мастерством. В наши дни это представляется элементарной истиной, но в то время физический практикум был большим нововведением, оказавшим, по признанию учившихся у Петрушевского физиков-экспериментаторов и электриков-практиков, большое влияние на них.
Ближайший его ученик В. В. Лермантов [158]158
Лермантов Владимир Владимирович(1845–1919) – приват-доцент Петербургского университета, фактический заведующий физической лабораторией. Большинство выдающихся русских электротехников и оптиков конца прошлого и начала текущего столетия являются прежде всего учениками В. В. Лермантова; к ним в первую очередь относится А. С. Попов. «На всех работавших в Физической лаборатории университета, – писал М. А. Шателен, прошедший ту же школу, – в те годы громадное влияние оказывал В. В. Лермантов, числившийся лаборантом (термин, соответствующий нынешнему ассистенту. – М. Р.), но на деле бывший главным руководителем лаборатории, дававший тон всей ее жизни. Под руководством В. В. Лермантова Александр Степанович приобрел те навыки и выработал в себе то отношение к эксперименту, которые были так характерны для него во всей его деятельности. Работая в физической лаборатории, Попов понемногу стал увлекаться электротехникой» ( Шателен М. А.Русские электротехники второй половины XIX в. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1955. С. 322).
[Закрыть]писал о своем учителе: «Великой заслугой покойного Ф. Ф. Петрушевского было то, что он „вдохнул душу живу“ в преподавание физики в нашем университете. До него физику только „читали“, как всякий другой предмет, нужный студентам для экзамена; Федор Фомич первый вовремя понял, что наступает время, когда умения, основанные на знании фактов этой науки, станут необходимыми и для обыденной жизни. Понял он и то, что одним слушанием лекций никакого реального умения приобрести нельзя, кроме умения сдавать экзамены у своих профессоров. Реальные умения приобретаются лишь обращением с реальными объектами изучаемой науки, т. е. с явлениями природы и с приборами, служащими для их воспроизведения и измерения в случае физики» [159]159
Сборник статей по физике, посвящаемый памяти дорогого учителя профессора Федора Фомича Петрушевского. СПб., 1904. С. VII.
[Закрыть].
Если оставить в стороне события 1861 года [160]160
Головин К. Ф.Мои воспоминания. Т. I. СПб.; М, 1908; Михайлов М. И.Записки (1861–1862). Пг, 1922; Петербург в конце 1861 г. (Дневник А. П. Марковой-Виноградской) // Минувшие годы. 1908. № 10. С. 49 и сл.; Николадзе Н.Воспоминания о шестидесятых годах // Каторга и ссылка. Истор. – револ. вестник. 1927. № 4. С. 43 и сл.
[Закрыть], деятельность Петербургского университета сравнительно с другими университетами, например Московским или Казанским, в мемуарной литературе освещена слабо [161]161
Опубликованные записки в подавляющем большинстве принадлежат преподавателям и питомцам историко-филологического факультета. Наиболее близкими ко времени Попова являются: записки И. М. Гревса «В годы юности» (Былое. 1918. № 12. Кн. 6. С. 42 и cл.) и «Воспоминания» В. В. Вересаева (М.; Л., 1946. С. 203 и сл.). Вересаев поступил в Петербургский университет спустя год после окончания его Поповым. Питомец историко-филологического факультета, он о других факультетах и их профессорах говорит лишь мимоходом. Примером тому может служить следующая фраза: «…бесконечный, во всю длину здания, коридор, с рядом бесчисленных окон. По коридору движется шумная, разнообразно одетая студенческая толпа (формы тогда еще не было). И сквозь толпу пробираются на свои лекции профессора – знаменитый Менделеев с чудовищно-огромной головой и золотистыми, как у льва, волосами до плеч…» (Там же. С. 204).
[Закрыть]. Особенно мало написано о физико-математическом факультете, хотя именно преподававшие на нем профессора внесли наибольший вклад в мировую науку. Немногочисленные записи, принадлежащие питомцам факультета, связанные главным образом с жизнеописанием Попова, имеются в соответствующих трудах В. К. Лебединского и М. А. Шателена. Их произведения содержат и некоторые материалы, характеризующие ту среду, в которой вырос изобретатель радио. Названные авторы сами испытали влияние этой среды и в своих записках запечатлели основные черты и особенности той эпохи. «Физическая лаборатория университета, – рассказывает М. А. Шателен, – была центром, где собирались университетские физики. В физической аудитории происходили собрания физического отделения Русского физико-химического общества, в котором принимали участие все физики и химики Петербурга. В препаровочной при аудитории, в перерывах между лекциями и после них велись обычно длинные дискуссии по спорным вопросам физики. В эту среду профессоров, молодых лаборантов и студентов, интересовавшихся физикой, и попал Александр Степанович, начав работать в лаборатории» [162]162
Шателен И. А.Указ. соч. С. 322.
[Закрыть].
Творческая обстановка, царившая на физико-математическом факультете, не могла не возбуждать у многих студентов интереса к самостоятельным научным исканиям, к разработке выдвигаемых жизнью новых задач. Поистине поразительными (в масштабах того времени) являются успехи Петербургского университета в деле подготовки самостоятельных исследователей, занявших видное положение в ряде областей науки. В течение каких-нибудь 10–15 лет из стен университета вышло значительное число ученых-физиков, возглавивших кафедры в ряде высших учебных заведений страны. В 1880– 1890-х годах ту же школу, что и А. С. Попов, прошли М. А. Шателен, В. Ф. Миткевич (профессора Ленинградского политехнического института), Ф. Я. Капустин (профессор Томского университета), Г. А. Любославский (профессор Петербургского лесного института), В. К. Лебединский (профессор Рижского политехнического института), H. H. Георгиевский (профессор Петербургского технологического института), А. Л. Гершун (профессор Петербургских женских педагогических курсов), А. А. Петровский (профессор Горного института). Здесь названы только ближайшие товарищи, друзья и сотрудники А. С. Попова, и список этот можно продолжить.
На будущих специалистов-практиков влияние оказывал не только университет. Не меньшее значение имело то, что они учились в городе, где прежде всего возникали предприятия тяжелого машиностроения; здесь находились главные судостроительные и орудийные заводы. В Петербурге же зарождались новые отрасли промышленности, в частности электротехническая. Напомним, что ко времени студенческих лет Попова уже в течение более четверти века существовала такая мировая фирма, как «Сименс и Гальске», которая ведет свое начало с конца 1840-х годов [163]163
См.: 50-летний юбилей фирмы Сименса и Гальске // Технический сборник и вестник промышленности. 1898. № 1. С. 38–39.
[Закрыть], когда, вслед за открытием в Берлине мастерских по изготовлению телеграфных аппаратов, в Петербурге было основано дочернее предприятие компании, бывшее в России на протяжении десятилетий ведущим. Естественно, что, находясь в индустриальном центре страны, университет (и его физико-математический факультет) не мог не испытывать на себе влияние нужд практической жизни. Поэтому отличительной чертой петербургской школы физиков было то, что питомцы столичного университета решительно вступили на путь практического приложения завоеваний науки. В то время это было главным образом практическое применение электрического тока.
История электротехники в России еще не написана [164]164
Свыше полувека тому назад на это обратила внимание русская техническая общественность. Был объявлен конкурс на труд по истории русской электропромышленности; конкурс не состоялся, но в известной мере этой теме соответствовала работа В. А. Киселева «Электропромышленность в ее прошлом и настоящем» (М., 1915). В 1900 году в связи с Всемирной выставкой в Париже был издан «Очерк работ русских по электротехнике», который представлял собой каталог русских экспонатов на этой выставке. Ценным изданием является т. II (Электротехника) предпринятой Госэнергоиздатом (М.; Л., 1957) «Истории энергетической техники СССР», но это, собственно, исторический обзор, а не исследовательская монография.
[Закрыть], но исследователь, который займется этой темой, в первую очередь подчеркнет роль физико-математического факультета Петербургского университета, создавшего целые школы и направления в электротехнике. Высшие электротехнические учебные заведения появились в России в конце XIX и начале XX века, а потребность в квалифицированных специалистах-электриках стала ощущаться гораздо раньше. Целые отрасли электротехники, например проводная связь, электрохимия (гальванопластика), электрическое освещение, прочно входили в быт и требовали все больше людей с научной подготовкой. Ряды таких специалистов пополнялись вначале главным образом питомцами университетских физико-математических факультетов. В этом отношении Петербургскому университету принадлежало ведущее место. Его профессора и преподаватели были близки к электротехнике. Ф. Ф. Петрушевский и его ученики И. И. Боргман [165]165
Боргман Иван Иванович(1849–1914) – заслуженный профессор Петербургского университета, преподавал и в других высших учебных заведениях, в том числе и в Электротехническом институте, в котором был избран почетным членом совета. Преподавательскую деятельность в университете начал в студенческие годы А. С. Попова.
[Закрыть]и О. Д. Хвольсон [166]166
Хвольсон Орест Данилович(1852–1934) – заслуженный профессор Петербургского – Петроградского – Ленинградского университета, в котором преподавал около шестидесяти лет, почетный член Академии наук СССР. Учениками Хвольсона считали себя не только студенты высших учебных заведений, в которых он преподавал (кроме университета, в Электротехническом институте, на Высших женских курсах, в Институте путей сообщения), но и все русские физики, учившиеся по его многотомному курсу, переведенному на многие иностранные языки.
[Закрыть]были собственно первыми преподавателями курса научных основ электротехники, носившего тогда название «Электричество и магнетизм». Курс этот, составлявший физические основы образования инженеров-электриков, читался Петрушевским, а за ним Боргманом и Хвольсоном в специальных учебных заведениях до тех пор, пока там не были введены специальные курсы.
Как и все русские физики последней четверти XIX века, учившиеся в Петербургском университете, Попов формированием своих физических воззрений больше всего обязан Ивану Ивановичу Боргману. Именно он, по свидетельству В. К. Лебединского, был ярым поборником учения Фарадея – Максвелла; у Боргмана изобретатель радио «получил первую предпосылку к использованию электромагнитных волн» [167]167
Александр Степанович Попов в характеристиках и воспоминаниях современников. С. 221.
[Закрыть].
В то время физическое отделение факультета переживало пору коренной перестройки, которая была связана с деятельностью И. И. Боргмана и Н. Г. Егорова. Перестройка эта ярко охарактеризована В. К. Лебединским. «В то время – писал он, – физика Петербургского университета доживала свою послеленцовскую эпоху и не вступила еще в современную, несомненно более блестящую пору… Во главе кафедры стоял Ф. Ф. Петрушевский… Это был всеми уважаемый человек, долголетний председатель Физического общества [168]168
Физического отделения Русского физико-химического общества – о нем речь будет ниже.
[Закрыть], интересовавшийся магнитами, которые он понимал в каком-то отвлеченном, геометрическом, „немецком“ виде, но не могший уже руководить начинающими учеными. В этом отношении гораздо большее впечатление оставалось от лекций молодого профессора И. И. Боргмана, живо интересовавшегося фарадеевской и вообще английской физикой и горячо стремившегося увлечь студентов к максвелловской электромагнитной теории света» [169]169
Электричество. 1925. № 4. С. 207.
[Закрыть]. И в другом месте: «Одним из удачных обстоятельств жизни Попова было то, что он учился в Петербургском университете того времени. Там преподавали два молодых физика – И. И. Боргман и, позднее, Н. Г. Егоров, которые были очень увлечены учением Фарадея и внедряли его в умах своих студентов» [170]170
См. предисловие к книге С. Кудрявцева (Скайфа) «Рождение радио» (Л., 1935. С. 6).
[Закрыть].
Студентам, вышедшим из той среды, что и Попов, постоянно приходилось думать о хлебе насущном, искать себе заработок. Правда, известное облегчение приносило освобождение от платы за право учения. Как уже упоминалось, она составляла пятьдесят рублей в год. Согласно Уставу 1863 года такие льготы предоставлялись «недостаточным студентам», но «не иначе, как на основании свидетельства о бедности и вследствие удовлетворительных занятий науками» [171]171
Параллельный свод общих уставов имп. российских университетов 1863, 1835 и 1804 годов и Дерптского 1865 года. СПб., 1880. С. 148. В примечании к этому параграфу (107) сказано: «Форма свидетельства о бедности устанавляется Министерством народного просвещения и, по принаровлении ея к местным обстоятельствам каждого университета, сообщается тем местам и лицам, от коих зависит выдача этих свидетельств».
[Закрыть]. Представив в совет университета выданное Пермской духовной консисторией свидетельство «о недостаточности средств отца» [172]172
В документе указывается: «На основании вполне известных сведений Пермскою духовною консисториею свидетельствуется, что сын священника Александр Стефанов Попов при своем содержании не в состоянии вносить в учебное заведение за слушание лекций положенного количества денег» (ГИАЛО. Ф. С.-Петербургского университета. № 14. Св. 1277. Д. 19651. Л. 5).
[Закрыть], Попов был освобожден от платы за слушание лекций.
Тем не менее ему пришлось усердно заняться репетиторством, так как вместе с ним в Петербург приехали учиться две сестры, Анна и Августа, которые тоже нуждались в материальной помощи. Для того чтобы давать уроки в частных домах, надо было иметь разрешение университета. В сохранившемся «свидетельстве» мы читаем: «На основании § 21 правил, коим всем воспитанникам казенных высших и средних заведений ведомства Министерства народного просвещения представляется право заниматься преподаванием в частных домах, выдано это свидетельство студенту Санкт-петербургского университета Физико-математического факультета 2 курса Александру Стефанову Попову на право обучения в частных домах предметам гимназического курса» [173]173
ГИАЛО. Ф. С.-Петербургского университета. № 14. Св. 1277. Д. 19651. Л. 14.
[Закрыть].
Труд «преподавания в частных домах» был неблагодарным: случайный и ограниченный заработок репетитора был недостаточен для жизни в большом городе. Свыше двух лет [174]174
В цитированном § 107 устава сказано: «Освобождение имеет силу в течение года, но может быть возобновляемо».
[Закрыть]Попов старался жить на собственные средства, но сводить концы с концами не удавалось, и в мае 1880 года он подал ходатайство о назначении ему стипендии [175]175
Стипендии студентам физико-математических факультетов университетов выдавались и духовным ведомством. Но, не говоря уже о том, что их было весьма ограниченное число – на всю Россию всего шесть стипендий, – получение их обязывало по окончании курса прослужить в духовных учебных заведениях не менее шести лет (см.: Об учреждении при физико-математических факультетах университетов стипендий духовного ведомства // Перм. епарх. вед. 1872. Отд. офиц. С. 363). Для Попова, стремившегося к независимому положению, такая стипендия была бы помехой на пути к свободному творческому труду. Вот почему он ходатайствовал о государственной стипендии.
[Закрыть]. Просьба юноши была удовлетворена [176]176
ГИАЛО. Ф. С.-Петербургского университета. № 14. Св. 1277. Д. 19651. Л. 21.
[Закрыть]. Позднее, будучи уже на старших курсах, он работал в товариществе «Электротехник», где продолжал служить и некоторое время после окончания университета.
Для биографии Попова его первые шаги на электротехническом поприще представляют большой интерес. К сожалению, об этом известно очень мало; столь же мало сведений и об одной из первых центральных электростанций в России, которую эксплуатировало названное товарищество [177]177
Из немногих известий, появившихся в печати, приведем следующее сообщение, напечатанное в журнале «Электричество»: «Товарищество „Электротехник“ обратилось в С.-Петербургскую городскую думу, приблизительно, со следующего рода предложением. Товарищество просит город отвести близ Невского проспекта место для постройки изящного железного павильона с зеркальными стеклами для устройства небольшого электрического завода и право проводить вдоль Невского проспекта проводники для электрического освещения во все дома на протяжении от Адмиралтейской площади до Аничкова моста. За это Товарищество обязуется зажигать для города бесплатно по одному электрическому фонарю на известное число фонарей, поставленных для частного употребления, и на первый раз освещать бесплатно Екатерининскую площадь» (Каменский M. О.Первые русские электростанции. Л.; М., 1951. С. 27; Электричество. 1880. № 3–4).
[Закрыть].
Об участии Попова в этом товариществе наши сведения ограничиваются данными, приводимыми в труде М. А. Шателена [178]178
Шателен Михаил Андреевич(1866–1957) – заслуженный деятель науки и техники, член-корреспондент Академии наук СССР, первый в России профессор электротехники и автор первых учебных пособий по этому предмету в России (избран на кафедру в Электротехническом институте в 1893 году). М. А. Шателен известен научными изысканиями в области техники высоких напряжений электрических измерений и истории электротехники, а также как педагог, общественный и государственный деятель (он был одним из главных участников разработки плана ГОЭЛРО). Будучи моложе А. С. Попова на семь лет, М. А. Шателен поступил в Петербургский университет, когда Попов его уже окончил, но их личные связи начались как раз в студенческие годы Шателена.
[Закрыть], на глазах которого протекали деятельность товарищества «Электротехник» и вообще рост русской электротехники на протяжении свыше полувека. Труд этого автора – на него нам придется ссылаться еще неоднократно – во многих случаях является первоисточником, так как он говорит о событиях, свидетелем которых, а иногда и активным участником был он сам.