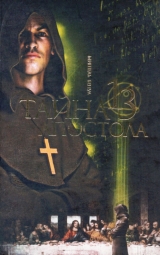
Текст книги "Тайна тринадцатого апостола"
Автор книги: Мишель Бенуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
В это самое время Лев поднял бокал, приветствуя своих сотрапезников:
– За нашу встречу!
Он привел обоих монахов в тратторию в Трастевере – одном из обычных римских кварталов.
Посещали это место в основном итальянцы, заказывавшие гигантские порции знаменитой пасты.
– Я вам рекомендую попробовать их свежеприготовленные гребешки. Настоящее домашнее блюдо. После концерта я всегда прихожу сюда. Они закрываются очень поздно, поэтому у нас хватит времени, чтобы познакомиться поближе.
С того момента, как они вошли в ресторан, отец Нил еще ни слова не произнес. Израильтянин не узнает его? Нет, это невозможно. Однако Лев вел себя весело и непринужденно и, казалось, не замечал молчания монаха. Он вспоминал с Лиландом о добрых старых временах, проведенных в Израиле, толковали о своих музыкальных открытиях.
– В те годы в Иерусалиме мы наконец-то начали приходить в себя после Шестидневной войны. Командующий Иггаэль Ядин очень хотел, чтобы я остался при нем в ЦАГАЛ.
Тут отец Нил первый раз вмешался в разговор:
– Знаменитый археолог? Так вы его знали?
Лев выдержал паузу, пока перед ними ставили три тарелки, над которыми поднимался горячий пар пасты, потом, обернувшись к отцу Нилу, скорчил забавную гримасу и с улыбкой сообщил:
– Не только знал, но даже пережил благодаря ему довольно оригинальное приключение. Вы специалист по старинным текстам, исследователь, вас это должно заинтересовать…
У отца Нила возникло отвратительное чувство, что он угодил в западню. «Откуда он знает, что я специалист и исследователь? Зачем он притащил нас сюда?» Не зная, что ответить, он решил больше не вмешиваться в разговор и, ни слова не говоря, только согласно кивнул.
– В 1947 году мне было восемь, мы жили в Иерусалиме. Мой отец был другом молодого археолога Иггаэля Ядина из местного Еврейского университета: я рос рядом с ними. Ему было двадцать лет, и он, как и все евреи, живущие в Палестине, вел двойную жизнь: с одной стороны, студент, другой, что важнее, – боец Хаганы [19]19
Еврейское движение защиты – подпольная военная организация, существовавшая до создания ЦАГАЛ – регулярной армии Израиля. (Прим. авт.)
[Закрыть], в которой он скоро стал главнокомандующим. Я знал его, безмерно им восхищался и мечтал только об одном: сражаться, как и он, за свою страну.
– В восемь лет?
– Ремберт! Сеявшие ужас бойцы ПАЛЬМАХа [20]20
Ударные роты – элита подпольного ополчения, исполнявшая особые задания. (Прим. авт.)
[Закрыть]и Хаганы были подростками, опьяненными опасностью, как наркотиком! Они без колебаний привлекали к делу детей, чтобы передавать донесения; у нас ведь не было никаких средств коммуникации. Утром 30 ноября ООН согласилась на создание еврейского государства. Мы знали, что вспыхнет война: Иерусалим выставил проволочные заграждения, и только ребенок мог бегать туда-сюда без пропуска.
– Именно это ты и делал?
– Конечно. Ядин стал меня использовать постоянно. Я слушал все, что говорилось вокруг него. Однажды вечером он упомянул о странном открытии: погнавшись за козой по скалам, что возвышаются над Мертвым морем, некий бедуин наткнулся на пещеру, в которой обнаружил кувшины с какими-то липкими свертками внутри. Он их продал за пять фунтов сапожнику – христианину из Вифлеема, а тот в конце концов передал их митрополиту Самуилу, настоятелю монастыря Святого Марка, расположенного как раз в той части Иерусалима, что стала арабской.
Отец Нил прислушался, ведь речь зашла о событиях, связанных с рукописями Мертвого моря. Он разом и думать забыл о своих подозрениях; перед ним был непосредственный свидетель, встреча с ним – такая удача, о которой он даже мечтать не мог.
Лев взглянул на отца Нила, чей внезапно проснувшийся интерес, казалось, забавлял его. Он продолжил:
– Митрополит Самуил попросил Ядина удостоверить подлинность этих текстов. Но чтобы дойти до монастыря Святого Марка, надо было пересечь весь город, где на каждой улице стоят проволочные заграждения. Ядин дал мне фартук и ранец школьника и рассказал, как пройти к монастырю. По пути мне встречались и английские баррикады, и арабские повозки, отряды Хаганы, и все прекращали стрельбу, чтобы пропустить мальчика, который идет в школу! В том школьном ранце я притащил из монастыря два свитка, и Ядин сразу понял, о чем идет речь: это были самые древние рукописи, когда-либо найденные на земле Израиля, сокровище, по праву принадлежащее новому еврейскому: государству.
– И что же он с ними сделал?
– Оставить их у себя он не мог, это было бы воровством. Он их вернул митрополиту, а сам дал понять, что готов купить все манускрипты, которые бедуин найдет в гротах Кумрана. Невзирая на войну, поползли слухи: янки из Американской восточной школы и французские доминиканцы из иерусалимской Библейской школы стали проявлять интерес к находкам. Ядин, ранее командовавший воинскими операциями, начал секретные переговоры с вифлеемскими и иерусалимскими торговцами древностями. Но все заполучили американцы…
– Это я знаю, – перебил его отец Нил. – Я у себя в монастыре видел ксерокопии Хантингтонской библиотеки.
– А, так вам удалось раздобыть экземпляр? Мало кому так повезло, я очень надеюсь, что в один прекрасный день они все-таки будут опубликованы. Но тогда я случайно стал действующим лицом происшествия, которое должно было вас заинтересовать…
Он отодвинул свою тарелку, налил себе еще вина. И тут отец Нил заметил, что его лицо снова застыло – совсем как в поезде или на концерте, когда он играл Рахманинова!
Помолчав, Лев сделал над собой усилие и продолжил:
– Однажды митрополит Самуил сообщил Ядину, что у него имеются два исключительно хорошо сохранившихся документа. Бедуин нашел их во время своего второго посещения пещеры в третьем кувшине слева от входа, рядом со скелетом человека, который, по всей вероятности, был тамплиером, поскольку на нем была белая туника с красным крестом. Снова мне пришлось пройти через весь город, и я принес Ядину содержимое того кувшина: большой свиток, обернутый в промасленную бумагу, и маленький пергамент, всего один лист, просто обвязанный льняной тесьмой. В комнате, что служила ему штабом, Ядин, несмотря на бомбежку, сначала развернул свиток, исписанный по-древнееврейски; это была «Уставная книга» ессеев. Потом он открыл листок, исписанный по-гречески, и вслух перевел мне первую строку. Я был ребенком, но все еще помню: «Я, возлюбленный ученик, тринадцатый апостол, обращаюсь ко всем церквам…»
Отец Нил побледнел и скомкал свою салфетку, насилу сдерживаясь:
– Вы уверены? Это было именно так, вы хорошо расслышали: «возлюбленный ученик, тринадцатый апостол»?
– Абсолютно уверен. У Ядина был такой вид, будто он потрясен. Он сказал мне, что его интересуют только рукописи на древнееврейском, поскольку они достояние Израиля, а это послание написано на таком же греческом, как и Евангелия, значит, оно касается христиан, и надо вернуть его митрополиту. «Уставную книгу» он оставил у себя, взамен сунул в мой ранец пачку долларов, а также маленький греческий пергамент. Затем отослал меня назад в монастырь Святого Марка, и я побежал среди падающих бомб.
Отец Нил молчал, ошарашенный. «Он держал в руках послание тринадцатого апостола, единственный экземпляр, ускользнувший от церкви, избежавший уничтожения. Может быть, даже оригинал!»
С таким же странно застывшим лицом Лев продолжал:
– Я не дошел сотни метров до монастыря, когда на улицу упал снаряд. Меня подбросило в воздух, и я потерял сознание, а когда снова открыл глаза, то увидел монаха, склонившегося надо мной. Я был уже внутри монастыря, кожа на голове была разодрана сверху донизу, – поморщившись, он потрогал шрам, – а мой школьный ранец исчез.
– Исчез?
– Да. Я двадцать четыре часа провалялся в коме, между жизнью и смертью. Когда на другой день митрополит зашел навестить меня, он сказал мне, что один из его монахов поднял меня на улице, а ранец передал ему. Открыв его, он понял, что Ядин выплатил ему запрошенную сумму за кумранский манускрипт, но греческого письма купить не захотел. Это письмо он только что продал доминиканскому монаху заодно с кучей новых древнееврейских манускриптов, которые притащил ему бедуин. Он даже прибавил со смехом, что засунул письмо и манускрипты в пустой ящик из-под коньяка «Наполеон», до которого был большой охотник. И что, похоже, доминиканец даже не сознавал всей ценности того, что получил.
Столько вопросов роились, сталкиваясь и путаясь, у отца Нила в голове, что он сам не знал, с которого начать, и насилу выдавил из себя:
– По-вашему, митрополит прочел письмо, прежде чем перепродать его доминиканцу?
– Черт возьми, понятия не имею! Но меня бы это удивило, митрополит Самуил был кем угодно, но только не эрудитом. Да и не забудьте, шла война, ему требовались деньги, чтобы прокормить своих монахов и лечить раненых, которых десятками тащили в монастырь. Не тот был момент, чтобы тексты изучать! Наверняка он даже не понял, что это за письмо.
– А доминиканец?
Лев повернулся к нему: он-то знал, до какой степени этого французского монаха интересует его рассказ. «А как по-вашему, отец мой, зачем я пригласил вас сегодня на ужин? Чтобы полакомиться паштетами под пряным соусом?»
– Я очень хорошо помню всю эту историю. Много позже, на пороге смерти, Ядин снова заговорил со мной о том письме и просил меня отыскать его след. Мне удалось провести небольшое расследование благодаря Моссаду, для которого я стал… ну скажем, информатором от случая к случаю. Похоже, что у Моссада лучшая в мире информационная служба – после ватиканской, разумеется!
Сейчас Лев снова был мил и весел: на его лице не осталось и следа напряженности.
– Тот доминиканец, по сути, был братом послушником, а не священником, в монастыре он занимался хозяйственными делами. Славный малый, немного туповатый. Перед объявлением независимости Израиля ситуация в Иерусалиме была настолько напряженной, что многих монахов репатриировали в Европу. Похоже, что доминиканец, собираясь в дорогу, засунул в свой багаж и тот ящик из-под коньяка «Наполеон», о значении которого он не имел ни малейшего представления, да и дотащил его до самого Рима, где и закончил свои дни на Авентинском холме, в доминиканской курии. Мы выяснили, что ящика там уже нет, после его кончины в келье не нашли ничего, кроме четок из оливкового дерева.
– И… где же все это теперь может быть?
– Курия – учреждение, не склонное хранить документы, бесполезные для него. Она передала разрозненные рукописи, вывезенные из Иерусалима, в Ватикан, и они, несомненно, осели там, где хранится всякое старье, с которым не поймешь что и делать, или использование которого возможно, но не желательно. Где-то в уголке одной из библиотек или хранилищ священного града упокоилось и это послание. Думаю, что, если бы его раскопали, оно дало бы о себе знать.
– А почему, Лев?
Тронутый тем, как израильтянин на глазах оттаял, отец Нил назвал его по имени. Лев это заметил и налил ему еще рюмку вина:
– Потому что Иггаэль Ядин прочел письмо, прежде чем вернуть его митрополиту. И то, что он мне сказал перед смертью, заставляет думать, что в письме том содержится страшная байка – из тех, которые в конце концов выходят наружу и никакая церковь, никакое государство, даже такое закрытое, как Ватикан, не может вечно скрывать их. Если кто-то видел это послание, отец Нил, он или уже мертв, или Ватикан и вся католическая церковь скоро взлетят на воздух.
Отец Нил нервно потер подбородок. «Он или уже мертв…»
– Отец Андрей!
71Легкое вино из Кастелли слегка кружило голову. Отец Нил с удивлением увидел, что гарсон ставит перед ним чашку кофе; всецело поглощенный рассказом Льва, он незаметно для себя проглотил и пасту, и последовавший за ней эскалоп по-милански. Между тем Лиланд с озабоченным видом мешал ложечкой свой кофе. Он решился задать Льву тот вопрос, на который натолкнул его Нил тогда, во дворе бельведера:
– Скажи-ка, Лев… Почему ты прислал мне два билета на твой концерт, да еще в записке уточнил, что это может заинтересовать моего друга? Откуда ты узнал, что он в Риме, да и просто о его существовании?
Лев удивленно поднял брови:
– Но… ты же сам мне сообщил! На следующий день после твоего приезда я получил в отеле на виа Джулиа письмо с гербами Ватикана. В конверте было несколько строк, напечатанных на машинке – если память мне не изменяет, что-то типа «монсеньор Лиланд и его друг отец Нил были бы счастливы присутствовать…» ну, и так далее. Я еще подумал, что ты поручил своей секретарше известить меня, и, по правде сказать, нашел, что это уже слишком по-деловому, но так уж, видимо, принято у вас в Ватикане.
Лиланд мягко возразил:
– У меня нет секретарши, Лев, и я не посылал тебе никакого письма. Я даже не знал, в каком отеле ты остановился, только слышал, что ты будешь давать в Риме серию концертов. Скажи, а на письме была моя подпись?
Пианист задумчиво почесал затылок, взъерошив свою пышную белокурую шевелюру:
– Да я уже и не помню! Нет, это была не в твоем духе, внизу там был только инициал. Вроде бы прописная буква «К» с точкой. Но я, Ремберт, в любом случае хотел с тобой повидаться, раз уж приехал. К тому же мне непременно нужно было познакомиться с отцом Нилом.
Лицо Лиланда омрачилось: Катцингер или Кальфо? В нем снова поднялась волна раздражения.
Погруженный в свои мысли, отец Нил лишь краем уха слушал разговор. Его мучили совсем другие вопросы, и он решил вмешаться:
– Все хорошо, что хорошо кончается, ведь благодаря этому письму я сегодня вечером смог послушать ваше потрясающее исполнение рахманиновского концерта. Но скажите мне, Лев… почему вы были с нами так откровенны? Вы догадались, что значило бы для Ремберта и для меня обнаружение нового послания апостола, способного поставить под сомнение нашу веру и чудесным образом извлеченного из забвения на исходе XX столетия? Зачем вы рассказали нам все это?
Лев обезоруживающе улыбнулся. Не мог же он сказать отцу Нилу правду: «Потому что таково задание Моссада»!
– А кому, кроме вас, это могло бы быть интересно?
Он, казалось, не придал вопросу отца Нила ни малейшего значения и смотрел на него тепло, дружески:
– Отец Нил, неужели какой-то древний документ, оспаривающий божественность Иисуса, действительно что-то изменил бы для вас?
Тем временем последние клиенты уже покинули тратторию, они были одни в зале, и хозяин уже лениво принялся наводить порядок. Отец Нил надолго задумался, прежде чем ответить. Потом заговорил как-то странно, будто забыл, к кому обращается:
– Сегодня вечером вы рассказали мне, что апостольское послание было найдено в Кумране тогда же, когда манускрипты Мертвого моря. А я все последние недели собирал доказательства существования этого документа. В III веке он упоминался в одной коптской рукописи, на рубеже IV – в тексте Оригена, в VII веке – в Коране, а в VIII веке была выбита надпись в Жерминьи – закодированный Никейский Символ, и смысл его кода относится все к тому же посланию. Наконец, процесс тамплиеров в XIV столетии также касается этого документа. Все это я выяснил после долгих лет поиска скрытого смысла текста конца I века, с которого все и началось, – с Евангелия от Иоанна. Что до послания тринадцатого апостола, я отыскал его следы благодаря тому, что тень этого человека лежит на всей истории Запада.
Он посмотрел прямо в лицо Льву:
– А теперь вы приходите и рассказываете мне, что таскали этот документ в своем школьном ранце, исполняя поручения шефа Хаганы. Затем вы сообщаете, что послание находится где-то в Ватикане, то ли спрятанное, то ли просто неопознанное. Иггаэль Ядин говорил вам, что в нем заключена страшная тайна. Но даже если я узнаю его содержание, которое должно быть и впрямь чудовищным, если оно на протяжении веков становилось поводом для стольких изгнаний, убийств и заговоров, в моей духовной связи с Иисусом это ничего не изменит. Я с Ним встретился лично, Лев, можете вы это понять? Его образ не принадлежит ни одной церкви, Он, чтобы существовать, в ней не нуждается.
На Льва, похоже, эта речь произвела впечатление. Он мягко коснулся локтя отца Нила:
– Я никогда не был особенно набожным, отец Нил, но любой еврей поймет то, что вы сказали, поскольку каждый из нас является потомком рода пророков, хочет он того или нет. Знайте, что вы мне бесконечно симпатичны, и хоть лгал я в своей жизни немало, сейчас говорю я это абсолютно искренне.
Он встал, поскольку хозяин уже ходил кругами вокруг их столика.
– От всей души желаю вам добиться цели в своих поисках. Не думайте, что они касаются только вас. Но берегитесь, пророки всегда умирают насильственной смертью. Это тоже всякий еврей знает инстинктивно и принимает так же, как некогда принял свою участь еврей Иисус. Однако уже два часа ночи. Позвольте мне поймать для вас такси, чтобы вы могли вернуться в Сан-Джироламо.
Ссутулившись на сиденье автомобиля, отец Нил смотрел, как проносятся мимо купола Ватикана, мягко поблескивая инеем в темноте морозной декабрьской ночи. Но пелена слез затуманивала его взгляд. До сегодняшнего дня это письмо было все-таки лишь гипотезой, чем-то придуманным. Но он только что пожимал руку того, кто видел этот документ, смотрел ему в глаза.
Гипотеза внезапно стала принимать реальные черты. Письмо тринадцатого апостола, несомненно, находилось где-то за высокими стенами Ватикана.
Он пойдет до конца. Да, он тоже собственными глазами увидит это письмо.
И в отличие от всех тех, кто прошел этот путь раньше, он попытается выжить.
72Лиланд играл прелюдию Баха, когда отец Нил вошел в квартиру на виа Аурелиа. Он до рассвета вспоминал рассказ Льва Барионы. Под глазами у него наметились круги, беспокойство, что грызло его, отчетливо проступало во взгляде.
– Я всю ночь глаз не сомкнул – слишком много навалилось сразу! Ладно, это не важно, пойдем в книгохранилище, займусь рукописями твоих григорианских песнопений, надеюсь, это поможет мне собраться с мыслями. Однако, Ремберт, ты понимаешь, что случилось? Письмо тринадцатого апостола находится в Ватикане!
– Мы сможем провести в хранилище только утренние часы. Мне только что звонил монсеньор Кальфо, меня вызывает кардинал, сегодня в два я должен явиться к нему в кабинет.
– Зачем?
– О… – Лиланд закрыл крышку рояля, лицо его стало смущенным. – Я, наверное, знаю, в чем дело, но предпочел бы тебе сейчас об этом не рассказывать. А это таинственное послание… Если оно и правда в Ватикане, как ты рассчитываешь добраться до него?
Теперь уже отец Нил, в свою очередь, отвел глаза:
– Извини, Ремби, я тоже предпочитаю не отвечать тебе на этот вопрос так сразу. Видишь, что Ватикан с нами сделал, братья уже не могут быть братьями в полной мере, когда они что-то скрывают друг от друга…
Моктар этажом ниже выключил магнитофон и присвистнул сквозь зубы. Отец Нил только что произнес фразу, которая многих денег стоит: «Письмо тринадцатого апостола находится в Ватикане!» Правильно он сделал, что послушался приказаний из Каира и все еще ничего не предпринял против этого мелкого француза. ХАМАС знал столько же, сколько было известно Кальфо, и о пресловутом письме, и о том, как оно жизненно важно для христианства, смертоносное кольцо вокруг отца Нила сжимается, но сначала пусть он доведет поиски до конца.
Кальфо защищает христианство, но он-то, Моктар, отстаивает ислам, свой Коран, своего пророка, благословенно имя его.
Проходя по длинному коридору, ведущему к кабинету префекта Конгрегации, Лиланд почувствовал, как под ложечкой засосало, желудок словно скукожился. Пушистые ковры, венецианские бра, дорогая резьба по дереву – вся эта пышность вдруг показалась ему нестерпимой. Это была нарочитая демонстрация мощи организации, которая готова уничтожить любого, чтобы продлить существование своей гигантской империи, построенной на преемственности лжи. Со времени приезда Нила он успел понять, что его друг стал жертвой этой власти – так же, как он сам, хотя и по совсем иной причине. Лиланд никогда ранее не задавал себе вопросов относительно собственной веры. Открытия Нила его потрясли, придав новые силы бунту, нараставшему в душе.
Он скромно постучался в высокую дверь, покрытую орнаментом из тонких золотых нитей.
– Входите, монсеньор, я вас ждал.
Лиланд приготовился к тому, что Кальфо будет помогать кардиналу в беседе. Но Катцингер был один. На его пустом письменном столе лежала простая папка, перечеркнутая красным. Выражение лица кардинала, обычно мягкое, обрело гранитную жесткость.
– Монсеньор, я не стану ходить вокруг да около. В течение трех недель вы ежедневно видитесь с отцом Нилом. Теперь вот привели его на публичный концерт, познакомили с человеком, о котором мы получаем весьма нелестные отзывы.
– Ваше преосвященство, Рим не монастырь…
– Довольно пустословия! Мы с вами заключили соглашение, вы должны были держать меня в курсе ваших бесед с отцом Нилом и докладывать о том, как продвигаются его личные исследования. В католической церкви никакое исследование не может быть личным: всякое размышление, открытие должно приносить ей пользу. Я уже не получаю от вас никаких докладов, да и те, которые вы мне составляли вначале, весьма немногословны, в них сказано меньше, чем можно было бы. Мы знаем, что поиски отца Нила движутся в рискованном направлении, и также знаем, что он держит вас в курсе. Так почему же вы, монсеньор, становитесь на сторону авантюры, направленной против церкви, к которой вы принадлежите, которая вам, как мать?
Лиланд опустил голову. Этот человек… Что ему ответить?
– Ваше преосвященство, я так мало смыслю в ученых трудах отца Нила…
Катцингер сухо оборвал его:
– Я прошу вас не понимать, а докладывать о том, что вы услышите. Мне неприятно вам об этом напоминать, но в вашем положении не выбирают.
Он склонился над столом, раскрыл папку и подтолкнул её к Лиланду:
– Узнаете эти снимки? Вы здесь представлены в компании одного из монахов вашего монастыря Святой Марии в пору, когда вы были там настоятелем. Здесь – он помахал перед носом Лиланда черно-белой фотографией – вы с ним наедине в саду аббатства, и взгляды, которыми вы обмениваетесь, говорят о многом. А здесь – это изображение было уже цветным – вы стоите у него за спиной, и ваша рука лежит на его плече. Подобные вещи недопустимы между монахами, это непристойно.
Лиланд побледнел, сердце заколотилось. «Ансельм!» Чистый, благородный брат Ансельм! Никогда этому кардиналу не понять, что сближало их. Да и сам он никогда бы не позволил ни этим выпученным глазам, ни словам, произнесенными так жестко и холодно, осквернить то, что было тогда в его жизни.
– Ваше преосвященство, как вам известно, я доказал, что между мной и братом Ансельмом не было ничего такого, что нарушило бы наши обеты целомудрия – ни действий, ни малейшего намека на поступки, противные христианской морали!
– Монсеньор, христианская чистота нарушается не только поступками, нужно уметь владеть своим разумом, сердцем и душой. Вы пренебрегли своими обетами, дав волю дурным помыслам, ваша переписка с братом Ансельмом доказывает это. – И он показал Лиланду несколько писем, аккуратно сложенных в стопку. – Злоупотребляя властью, которую имели над ним, вы вовлекли этого несчастного брата в водоворот страстей, обуревающих вас, одна мысль о которых внушает мне ужас.
Лиланд покраснел до корней волос и съежился. «Как им удалось заграбастать эти письма? Ансельм, бедный мой друг, что они с тобой сделали?»
– Ваше преосвященство, в этих письмах нет ничего, кроме выражения приязни, конечно, сильной, но чистой, которая связывала монаха и его настоятеля.
– Да вы шутите! Эти фотографии, потом эти письма, наконец ваши публичные высказывания о допустимости брака для священнослужителей. Все это говорит о том, что вы дошли до той степени моральной испорченности, которая нас вынудила облечь вас епископским саном, чтобы оградить от соблазна и избежать ужасающего скандала, назревавшего в США по вашей милости. Американская католическая церковь и без того переживает нелегкие времена, процессы о педофилии, да еще повторные, серьезно подорвали доверие ее прихожан. Вообразите, как бы раздула этот скандал пресса: «Аббатство Святой Марии – уголок Содома и Гоморры». Приютив вас в Ватикане, я добился от журналистов молчания, и это нам весьма дорого обошлось. Это досье, монсеньор…
Он заботливо сложил фотографии поверх пачки писем, резким жестом захлопнул папку и заключил:
– Я не смогу и далее хранить это досье в секрете, если вы не будете исполнять наш договор так, как следует. Отныне вы будете напрямую держать меня в курсе всех изысканий вашего французского друга. Кроме того, потрудитесь проследить, чтобы он не встречался в Риме больше ни с кем, кроме вас, и вот тогда вы обеспечите как свою, так и его безопасность. Понятно?
Когда Лиланд снова вышел в длинный безлюдный коридор, ему пришлось на миг прислониться к стене. Он задыхался, этот разговор довел его до полного изнеможения. Он был весь в поту, майка прилипла к груди. Медленно приходя в себя, он спустился по широкой мраморной лестнице и вышел из здания Конгрегации, машинально повернул направо, зашагал по первому из трех переходов, огибающих колоннаду Бернини, потом снова направо, к виа Аурелиа – не глядя по сторонам, с пустотой в голове.
Его преследовало ощущение, будто его раздавили физически. Ансельм! Откуда им знать, да и разве способны они постигнуть, что такое любовь? Для этих людей это всего лишь слово, такое же пустое изнутри, как политическая программа. Как можно любить невидимого Бога, если никогда не любил существа из плоти и крови? Как быть всемирным братом, если ты своему брату не брат?
Сам не заметив, как очутился перед подъездом своего дома, он поднялся на четвертый этаж, где застал отца Нила сидящим на ступеньке лестницы с мешком, зажатым между коленями.
– Я не мог оставаться в Сан-Джироламо, сидеть там без дела. Этот монастырь омерзительно уныл. Мне захотелось поговорить, я подумал, дождусь тебя…
Лиланд без единого слова провел его в гостиную. У него тоже была потребность поговорить, но сможет ли он расколоть эту сдавившую грудь каменную броню?
Он сел и налил себе бурбона. Его лицо все еще было страшно бледно. Нил, склонив голову набок, всмотрелся в него:
– Ремби, мой друг, да что случилось? На тебе лица нет.
Обхватив стакан обеими руками, Лиланд на мгновение зажмурился. «Смогу ли я сказать ему?» Но, сделав еще глоток, робко улыбнулся Нилу и подумал: «А ведь теперь это мой единственный друг». Он больше не вынесет этого двоедушия, к которому его вынудили с тех пор, как он здесь, в Риме. И, сделав над собой усилие, он заговорил:
– Как ты знаешь, я был совсем юнцом, когда поступил в консерваторию аббатства Святой Марии и прямо со школьной скамьи угодил в послушники. Я ничего не знал о жизни, Нил, и целомудрие меня не угнетало, потому что я не ведал страсти. В том году, когда я принес монашеский обет, к нам присоединился еще один послушник из консерватории, такой же невинный, как новорожденное дитя. Я пианист, а он был виолончелистом. Сначала нас сблизила музыка, потом к этому прибавилось что-то еще, мне совершенно не известное, я был перед этим абсолютно безоружен, но это было то, о чем в монастырях не говорят, – любовь. Мне потребовались годы, чтобы понять, какое чувство овладело мной, что счастье, которое я испытываю в его присутствии, называется именно так! И я тоже был любим, я знал об этом, мы открыли друг другу свое сердце. Да, я полюбил монаха, который был младше меня, чистого, как вода, бегущая из источника. И он тоже любил меня, Нил!
Его собеседник, кажется, порывался что-то сказать, но перебить не решился.
– Когда я стал настоятелем монастыря, наши отношения стали глубже. По выбору местной церкви он был наречен моим сыном пред Господом, и моя любовь к нему окрасилась бесконечной нежностью…
Две слезы скатились по его щекам, он не мог продолжать. Нил забрал у него стакан и поставил на рояль. Потом, поколебавшись, все же спросил:
– Эта взаимная любовь, которой ни один из вас не отвергал, она выражалась в каких-нибудь физических контактах?
Лиланд поднял на него глаза, полные слез: – Никогда! Никогда, слышишь, если ты подразумеваешь что бы то ни было пошлое. Я наслаждался его присутствием, я угадывал малейшее движение его души, но наши тела никогда не предавались грубому соитию. Я никогда не переставал быть монахом, он был неизменно кристально чист. Мы любили друг друга, Нил, и этого сознания было довольно, чтобы сделать нас счастливыми. С тех дней любовь Господня стала мне понятнее, ближе. Может быть, возлюбленный ученик и Иисус некогда тоже пережили что-то похожее?
Отец Нил поморщился. Не стоило бы так углубляться, лучше оставаться на почве фактов.
– Если между вами ничего не было, никогда никаких конкретных действий, то есть отсутствует сама субстанция греха – прости меня, это у теологов так принято выражаться, – то при чем здесь Катцингер? Ты ведь у него сейчас был, верно?
– Я в свое время написал Ансельму несколько писем, в которых сквозит эта любовь. Уж не знаю, к чему прибегнул Ватикан, чтобы получить их. Есть еще две совершенно невинные фотографии, где мы с Ансельмом сняты рядом. А ты ведь знаешь, все, что связано с сексом, – навязчивая идея церкви. Этого оказалось довольно, чтобы их болезненная фантазия воспалилась. Меня обвинили в моральном разложении, осквернили, заляпали тошнотворной грязью чувство, которого не могли понять. Как по-твоему, Нил, эти прелаты – люди ли они вообще? Я в этом сомневаюсь, им ведь не знакома боль любви, а без нее душа человеческая мертва.
– Итак, – настаивал Нил, – сейчас Катцингер пытается надавить именно на тебя. Но почему? Ты это знаешь? Что он тебе сказал, чем ты так потрясен?
Опустив голову, Лиланд на одном дыхании выговорил:
– В день твоего приезда в Рим он меня вызвал к себе. И поручил докладывать ему обо всех наших разговорах, иначе он меня отдаст на растерзание прессе, я-то, может, и пережил бы, но Ансельм беззащитен, я знаю, его бы такое сломило. Раз я осмелился полюбить, он за это потребовал, чтобы я шпионил за тобой, Нил!
Когда первые мгновения цепенящей растерянности прошли, Нил встал и налил себе стакан бурбона. Теперь он понимал двусмысленное поведение своего друга, это молчание, в которое тот порой так внезапно впадал. Все разом встало на свои места: бумаги, похищенные из его кельи на берегу Луары, должно быть, очень быстро были доставлены в бюро Конгрегации. Его вызов в Рим под явно искусственным предлогом, их встреча с Лиландом – все было предусмотрено и было частью единого замысла. За ним шпионили? Да, это началось еще в аббатстве, на следующий день после гибели отца Андрея. А несчастный Лиланд стал пешкой на шахматной доске, где центральной фигурой был он сам, отец Нил.
Он напряженно размышлял, потом быстро принял решение:








