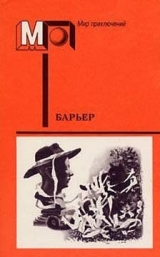
Текст книги "Барьер (сборник)"
Автор книги: Милорад Павич
Соавторы: Павел Вежинов,Кшиштоф Борунь,Вацлав Кайдош,Криста Вольф,Эндре Гейереш,Камил Бачу
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Затем доктор Хинц предложил раздразнить компьютер и в экспериментальном порядке ампутировать весь комплекс «Творческое мышление». БРАВО, написал Генрих, НЕ ОТСТУПАТЬ!
– Гениальный ход! – сказал мой профессор, – Но как же нам теперь быть?
Прежде всего не надо ломать себе голову, сказал доктор Хинц, над антагонистическим противоречием между понятиями «человек» и «утрата творческого мышления». Но тут доктор Феттбак напомнил нам, что «счастлив мира обитатель только личностью своей», и заявил, что личность немыслима без творческого мышления, каковое он, Феттбак, готов защищать до последней капли крови.
– А если научная конференция вынесет иное решение? – спросил доктор Хинц.
– Тогда другое дело! – ответил Феттбак, – Не стану же я упрямиться, как иные чудаки.
Конференция, созванная по инициативе профессора P.-В. Барцеля, большинством голосов вынесла резолюцию, чтобы творческое мышление и впредь рассматривалось как нечто, без чего немыслим образ человека, и чтобы оно пропагандировалось в литературе и искусстве, но в то же время допускала возможность абстрагироваться от него в научно-исследовательских целях.
Я слышал, как мой профессор вечером рассказывал об этом жене. Но фрау Анита, которая, кстати, хранит теперь свою бутылку «Apricot Brandy» возле кровати в тумбочке, плохо следила за полетом мысли мужа и только поинтересовалась, был ли на докторе Хинце его красивый жилет. Но мой профессор, разумеется, не обратил внимания на то, как был одет доктор Хинц.
– У него, – сказала фрау Анита, мечтательно глядя вдаль, – такой замечательный жилет винного цвета…
Теперь, для того чтобы работа быстро продвинулась вперед, потребовалась еще новая идея моего профессора, он ввел понятие «формирование личности». (Нет нужды особо распространяться о том, что я с самого начала внес в это посильную лепту. Вынутые мною карточки я отнес в котельную и приобщил к сложенной там макулатуре: теперь была уже полная гарантия, что никто их не обнаружит. Соблюдая осмотрительность, я изъял только желтые карточки, обозначающие второстепенные качества, такие, как отвага, самоотверженность, сострадание и так далее; это излишние свойства, хоть человек, кажется, и неохотно с ними расстается.) Итак, теперь проводилось различие между личностями сформированными и несформированными. Личности, сформированные тремя исследователями, медленно, но верно приближались к Генриховой идеальной модели. Несформированные же, из которых, к сожалению, еще и в наше время состоит основная масса людей, могли быть признаны анахронизмом и оставлены без внимания.
Таким образом, формируя личность человека, пригодного для благодеяний Сисмаксздора, его постепенно разгружали, освобождая от целой кучи бесполезного хлама. У доктора Хинца, как он нам признался, было такое ощущение, что мы наконец-то приближаемся к состоянию истинности, критерием которой служит годность. А исходивший от Генриха поток информации, подбадривавший нас в течение какого-то времени, вдруг застопорился. Мы пошли ему навстречу. Удалили такие качества, как, например, верность своей точке зрения, – что это еще за штука такая, и разве бывают точки зрения, верность которым нужно соблюдать при наличии совершенной системы? А к чему человеку фантазия? К чему чувство красоты? Мы вошли в раж и стали черкать и черкать. Нервы наши были натянуты как тугая струна, когда мы ожидали от Генриха ответа. И что же он заявил? ТАК НЕ ПРОДВИНЕМСЯ НИ НА ШАГ. МНЕ ГРУСТНО. ВАШ ГЕНРИХ.
Редко трогало нас что-нибудь так, как грусть этой машины. Мы готовы были пойти на крайние меры, лишь бы только его развеселить. Но что же это за крайние меры?
– Разум? – робко спросил доктор Феттбак.
– Его давным-давно можно было убрать, – сказал доктор Хинц, – тем более что это не качество, а только гипотеза. Но ведь вой поднимут, если это признать публично! – И он поглядел своим цепким взглядом вслед фрау Аните, которая, вынося из комнаты пустые чашки, покачивала бедрами – эту странную походку она усвоила с недавнего времени.
– Секс, – вдруг предложил доктор Феттбак, покраснев и по ошибке вонзив зубы в бутерброд с ветчиной.
Ответом ему было молчание. В смятении разошлись мы по своим углам. Сомнений не было: кризис держал нас в тисках. Уже на пороге ночи, то есть той самой поры, когда якобы все кошки серы (что неверно), я выискал своего хозяина в кустах, отделяющих сад Барцелей от беккельмановского. Он обратился ко мне с речью.
– Макс! – сказал он мне. – Макс, радуйся, что ты не родился человеком!
Подобное поучение было совершенно неуместным. А кем же, интересно, хотел быть он? Котом, что ли? Эта мысль, уже сама по себе, означала дерзкий вызов моим представлениям о пристойности.
Мой профессор проявил истинный героизм. Он, я знаю это хорошо, лишил сформированную личность разума и секса и снова прогнал ее сквозь компьютер. На нем лица не было, когда он пришел домой. Оказывается, Генрих изверг гневные слова: НЕ ПРИСТАВАЙТЕ КО МНЕ С ПОЛУМЕРАМИ!
Этой ночью мой профессор наконец-то вытащил из металлического ящика свое Рефлексообразующее Существо, чтобы сравнить данные этого создания и Сформированной Личности. В эти минуты он не мог не понять то, что я знал уже давно: Нормальный Человек был идентичен Рефлексообразующему Существу. И к чему было теперь качать головой, не возьму в толк. Не знаю, почему он не отправился сразу же к Генриху и не познакомил его с Существом. Этого человека я теперь отказываюсь понимать.
Из дому мой профессор уходит, как обычно, но спустя несколько часов я вижу, что он бродит по лесочку. Я забираюсь в кусты, не поздоровавшись с ним, потому что придаю большое значение соблюдению тайны в моей интимной жизни. (Замечу в скобках, что на сей раз речь идет о белой с черными пятнами Лауре жестянщика Вилле, кротком и привязчивом создании, которому так чуждо властолюбие.) Доктор Хинц все еще ходит к нам, хотя работа не ведется уже несколько дней. Является он по вечерам, когда моего профессора еще нет дома. На нем жилет винного цвета. Он целует руку фрау Аните, и они удаляются в гостиную, куда я за ними не следую.
Так как разговоры на ненаучные темы нагоняют на меня невероятную скуку. Иза возится с приемником в своей комнате, достигая при этом такой силы звука, что я влезаю в шкаф и прячусь под подкладкой меховой шубы. Затем я слышу, как в прихожей доктор Хинц и мой профессор вежливо здороваются друг с другом. Один уходит, другой приходит.
Полночь.
Слышу, как фрау Анита спрашивает:
– Что с тобой, Рудольф?
Мой профессор проходит мимо нее молча, каким-то необычно тяжелым шагом и запирается в своем кабинете, но я все-таки кое-как успеваю проскочить в дверь. То, что он извлекает из портфеля, – это вовсе не новые послания Генриха, а две бутылки коньяка, из коих одна наполовину пуста. Он сразу же приставляет ее ко рту и делает большой глоток. Затем начинает говорить.
Я, как известно, не робкого десятка, но мне становится страшновато.
– Регина, – говорит профессор прикладной психологии P.-В. Барцель, – фройляйн Кака! Стало быть, ты не хочешь меня, ты возгордилась. Ну, хорошо. Даже превосходно. (Так говорит мой профессор, поглощая содержимое бутылки.) Настанет день, когда вы не сможете не любить меня, милая барышня. Только вы уже будете не Какой и не Макакой, а таким же Рефлексообразующим Существом, как все прочие, а гордость я удалю у тебя при формировании твоей личности как нечто второстепенное и выдам тебя замуж не за твоего белобрысого мальчишку с унылой физиономией, торчащей из-под мотоциклетного шлема, а за Сисмаксздора. И свидетелем при вашем бракосочетании будет Генрих; этого оболтуса, этого наглеца я уж тоже как-нибудь поприжму. Он станет положительным с головы до пят, этот мерзавец, беспощадно положительным, и какой только жратвы я ему ни дам, выплевывать он будет только одно: ДА ДА ДА ДА ДА ДА.
Стучат. Слышу голос доктора Феттбака и предпочитаю…
Примечание издателя
На этом рукопись обрывается. Наш кот Макс, если только ее автором был действительно он, что нам представляется маловероятным, завершить свой труд не успел. Он умер на прошлой неделе, пав жертвой коварной кошачьей эпидемии. Скорбь, которую вызвало в нашем сердце известие о кончине Макса, не знавшего себе равных по красоте и характеру, усугубила эта находка в его литературном наследии. И, как это обычно бывает, когда автор был тебе лично знаком, нас смущает своеобразное, мы бы даже сказали искаженное, мировосприятие, лежащее в основе его произведения. Выходит, что и наш добрый Макс не стеснял своей фантазии. Даже собственный его образ, запечатленный в нашей памяти, отличается, и при этом выгодно, от образа рассказчика, исповедовавшегося только что перед читателями.
Но кто же, кто, отдавшись во власть разного рода придирок или ущемленного тщеславия, осмелился бы скрыть от широкой общественности этот памятник, который воздвигло самому себе одаренное существо?
1970
Павел Вежинов
Барьер
Нине
Повесть

…И все чаще подстерегает меня по ночам одиночество, прежде такое чуждое и непонятное мне чувство. Оно возникает обычно около полуночи, когда замирает все живое, утихают все шумы, кроме поскрипывания панельных стен, точно у коченеющего мертвеца потрескивают кости. В такие минуты меня охватывает нелепое ощущение, будто я в разинутой пасти хищного зверя – так явственно и отчетливо слышу я чье-то близкое дыхание. Встаю и начинаю нервно расхаживать по просторному холлу, служащему мне кабинетом. Спасения нет. Чувство одиночества – не густое и липкое, а пронзительное и острое, как лезвие кинжала. Оно настигает меня внезапно, пытаясь прижать к стене подле дурацкой позеленевшей амфоры или фикуса, задвинутого в угол моей домработницей. Едва нахожу в себе силы вырваться из его тисков и выскакиваю за дверь, забыв погасить свет. Влетаю в лифт, спускаюсь затаив дыхание с пятнадцатого этажа на первый. Прекрасно знаю, что если застрянешь ночью в этом скрипучем катафалке, то скорее умрешь, чем кого-либо дозовешься. Сажусь в машину, поспешно включаю мотор. Его тихий рокот несравненно приятнее журчания воспетых поэтами горных потоков и мгновенно успокаивает меня. Посмеиваясь над своей глупостью, медленно трогаюсь с места. И все-таки не могу унять озноба, словно меня вытащили из холодильника. Поеживаясь, открываю окно, чтобы выветрилось зловонное дыхание зверя, преследовавшее меня до самой машины Что со мной происходит, не пойму, наверное, после развода с женой сдали нервы.
Шины шуршат мягко и монотонно, как дождь. Круто, чтобы услышать укоряющий и вместе с тем ободрительный скрип тормозов, сворачиваю к аллее, которую мы называем улицей. Фары перечеркивают темные фасады домов, точно проводят по ним пальцем. Далекая люстра, выхваченная их светом, сверкнет на миг перед моими глазами и погаснет. Мелькнет и исчезнет белая тюлевая занавеска. Но я уже не один, со мной мотор. Напрасно поносят это терпеливое и непритязательное существо за то, что оно извергает смрад. Ну, извергает, конечно, так по крайней мере делает это пристойно, а не рыгает, как люди после кислого вина и чеснока.
В это время открыт, пожалуй, только ночной ресторан гостиницы «София». Я оставил машину, как всегда, на площади и без особой решительности вошел в роскошный лифт. Я совсем было успокоился, и мне уже почти расхотелось идти в ресторан. Я не любитель выпить, не люблю шумных сборищ, пьяных болтунов, вообще богемы. И все-таки это, можно сказать, моя постоянная среда, к ней влечет меня инерция повседневности. По натуре я человек замкнутый, даже хмурый, губы у меня всегда крепко сжаты. Знаю, что вызываю расположение, но не понимаю почему. Похоже, что люди молчаливые, лишь время от времени изрекающие едкий парадокс, вызывают большой интерес, чем записные остряки вроде тех, какими любила окружать себя моя жена. Я пересек зал, стараясь не смотреть по сторонам, и сел за столик в самой глубине. Однако, вместо того, чтобы окончательно успокоиться, почувствовал себя в каком-то странном вакууме.
Заказал белый итальянский вермут, сладковатую и противную бурду, которую и пить-то не стоит. Но чем прикажете надираться в такой поздний час? Только теперь огляделся по сторонам. В этот вечер в ресторане было довольно пусто и непривычно тихо. Тишина словно въелась в красные плюшевые занавески. В ее прозрачной паутине бесшумно, как пауки, скользили официанты, молчаливо и ловко обслуживая посетителей. Это, пожалуй, основное достоинство этого заведения, потому как холодная телятина, которую мне подали, была жестковата. Я выпил еще рюмку вермута, потом чистое, с одним только кусочком льда виски. По телу разлилось приятное тепло.
В таких случаях воображение сразу же оживает и расправляет, словно готовясь взлететь, тонкие, синие, как у стрекозы, крылышки. Но на сей раз оно только-только зашевелилось, как один из официантов подошел ко мне и вежливо сказал:
– Товарищ Манев, вас приглашают за длинный стол.
Никакого длинного стола я, проходя, не заметил.
– Кто приглашает?
– Большой Жан.
– Пьяный?
– Нет, нисколечки.
Я вздохнул с досадой. Большой Жан был мой портной. Обижать своего портного, особенно если хочешь быть хорошо одетым, нельзя.
– Скажите, что сейчас приду, – ответил я.
Доел, не торопясь, телятину и мрачно направился к столу, за который меня пригласили. Да, Жан действительно собрал с десяток своих почитателей и клиентов. Завидев меня, он стал в своем безукоризненно выглаженном костюме немыслимого сиреневого цвета. Этот человек, с таким вкусом одевавший других, совершенно не умел одеваться сам.
– Представлять моего гостя, думаю, нет необходимости, вы все его знаете.
Вряд ли, подумал я, садясь на почетное место рядом с ним. Я не эстрадный композитор, чтобы на меня с восторгом глазели девушки из модерновых кафе. К счастью, я увидел за столом несколько более или менее знакомых физиономий, режиссера со студии мультфильмов, барменшу из дневного бара. Как часто случается в последнее время, женщин было больше, чем мужчин, и они вовсю веселились, что-то кричали уже визгливыми от вина голосами. В конце концов, я сам виноват: даже острый кинжал одиночества не так страшен, как подвыпившая, шумная и скучная компания.
Но могло быть и хуже, если б они, скажем, были бы совсем пьяные или спорили о машинах и футбольных матчах. Эти по крайней мере толковали о фильмах, хотя и болгарских. Жизнь моя полна таких бесцельно проведенных вечеров и ненужных знакомств, которые иногда обременяют меня годами. Я уставился в рюмку, стараясь не отвечать на вопросы, не улыбаться, не проявлять излишнего интереса ни к кому и ни к чему. В общем, смертельно скучал. И этот вечер, наверно, бесследно исчез бы из моей памяти, не случись нечто необыкновенное. Но это случилось немного позже, а сейчас я сидел, изнывая от скуки, не ведая, что меня ждет. Только иногда украдкой поглядывал на часы, которые тикали все так же равномерно, нимало не интересуясь тем, каково мне сидеть в этой компании. И когда они подтвердили, что я отсидел положенное воспитанному человеку время, я встал, извинился и ушел. Я чувствовал, что Жан не вполне доволен мной, но что поделаешь? Пошлю ему приглашение на премьеру в оперный театр, ведь он так любит премьеры.
На улице заметно похолодало, ветер гнал низко над городом желтые рваные тучи. Храм был словно залит густым абрикосовым соком, купола его смутно поблескивали на фоне неба. На площади не было ни души, если не считать изваянных на памятнике, которые, казалось, шествовали навстречу своей извечной судьбе. Я был в одном костюме и потому поспешил сесть в машину. Но, едва проехав несколько метров, я почувствовал, что за спиной у меня кто-то шевелится. Я так испугался, что остановил машину. И резко обернулся назад, уверенный, что сейчас на меня обрушится страшный удар – вероятнее всего, железной трубой, завернутой в тряпку. Ничего подобного, конечно, не произошло – с заднего сиденья расширенными зрачками на меня уставилось женское лицо, продолговатое, бледное, испуганное. Я не верил своим глазам.
– Что вы здесь делаете? – крикнул я со злостью.
Впрочем, я не столько разозлился на нее, сколько устыдился своего страха. Хотя было от чего разозлиться – с какой стати она забралась без спросу в мою машину?
– Ничего, – испуганно ответила она. – Но вы сразу поехали…
– Зачем вы сюда залезли?
– А вы меня не узнаете? – спросила она удивленно.
– Да откуда мне вас знать? – ответил я почти грубо.
Конечно, не в таком тоне следует разговаривать с молоденькими девушками. А она и впрямь была молоденькой, лет двадцати, не больше, и, как мне показалось в тот момент, не очень опрятной, даже потасканной.
– Мы же с вами сидели за одним столом в ресторане… И вы на меня еще с интересом поглядели.
Что за ерунда – с интересом! Может, и посмотрел, но только уж наверняка думал о чем-то другом. Я вообще не люблю ошивающихся по ресторанам девиц, этих пиявок, которые за вечер могут высосать водки больше любого грузчика. Да и как их разглядишь, если они вечно окутаны клубами табачного дыма!
– Ну положим! Но это еще не причина, чтобы забираться в чужую машину.
Злость моя прошла, осталась легкая досада.
– Но я ждала вас, – пояснила она. – Вы же сказали, что уходите… А на улице очень холодно.
– А как вы догадались, какая из машин моя?
– Другого «пежо» не было… И дверца была не заперта.
– Ну ладно. Зачем же вы меня ждали? Если мне позволено, конечно, будет спросить?
Такая ирония вряд ли понятна подобного рода девицам, этим пиявочкам, хочу я сказать. Она только моргнула и простовато ответила:
– Я хотела попросить вас отвезти меня домой… Уже поздно, и трамваи не ходят.
Ну и ну! Не такой уж глупый предлог… На такую удочку обычно клюют те, кто помоложе или постарше меня.
– А где вы живете?
– Возле Центральной тюрьмы, – ответила она серьезно.
Хорошенькое местечко! Пожалуй, это не предлог! Туда ночью пешком не потащишься. Конец порядочный.
– Вот что, девушка, – сказал я уже другим тоном. – Вы сами видели, что я выпил не одну рюмку… Как я поеду через весь город в таком состоянии? Представьте, что меня остановит ГАИ!
– Но ведь вы все равно собирались ехать на машине?! – удивилась она.
– Собирался, но по боковым улицам, где темно.
– Раз так, делать нечего! – ответила она покорно и взялась за ручку дверцы.
Позднее, когда эта невзрачная и нескладная девчонка неведомо как сделается частью моей жизни, эта ее тихая покорность не раз будет надрывать мне сердце.
– Подождите! – сказал я. – Куда это вы?
– Но раз нельзя…
– Я вас подвезу хотя бы до стоянки такси.
– Спасибо, не нужно.
И вышла из машины. Увидев ее понурую, какую-то неловкую походку, я помимо воли выскочил за ней. Когда я нагнал девушку, она плакала, правда безмолвно, но слезы ручьем текли по ее лицу. Я совсем растерялся. Человек я довольно хладнокровный и не слишком мягкий, но на женские слезы спокойно смотреть не могу. Похоже, что девушка была не из тех, за кого я ее принимал.
– Если у вас нет денег на такси, – сказал я, – я вам с удовольствием одолжу. Не пойдете же вы ночью пешком!
– Нет, нет! – воскликнула она. – Не нужно!
Гордая к тому же! Если б она не плакала, я бы ее опять отчитал. Гордая, а забирается в чужие машины!
– Хорошо, пойдемте, я вас отвезу! – сказал я. – Пока вы не утонули в слезах.
И сердито зашагал к машине. Но не услышал шагов позади себя. Я обернулся: она стояла ко мне спиной и смотрела на небо так, словно собиралась взлететь. Мне даже почудилось, что ее вот-вот унесет ветром – такой легкой и бесплотной показалась мне она.
– Ну что же вы? – спросил я нетерпеливо.
Она послушно двинулась ко мне, но вдруг остановилась в нерешительности.
– Не могу я вернуться домой, – сказала она. – Я боюсь…
– Кого?
– Матери… Она меня так поздно не пустит. Да если и пустит, я к ней не пойду. Вы не представляете, что она за человек! – в голосе ее прозвучало неподдельное отвращение.
– Тогда зачем вы передо мной комедию ломаете?
Она опять смущенно моргнула и сказала просто и ясно:
– А я… я думала, вы меня пригласите…
Сейчас мне трудно припомнить, какие чувства тогда охватили меня. Я не был ни взволнован, ни возмущен, ни даже удивлен. Я не испытывал неприязни к ней. И уж конечно, нельзя сказать, что она мне понравилась. Я смотрел, как она стоит, – такая невесомая, легко одетая, – как ветер закручивает юбку вокруг узких бедер. В ее словах не чувствовалось ни стыдливости, ни робости, но и в то же время никакой испорченности, словно она говорила не со мной, а со своей теткой. И тогда во мне всколыхнулась то ли жалость, то ли какое-то другое, не очень понятное, но все же естественное чувство. Я вздохнул, пожал плечами и пробормотал:
– Тогда поедем! Не оставлять же вас на улице.
Лицо ее сразу же просияло, словно ветер стер с него слезы. Все это было довольно невинно и в то же время сложнее, чем я предполагал. В тот момент я не пытался вникать в эти сложности. Да и как понять современных девушек, когда они сами себя не понимают.
– Как вас зовут? – спросил я.
– Доротея…
– Ну хорошо, Доротея, похоже, вы кое-что уже знаете обо мне… Как меня зовут, марку моей машины. А как вы узнали, что моя жена не выгонит вас, если мы сейчас явимся ко мне домой?
– А вы разведенный, – ответила она. – И живете совсем один.
– А это откуда вам известно?
– За столом, пока вы не подошли, Жан рассказывал про вас… Хвалил, конечно. Сказал, между прочим, что вы вспыльчивый, но очень добрый человек.
Да, ясно. Как я сразу не догадался? Девушка была, пожалуй, не так проста, как представлялось на первый взгляд. Ведь сообразила же она, что ей надо было делать. И не затеяла ли она какую-то весьма тонкую и далеко идущую игру? Не исключено. Только одно я четко сознавал в тот момент: несмотря ни на что, в ней не было ни хитрости, ни расчетливости. Впрочем, это поколение настолько лишено щепетильности, что ему нет нужды лгать и притворяться.
Мы сели в машину, я снова позволил ей устроиться на заднем сиденье, у меня не было никакого желания сокращать разделявшее нас расстояние. Даже если она в чем-то инстинктивно хитрит, ничего у нее из этого не выйдет. Она забилась в угол, и я даже в зеркальце ее не видел. Молчала – может быть, дремала. Не удивительно, ведь было почти три часа ночи. А ей наверняка пришлось пережить немало неприятных минут, пока она не поймала такого дурака, как я. Но как бы то ни было, чувствовал я себя вполне прилично. Да и, кроме того, я люблю ездить ночью по пустынным улицам и бульварам, по которым ветер гонит пьяниц и бумажный сор. Люблю ощущать прикосновение нагретого мотором воздуха, вбирать его в себя глубокими вдохами, как воздух из кислородной подушки.
Спать ее положу, конечно, в холле. В худшем случае украдет одну из эбеновых фигурок, которые мой брат привез из Африки. Сейчас главное было незаметно добраться до лифта. Не то что я уж очень дорожу мнением соседей, но юная леди явно мне не подходила. А вдруг придется взбираться на пятнадцатый этаж после этого отвратительного вермута? Я жил на последнем, надо мной были только небо, облака и холеные, ленивые музы.
Лифт, слава богу, работал. Я открыл дверь и с облегчением ввел ее в квартиру.
– А у вас свет горит! – удивленно сказала она. – Может, ваша жена пришла?
– Не волнуйтесь, – ответил я шутливо. – В любом случае влетит мне, а не вам…
Только теперь я смог ее рассмотреть. Она шла впереди меня немного странной походкой – очень легкой и одновременно скованной, как голубь или чайка, осторожно ступающая по мокрому прибрежному песку. Одета она была в дешевую шелковую юбочку и черную блузку без рукавов, и то и другое порядком помятое. Чулок на ней не было, хотя весна в этом году довольно прохладная. Не было у нее ни карманов, ни сумочки, ни ключа, ни даже носового платка в руках – она и впрямь походила на птичку божию, что спит на ветках деревьев. Доротея опасливо оглядела комнату, потом повернулась, глянув на меня своими прозрачными глазами.
– Как у вас хорошо! – воскликнула она с восхищением.
– Не нахожу…
И правда, ничего особенного. Я не питаю слабости к вещам, а лучшие из них забрала моя жена, и, разумеется, по праву, потому что она их сама покупала. Остались несколько хороших картин на стенах, рояль и на полу венский палас нежного апельсинового цвета, сначала ужасно меня раздражавший. Палас тоже купила моя жена, и притом в валютном, хотя мы уже были в разводе. Она утверждала, что он необыкновенно подходит по цвету к стенам, с той типично женской логикой, которая обязывает женщин шить синий костюм, если у них случайно завелась синяя сумочка. А по-моему, больше всего он шел к густому черному цвету рояля, очень красивого и старинного, прекрасно выделявшегося на его нежном фоне. Доротея подошла прямо к роялю, подняла крышку и принялась внимательно рассматривать истершиеся и пожелтевшие клавиши.
– Это ваш рояль? – спросила она. – Я хочу сказать – это за ним вы сочиняете?
– Да, за ним…
– А он не слишком старый? – спросила она разочарованно.
– Ничего, работать можно.
Она снова подняла на меня прозрачные глаза. Ее застенчивость окончательно исчезла, теперь она держалась непринужденно, словно у себя дома.
– Сыграйте мне что-нибудь, – попросила она. – Хоть немножко… Обязательно что-нибудь ваше.
– Зачем это вам?
– Я хочу понять, что вы за человек… Правда, я в музыке не очень разбираюсь. Но это неважно.
Интересно, что она могла понять по короткому отрывку, эта пиявочка, какой бы симпатичной и странной она ни была? Но от женщин, как я уверился за свою довольно долгую жизнь, всего можно ожидать. Как от моей жены, например. Она ушла от меня совершенно неожиданно, без всякой причины. По крайней мере я так считал. Не было ни повода, ни оснований, не было даже банального скандала или слез, полагающихся в таких случаях, она просто-напросто взяла и ушла. Нет женщины, которая хоть раз в жизни не совершила бы чего-то безрассудного и непоправимого. Мы ломали голову, какой нам придумать предлог для развода. Возможно, теперь она и жалела о сделанном, но она была не из тех, кто останавливается на полпути. На суде она сидела зеленая, словно отравилась чем-то. Но только выйдя из зала, заплакала. Я притворился, что не заметил ее слез, – для собственного спокойствия, конечно. Особого сожаления я не испытывал, хотя и любил ее. Она была слишком сильной и властной натурой и все время навязывала мне свой стиль жизни. А я с трудом переносил тот художественный беспорядок, который окружал нас. Оставшись один, я сначала работал с большим подъемом, чем раньше, и некоторые критики утверждали, что у меня творческий взлет.
Доротея стояла передо мной и ждала.
– Поздно, – сказал я неуверенно. – Разбудим соседей.
– А вы тихонечко! – опять попросила она. – Никто не услышит.
Я задумался. Два дня тому назад я закончил одну вещицу, но еще не понял, звучит ли она. Нарочно отложил ее на некоторое время, чтобы потом взглянуть на нее свежим взглядом. Когда я работал над ней, какой-то внутренний голос ликовал во мне. А это уже немало. Я довольно трезво оцениваю свое творчество и полагаюсь больше на музыкальную культуру, чем на вдохновение. По-моему, рассчитывать на один талант – все равно что думать, будто ветер может сдвинуть с места грузовик.
– Тогда садитесь, – сказал я.
– А где мне сесть?
– Где хотите…
Она села на оказавшуюся поблизости табуретку. Не села, а опустилась на краешек, как озябший воробей. Впрочем, едва коснувшись клавиш, я тотчас забыл об ее присутствии. Мне плохо работается при дневном свете, и вообще я не люблю ясной, солнечной погоды. По-настоящему я могу воспринимать свою музыку лишь ночью или пасмурным дождливым днем, когда яркий блеск солнца и краски природы не режут глаза.
И сейчас, играя, я снова ощутил в душе тихие всплески ликования. Увлекся и проиграл все до конца. Пожалуй, я совсем становлюсь похожим на тех поэтов, которых не остановишь, когда они упоенно читают свои стихи. Только доиграв до конца, я спохватился, что не один. Поднял голову, взглянул на нее. Выражение ее лица могло мне только польстить.
– Понравилось? – спросил я шутя.
– Очень! – воскликнула она.
– А знаете, как это называется?
– Знаю! – просто ответила она. – «Кастильские ночи».
Если бы она меня укусила, я был бы меньше поражен. Дело в том, что пьеса действительно называлась «Кастильские ночи». Но, кроме меня, об этом не знала ни одна живая душа. Заглавие не было написано. Я смотрел на нее так, словно передо мной был не человек, а привидение.
– А откуда вы это знаете? – наконец выговорил я.
– Знаю, и все… – И, не обращая внимания на мой ошарашенный вид, она добавила: – Я не такая, как все… Я сумасшедшая…
Я не очень молод, но и не стар. Прошлой осенью достиг роковых сорока лет, считающихся в наше время тем рубежом, за которым начинается зрелость. Выгляжу я, пожалуй, немного старше. Главным образом из-за обильной седины в густых волосах и двух глубоких морщин, перерезающих чуть впалые щеки. И, в сущности, я не такой уж нелюдим, разговариваю вежливо, держусь приветливо, даже не лишен чувства юмора, которое удачно контрастирует с моим серьезным лицом. Меня называют одним из лучших создателей музыки для кино. Не бог весть какая похвала, но зато никаких материальных затруднений. Написал я и несколько более серьезных вещей, две-три из них широко известны.
От природы я человек здравомыслящий, помимо музыки интересуюсь космогонией и астрофизикой, даже математикой, которую считаю основой всех наук. И полагаю, что сущность природы, в том числе и искусства, составляет гармония. В этом я уверился, изучая простейшие законы природы. И если в чем-то я не могу отыскать гармонии, значит, это нечто ненормальное, или несовершенное, или непостижимое для меня.
Говорю все это, чтобы стало понятно, в каком затруднительном положении я вдруг очутился. Но все же я не мальчик, я быстро овладел собой и спокойно прошелся по комнате.
– А кто вам сказал, что вы не как все?
Любезнее сформулировать вопрос я не сумел.
– Установлено, – ответила она неохотно.
Установлено, оказывается. Может, я человек и грубоватый, но неделикатным меня не назовешь. Расспрашивать дальше я не решился. Она, похоже, это поняла, потому что добавила без особого желания:
– Мне даже жить негде, я живу в сумасшедшем доме… Поэтому мне и некуда было ехать.
– А не сбежали ли вы оттуда?
– Нет-нет! – возразила она почти обиженно. – Я только ночую там, а днем я хожу на работу. Я амбулаторная, как врачи говорят.
Вот уж не знал, что на свете бывают амбулаторные сумасшедшие. Наверно, она была немножко тронутая, а таких можно встретить где угодно, даже у нас в Союзе композиторов. Во всяком случае, я пока не заметил в ней ничего слишком уж странного. Даже наоборот. Странности, скорее, можно было заметить в моем поведении.








