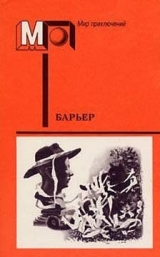
Текст книги "Барьер (сборник)"
Автор книги: Милорад Павич
Соавторы: Павел Вежинов,Кшиштоф Борунь,Вацлав Кайдош,Криста Вольф,Эндре Гейереш,Камил Бачу
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Прошу тебя, наберись терпения. Ведь я могу только рассказать, как было дело в моем сне, и не стану утруждать тебя попытками толкования.
Из Тюрингии? Да ведь и Девушка, о которой мне рассказали столько интересного, тоже была из Тюрингии! Это вполне возможно, с готовностью согласилась юная учительница, теперь оттуда многие приезжают. Ее суждение показалось мне загадочным, я решила попозже задуматься над его смыслом, после того как наконец скажу ей, сколько времени. Между тем учительница запретила своим мальчикам прыгать с гранитной ограды здания, в котором, насколько мне известно, помещается одно из отделений Академии наук. Значит, в Берлине вы не учились, спросила я ее еще раз, чтобы окончательно удостовериться. Да нет же! – сказала она чуть ли не возмущенно. И все же, какое сильное впечатление, когда видишь все этот в натуре – и новую телебашню, и Маркс-Энгельсплац, и Бранденбургские ворота. Совсем не то, что на экране. Ее девочки начали играть в классы на плитах тротуара, начертили мелом клетки и «рай». Ну вы только посмотрите! – сказала учительница, словно эта неуместная детская забава была убедительнейшим доказательством многообразия ее забот, – Правда, я занимаюсь с ними всего год.
Это пояснение, казалось, утешило ее, и, вполне довольная, она двинулась с ними дальше. Точных сведений о времени она у меня не требовала, а я не стала их ей навязывать. Почему и должна быть мелочней, чем какая-то девчонка из провинции?
Мне было немножко не по себе, когда я опять пустилась в путь. Я всегда подозревала, что эта улица ведет в пучину. Надо было только шагнуть направо и через кованые ворота войти во внутренний дворик Государственной библиотеки, – который я, впрочем, не сразу узнала. Но никто и не требовал от меня, чтобы я все помнила. Мое дело было идти дальше, дойти до фонтана, облицованного по краю голубовато-зеленым кафелем, перелезть через этот край и погрузиться в воду. Не так уж это страшно, как воображают, все очень просто, надо только долго и по-настоящему этого хотеть. Я улеглась на дно бассейна, в точности так, как часто рисовала себе в воображении: вот я лежу перед судейским столом, простираюсь на голом полу перед следственной комиссией, на каменных плитах перед экзаменаторами, лежу спокойно и в конце концов, отказываюсь отвечать (тебе, девочка, когда пришел твой черед, это уже не понадобилось). Теперь я поняла, что до сих пор мне не хватало тяжести, удельного веса. Кто слишком легок – не тонет, это же ясно, это закон физики, его проходят в школе. Я была довольна, что наконец-то опустилась на дно.
Люди, наклонившиеся над краем фонтана, чтобы меня рассмотреть, были мне безразличны. Нас разделяла поверхность воды. Любопытство, подозрительность и злорадство не могли причинить мне вреда, и боль прошла тоже. Во всяком случае, и еще помнила, как он выглядит; лицо его было среди тех, что нависли сейчас над краем бассейна, и он молча приказывал мне подняться, добровольно покинуть мою стихию, чтобы последовать за ним, развеять прахом все пережитое, чтобы снова сблизиться с людьми и нарушить табу.
Ах, дорогой мой, тебе всегда хочется знать правду. Но правда – это не занятная история и она вообще неправдоподобна. Вот правда – я добровольно вылезла из бассейна, сразу же, словно под сильным облучением, высохла, отрезвела и направилась к тяжелой резной двери Государственной библиотеки, которую отворила легко и без колебаний, вполне сознавая, что делаю.
Сюда ты больше входить не должна, гласила до этого дня невидимая надпись над дверью. Нет, нельзя мне так рисковать. Но более могучие чары сняли запрет. Я рисковала, как всякий другой, разве нет?
Ради тебя, ради того, чтобы ты мне поверил, я принимаюсь теперь стирать грани между вероятным и невероятным.
Устав этого места открылся мне сразу, как только я вошла. Впрочем, соблюдать его, по-видимому, нетрудно, требуют здесь немногого. Не оборачивайся, сказала мне бледная рыхлая вахтерша, которой каждый входящий должен представиться, в то время как сама она никого знать не обязана. Я поспешно кивнула и предъявила ей свой читательский билет, который всегда ношу с собой и против которого ей возразить было нечего. Когда я миновала деревянный турникет, у меня появились сомнения. Действительно ли я должна идти? Как-то не верилось, слишком глубоко сидел во мне страх перед этим местом. Мне надо было убедиться, надо было пойти и спросить вахтершу. Но что-то сковало мне спину и шею, не давая повернуться. Этого еще не хватало, в ярости подумала я, но начала послушно подниматься по каменным ступенькам. На этот раз я решила смириться. Бывает, что законы, определяющие наше поведение в том или ином месте, за ночь меняются, но это еще ничего не значит. Коленки у меня слегка дрожали. Чего только не случается с человеком.
Я уверена, что в тех краях экзамены сдавать легко, но вот наказания за малейшую оплошность очень суровы. Все или ничего – таков девиз, а как ему следовать, от тебя скрывают. И все же некоторые знают секрет. Например, Девушка. Разве я еще не сказала, что она неотступно шла со мной рядом? Мне и не пришлось оборачиваться.
Мне о вас рассказывали, собиралась я ей сказать, сдержанно, как и подобает: ведь надо же было как-то начать, но я не знала как. Здесь, хотела я сказать, на этом месте перил лежала моя рука, когда мне, с назидательной целью, сообщили, что произошло с вами. Но это ее не касалось, равно как и тот факт, что с того давно прошедшего декабрьского утра я не смела и ногой ступить в этот дом, не говоря уже о лестнице, – именно за это время мое знакомство с Девушкой стало более интимным. Неведомые мне силы, казалось, были заинтересованы в том, чтобы установить равновесие между «брать» и «давать».
Полчаса тому назад я объявила эту Девушку, о которой знала только самое существенное, студенткой исторического факультета. Поэтому было вполне логично без рассуждений пойти с ней в зал гуманитарных наук. Я дала ей понять, что в курсе дела: именно сюда? – не правда ли? – кто-то когда-то приходил, чтобы сесть на совершенно определенное место, с которого была видна совершенно определенная спина. И чтобы затем, как только некое лицо уйдет, подойти к полке, снять с нее тяжелый фолиант, который он только что поставил, и отнести к себе.
Откуда я это знаю? Об этом лучше не говорить. Любовь? Ах, боже мой, так, значит, вы просто глупая девчонка, верящая в чудеса? И надо же вам было втюриться именно в него, нашего доцента, женатого человека (чью жену, возможно, зовут Марианной, мелькнула у меня мысль). Неужели вы забрали себе в голову, что если наделать подряд много-много глупостей, то из этого в конце концов выйдет что-нибудь путное! Милая моя детка, рассказывайте это кому-либо другому, но только не мне. (Видишь, я даже стала разговаривать с ней покровительственным тоном, и временами казалось, что я вызвали ее лишь для того, чтобы взглянуть на нее свысока.) Почему «только не вам»? (Это она спросила.)
Потому что мне наконец-то стало совершенно ясно (не будем опять-таки говорить откуда), что все эти нелепые поступки совершаются не без тайного сознания цели. Не без тайного согласия с конечным результатом. Это вовсе не значит, что человек ясно понимает, чего он ищет.
Пойдемте. Здесь, в холле, где сегодня выставлены детские книжки и огромные фото авторов, когда-то размещалась выставка художников-медиков «Скальпелем и кистью» или то в этом роде. Посетить выставку могли, разумеется, все, не только врачи. Могла пойти и я, и мой старый знакомый Макс, но он пришел не один. Нет, Девушка, пожалуйста, не делайте такое удивленное лицо, а извольте уважать истинную случайность. Случайно он пришел не один, с ним и с тем человеком я встретилась чисто случайно; это была последняя случайность, связанная со спутником Макса, и потому она заслуживала того, чтобы за нее зацепиться.
Вы ведь давно уже хотели познакомиться.
В этом был весь Макс, слон в посудной лавке, всегда готовый помочь людям сблизиться: стоит, например, увидеть кого-то мельком на одной из этих многочисленных научно-популярных лекций, стоит мимоходом обронить чье-то имя, и он уже, оказывается, знает этого человека и чувствует себя обязанным при первой же оказии притащить его с собой.
Хотели познакомиться? Вот как? И даже давно? С чего ты взял?
Будь повежливей. Это господин…
Не пугайтесь. Неужели я похожа на такую, что будет называть имена? Я и вашего-то не знаю, а то имя нам и вовсе ни к чему. Да я сама вот-вот его забуду.
Вчетвером мы спускаемся вниз по лестнице: Макс, Безымянный, вы и я. Вы возражаете? Уверяете, что вас там не было? Что в то время вы еще не бывали в этом городе? Что именно тогда вы в своем родном городке, в вашей девичьей комнатке надевали платье для выпускного бала? У вас и в мыслях не было ничего плохого? Наивное дитя! О, как вы заблуждаетесь! Шаг за шагом шли вы рядом с нами, не миновали ни одной ступеньки, и вы, должно быть, уже тогда хорошо знали песенку – каждое ее слово, каждую ноту, – песенку, которая давно звучит у меня в ушах, – сейчас вы впервые услышите ее от меня:
Искал тебя я у окна,
Напрасно сад благоухал.
Где скрылась ты, где скрылась ты?
Что пользы любоваться маем,
Что знаешь ты про боль любви?
Вопросы такого рода, похоже, действуют отрезвляюще. Так или иначе, вахтерша проверила мой читательский билет, словно сама она и не думала шепотом подсказывать мне пароль; фонтан во внутреннем дворике не работал, голубовато-зеленый бассейн был сух и пуст. Я вышла на улицу, надела солнечные очки и, бросив взгляд на свои точные московские часики, выяснила, что скоро уже три часа. Только полчаса назад я встретила моего друга Петера и впервые за много лет услышала его смех. Он снова обрел все то, что нам раньше так нравилось в нем: смех, обаяние, уверенность. Он вернул себе все это в тот миг, когда ему удалось отделаться от нас – от нас, преследователей, вершителей правосудия. От нас, хотевших взять у него в залог то, чем он не владел.
Иногда ты упрекал меня в слабости к нему. Поэтому, когда однажды я встретила его на Унтер-ден-Линден, я сообщила тебе единственно, что я его встретила. На углу Шарлоттен-штрассе, где тогда еще находилось старое кафе «Под липами» и куда мы с ним позже зашли. Мы оба возвращались каждый со своего заседания и были очень усталые. Никого бы я так не хотела встретить в эту минуту, как его. Петер, дружище, до чего же это здорово опять немного потрепаться, как в былое время. Липа, к стволу которой я прислонилась, была тоньше и по крайней мере на два вершка ниже, чем теперь; мой друг Петер держал посреди пустынной улицы речь, обращенную к слегка вогнутому месяцу, что часто делал, будучи студентом. Он хотел рассмешить меня, и он меня рассмешил. В самом деле, при всех его блестящих качествах, ему не хватает только одного, которое могло бы спаять все остальные, – твердости. Я заговорила об этом, вероятно, потому, что он начал рассказывать о новой теме своей диссертации. Невольно я переняла его тон. Тон, который отныне становился наиболее уместным между нами. Я заметила вскользь: здорово тебе подрезали крылья.
Перестань, ответил он. И тут я увидела, что он не трус, а просто хладнокровный, и поняла, насколько труднее говорить с человеком равнодушным, чем с тем, кто сознает свою вину. Кажешься себе смешной, когда приводишь такому, как Петер, все доводы, которые сам он еще неделю назад выставлял в пользу своей прежней, актуальной, но несколько щекотливой темы: он их прекрасно знает и вовсе не собирается опровергать. (Разве речь шла не о спорном этапе новейшей истории? О поле, которое тем временем было возделано другими?) Мы сидели за пивом, и Петер разыграл передо мною в лицах заседание, созванное специально для того, чтобы польстить его самолюбию. Чтобы убедить убежденного. Новая тема, которую предложил ему ученый совет института, была против старой, все равно что комнатная собачка против ежа, это знал каждый, но никто не смел и виду показать, что знает. Петер изображал мне, как каждый из его коллег – некоторых я даже знала, – находил все новые, все более убедительные доказательства в пользу необходимости этой работы, которая уж, во всяком случае, никому не могла повредить. Мой друг Петер заранее знал, что они решили, впрочем без предварительного сговора, поиграть в демократию, знал он также, какая роль отведена каждому в этом спектакле. Самому ему, разумеется, надлежало для начала прикинуться разочарованным, огорченным, потом начать понемногу сдавать позиции, оказать весьма умеренное сопротивление и в точно рассчитанный момент его прекратить, для виду еще колеблясь, но как уступая более убедительным доводам. Он продемонстрировал мне и рукопожатие, которого удостоил его директор института, испытывавший явное облегчение. Он заглядывал мне в глаза с такой же симпатией, какою теплился взгляд его нового научного руководителя.
Тут я, сбитая с толку таким избытком симпатии, опустила глаза и с прежним прямодушием уже никогда больше не поднимала их на моего друга Петера. Я его ни в чем не упрекала. Кто я такая, чтобы кого-то в чем-то упрекать? И все-таки он воскликнул: «Ну почему именно я?»
Этот вопрос неотступно преследует меня и по сей день. Я не могла таить его в себе и поделилась им в неподходящий момент с неподходящим человеком. Это было здесь поблизости, в «Линденкорсо», в новом кафе «Эспрессо» – тогда оно действительно было новым. Кажется, дело было осенью, я была в замшевом пальто и прошла, не глядя, мимо столика у окна, чтобы тот, Неназванный, кто должен был в это время сидеть здесь, как сиживал каждый четверг, заметил бы меня первый, чтобы он встал, пошел бы за мною следом, поздоровался и пригласил к себе за столик. Конечно, процент риска при таких затеях велик, но на этот раз она мне удалась. Удался мне и удивленный вид. Ты не поверишь, но мне не пришлось его изображать. Я в самом деле была удивлена. Ах, это вы? Правда, каждый четверг? Между двумя вашими основными лекциями?
Хвала случаю.
Первый и едва ли не единственный раз оказались мы вместе, за одним столом, как оказываются другие люди, которые в обед наспех съедают несколько ломтиков салями с хлебом и запивают бутылочкой колы или, как предпочитал он, кофейничком мокко. Только другие люди либо просто сговариваются, либо встречаются случайно, а вот меня после такого удачного начала случай оставил с носом. Мне пришлось быть расчетливой, хитрой, заниматься нервирующими расспросами, унизительными телефонными звонками, которые привели меня в определенный час в определенное место – сюда, в это кафе.
Искусство быть непринужденной. Умение сесть за стол, стерев с лица все следы расчетливости и хитрости, прежде чем встретятся наши взгляды. Начисто забыть о стыде и, важно взглянув на часы, сказать: «Который это час? Ну, так и быть, немножечко посижу». (А потом добрых полчаса не задумываться о времени, которое наступит после этой встречи и может оказаться таким бесконечно долгим и непроглядно черным, как ему заблагорассудится.) Искусство возобновить разговор на том самом месте, на котором, как тебе кажется, он был прерван много лет тому назад, и нисколько не смутиться, когда выяснится, что такого разговора вовсе не было: в лучшем случае ты вела его мысленно. Искусство избегать обращения к собеседнику, усыпить его бдительность, принимая как должное его дружеское «ты» – это, конечно, ввел между нами Макс, – а потом с самым безобидным видом, в самой безобидной фразе стрельнуть в него коварным «вы»: «Вы опять проводили свой отпуск на Черном море? И ваша жена хорошо переносит августовскую жару?»
Искусство и бровью не повести, не показать виду, что это произвело на тебя впечатление, твердо стоять на уже занятых позициях, тогда услышишь вопрос: «Можно предложить тебе чашечку кофе?» – «Если это вам доставит удовольствие…» – «Ты куришь?» – «Если вы настаиваете…»
Это высшая наука, законами которой владеешь, никогда нм не учившись. И как бы невзначай, предательски небрежным гоном, который уже установился между нами: «Почему именно я?»
Осечка. Его не застигнешь врасплох, это бы мне следовало лгать. Импульсивных высказываний у него не выманишь, он мне отвечал умно и с полным самообладанием, это был приговор, который мне надлежало принять.
От тебя тоже требуют только того, что ты в состоянии совершить.
Как вы всегда правы. Оставим это.
В тот вечер, когда я в последний раз взглянула в глаза моему другу Петеру, он уже, конечно, полностью отдавал себе отчет в том, что поставлено на карту, равно как и я. Его вопрос был последней апелляцией к моему благородству, а я упустила возможность объяснить ему, что не все в жизни водится к правилам спортивного состязания. Я смотрела на него с сочувствием и грустью. Укрощенный великан. Мы никогда больше не вспоминали об этом осеннем вечере, у каждого была на то своя причина. У него: он решил не оглядываться назад. У меня: я не могла себе простить, что не оставила неостановимый процесс потери друга. Какое-то время мы еще продолжали игру втроем, Марианна тоже: в те месяцы она страшно исхудала. Но конец этому положила не она, а он, мой бывший друг Петер. В один прекрасный день он взял и ушел к той самой загорелой блондинке.
Как раз в тот момент, когда он, мой друг Петер, начал мне надоедать, мимо меня проплыл, как всегда незваный, тот, кого мы назовем здесь Золотой рыбкой и о ком в свои лучшие дни так несравненно умел рассказывать Петер. Здравствуй, Рыбка. К счастью, он меня узнал. Ты, однако, не слишком торопился. Пошли. Для нашего бывшего друга Петера мы оба уже ничего сделать не можем. Со временем мы, вероятно, встретимся с ним как чужие. А не следует ли мне в таком случае завтра позвонить ему и поздравить с защитой диссертации? Кто я такая, чтобы отказывать человеку в нескольких банальных фразах, которых ему, может, как раз и недостает для полного счастья… А если он в них не нуждается – тем лучше. У него хватит такта не приглашать меня к себе, к своей молодой красавице жене, у меня – избегать выражений, которыми принято характеризовать такое поведение. Так что мы вполне можем сосуществовать, не делая того, что нам обоим неприятно. (Согласно правилам уличного движения: осторожность и взаимная вежливость.)
Ты недоволен, Рыбка. Надо же: Золотая рыбка может быть строгой. Я немного подожду, Рыбка. Среди занятий, которые пока что заполняют мои дни, у меня, конечно, будет нарастать потребность в искренности – до тех пор, пока я в один прекрасный день не брошу трубку, так и не произнеся этих банальных фраз. Ты сомневаешься, Рыбка? Нет, такой день непременно наступит. Только тогда я и узнаю, какое из жизненных благ, что распределяются на этой улице, предназначено мне, и готова ли я его принять. Ибо да будет тебе, Рыбка, известно (если ты не знал этого раньше): на этой улице происходит великий справедливый обмен, пока каждый не получит того, что ему причитается. Юная учительница из Тюрингии до поры до времени – свою забытую богом деревню, свой баловной класс и тоску по дому в воскресные дни; Девушка (ты ведь ее знаешь, Рыбка?) – долгие дни на электроламповом заводе и долгие одинокие вечера; счастливчик Петер – свою красивую жену и еще совсем-совсем не скоро тот тяжелый холодный камень, с которым ему однажды придется уйти, а я – ах, всякую всячину, которая не заслуживает пренебрежения, что слышится тебе в моем тоне.
Пошли, моя волшебная Рыбка. Подойдем к новым сверкающим витринам, возле которых толпятся люди, мысленно считая свои деньги. Увидев тебя, Рыбка, они в испуге разбегаются, возмущенные и обиженные, ворча, что не рассчитывали на такую встречу. Пусть их, я сама тебе все покажу.
Он следует за мной молча, как подобает Рыбке. Я показываю ему изделия болгарских народных промыслов; ему нравятся ковры, особенно белые, из овечьей шерсти. Он сокрушенно качает головой: какие дорогие! Потом мы стоим с ним перед магазином кожгалантереи, откуда так приятно пахнет, но понимаем, что вместе нас туда не пустят. Я показываю ему в витрине портмоне, которое мне хотелось бы иметь, – золотой орнамент по красному сафьяну. Да, он тоже находит эту вещь красивой. Чтобы он меня правильно понял, я достаю свое старое портмоне, обшарпанное до безобразия и с удовлетворением сую его обратно. Драгоценности ведь тебя не интересуют? – строго спрашиваю я. Нет, не интересуют. Тогда перейдем на ту сторону, к книжному магазину.
Улица снова ожила, – так скоро привыкают люди к Рыбке. Какая-то красивая дура в канареечно-желтой пелерине хочет переманить моего спутника к себе: Рыбка, видите ли, подходит по цвету к ее пелерине. Он не удостаивает ее взглядом. Он кажется мне зрелым пожилым человеком. Глядя на книги, он выражает сожаление, что не знает русского языка. Я переводу ему несколько названий, и он внимательно слушает. Если тебе скучно, Рыбка, говорю я, ступай. Можешь идти, ради меня не задерживайся.
Рыбы почему-то все понимают буквально. Он чуть заметно кланяется и уходит. А ведь далеко не все еще было сказано.
Неназванный – быть может, он по-прежнему каждый четверг в два часа дня сидит в «Эспрессо», но я ни за что на свете на хотела бы сейчас на него наткнуться, – никогда не узнает явлении, временно названном здесь «Рыбкой». Почему? Да потому, что я не перенесу, если мою Золотую рыбку несколькими ловкими взмахами ножа рассекут на части (мой Неизвестный ведь врач, хирург). Потому что я не желаю видеть, как он извлечет хребет, поднесет его к свету, чтобы разглядеть повнимательней, а потом презрительно бросит через плечо дребедень.
Такие он употребляет слова.
Вернись, друг мой Рыбка, чудо-рыбка, вернись! Он не идет, никогда не идет на зов. В обществе канареечно-желтой пелерины он удаляется по Фридрихштрассе в сторону Ораниенбургских ворот и по дороге принимает восторженные приветствия молодежи, которая штурмует магазины, чтобы купить платки его цвета – золотого. Ах, Рыбка, с этой желтой канарейкой ты окажешься на мели! На какой мели? Именно это мы с тобой и должны были выяснить вместе, но ты предпочел оставить меня в одиночестве.
В одиночестве между отражением отеля «Унтер-ден-Линден» в витрине книжного магазина и раздавшимся позади меня голосом, который по-английски с саксонским акцентом сообщал другому, неподдельно английскому голосу, что по числу услуг наш новый отель «Унтер-ден-Линден» вскоре догонит и перегонит американскую фирму Хилтон. Вместе с Рыбкой я могла бы сейчас вообразить себе все тридцать видов возможных и невозможных услуг, от чистки обуви до проката зонтиков, а также гостей отеля, вынужденных ежедневно прибегать к этим услугам.
Улучив минуту, пока никто не смотрит, в сверкающих стеклах витрины вместо отеля показался вдруг причудливый пейзаж: груды развалин, поросшие травой. По тропинке через пустырь, по которому гуляет ветер, движутся три фигуры, показавшиеся мне знакомыми. Я оборачиваюсь, но недостаточно быстро: пейзаж исчез. Мы трое, резко выделяясь своим старомодным поношенным тряпьем среди хорошо одетой публики, пробираемся по заставленной машинами площадке перед новым отелем. В карманах наших спортивных курток лежат белые листки – «Удостоверение агитатора», и нам хочется высказаться по поводу сомнительного слова «легально», которое нам только что вбивали в голову в доме профсоюзов. Необычайно легально, говорит наш друг Петер, подхватывает под руку Марианну и единым духом взлетает с ней вверх по лестнице на станцию городской железной дороги Фридрихштрассе, а через четверть часа таким же аллюром сбегает вниз на станции Бельвю. Для вас, Девушка, это не имеет значения, вам в то время как раз исполнилось восемь и только через одиннадцать лет предстояло встретиться с Петером. Я рассказываю это лишь для того, чтобы вы знали, с кем вам потом пришлось иметь дело.
Зло сверкающие глаза противника. Полицейский в вестибюле словно прирос к месту, мы медленно спускаемся по лестнице все ближе к нему, и мой друг Петер, подойдя почти вплотную, небрежно роняет: «Ну что, начальник?» Наши агитаторские удостоверения его не интересовали, он держал в руках одну из брошюр, которые мы только что рассовали в почтовые ящики этого шикарного, благоустроенного дома для чиновников, и постукивал толстым пальцем по странице, где, по его мнению, должен был бы стоять разрешительный штамп. Он сказал: нелегальная литература, пройдемте.
В таких случаях стараешься сохранить хладнокровие, Девушка. Согласно инструкции, рвешь свое агитаторское удостоверение, не задаваясь вопросом зачем. Протестуя, человек следует за полицейским, но если этот человек мой друг Петер, то он еще останавливается перед босым мальчуганом, который сидит на корточках в водосточном желобе и орет: перевешать поганых коммунистов! Всех? – мимоходом спрашивает Петер и берет за подбородок мальчишку, у которого глаза округляются от страха. – Подумай сперва. Нелегко будет управиться.
С каких это пор, мадам, в Европе разрешается идти на красный свет? Мадам – это я, а полицейский регулировщик читает мне персональное нравоучение, которое завершается выводом, что есть движение на перекрестке или нет, это никакой роли не играет. Красный свет – это красный свет, вот в чем суть. Тем временем снова загорелся красный.
Во всяком случае, через неделю, когда нас выпустили и мы стояли у ворот Моабитской тюрьмы, Петер – вам не слишком неприятно, Девушка, что я снова говорю о нем? – категорически запретил нам совать в пасть западноберлинским жуликам и спекулянтам для обмена по их мошенническому курсу хотя бы одну марку наших честных денег (речь шла об обратных билетах на электричку). Он предпочел фуксом проскочить с нами через контроль, воспользовавшись своим истрепанным студенческим проездным билетом, при этом мы вынуждены были обокрасть государство, которому поступает доход от городской электрички, на шестьдесят пфеннигов – стоимость нашего проезда. Петер мыслил диалектически и применил к этому исключительному случаю теорию наименьшего зла. Потом он отправился на избирательный пункт – это здесь недалеко, Девушка, рядом с Домом профсоюзов, – чтобы выложить напрямик сидевшим там людям: неужели нельзя было нас предупредить, что мы везем с собой нелегальный материал? Ну вот вы и опять дома, сказали они, под нашим руководством вы пробились, отсидкой в тюрьме свое задание перевыполнили, а уж выбор агитационного материала вы можете со спокойной совестью предоставить товарищам, которые лучше ориентируются.
Тактика, сказал Петер, выйдя к нам на улицу. Тут с ходу не взберешься.
Я вам для того это рассказываю, Девушка, чтобы вы поняли, что к чему. Чтобы не считали меня сумасшедшей оттого, что крупнопанельные стены этого нового отеля вдруг зашатаюсь передо мной и стали такими прозрачными, будто их нет не все. Я знаю, фройляйн: когда вы впервые появились на этом перекрестке, девятнадцатилетняя, неискушенная и ничего не ведающая, вся улица была разворочена, изрыта глубокими котлованами и сотрясалась от ударов свайного молота. Не один месяц, направляясь в Университет, вы были вынуждены проходить здесь по шатким дощатым мосткам.
Так было и в то памятное утро, перед лекцией нового доцента, от которой вы, как вы правдиво утверждаете, ничего плохого не ожидали. Но положа руку на сердце, честно, так ли это? Бывает ли, что гром поражает нас среди ясного неба? Верно ли, что, опоздав на лекцию, так уж непринужденно останавливаешься в дверях (это не более как пример) и потом на цыпочках пробираешься к местечку в углу, которое заняла для тебя подруга? Случайно ли равнодушный взгляд молодого доцента, только что начавшего свою первую лекцию для младшего курса, запоминается надолго?
У меня словно спала с глаз пелена: разве она училась не на историческом? Этот доцент – а не мог ли им быть, вернее, не был ли им мой старый друг Петер? Значит, он!
Впрочем, почему бы и не он?
О силе взглядов можете мне не рассказывать. О том, что они, словно коварнейший яд, начинают оказывать свое действие только потом, скажем спустя долгое время после лекции. Сидишь на семинаре и читаешь что-то там об отношениях между великими державами, приведших к первой мировой войне, – и вдруг тебя ударяет в сердце: можешь захлопнуть свои книжки и отправляться домой. Хотя этот взгляд виделся вам еще тогда, когда вы в своей девичьей комнатке примеряли платье для выпускного бала. Разве не ради него вы после бала дали отставку другу, который и по сей день еще не расстался со своими надеждами? Оттого, что вам так невероятно долго пришлось дожидаться этого взгляда, вы и начали бегать босиком по сбрызнутой водой дорожке в комнате у Ораниенбургских ворот, которую снимали у почтальонши Козинке, – бегать взад-вперед, взад-вперед, – к чему никак не мог привыкнуть пятнадцатилетний сын почтальонши Отто, ко многому на свете относившийся терпимо.
Смотри, Отто, со стен мухи падают! – Ну конечно, фройляйн, дело-то к холоду идет, куда ж им деваться? – Твоя сестра Урсель, Отто, на этом снимке, что висит на стене, такая довольная, верно? – Она-то? Да ей ничего на свете не надо, только бы на ней красовалась пилотка стюардессы! – У нас в школе, Отто, мы однажды писали сочинение на тему: «Что такое счастье?» – Теперь уж, фройляйн, такие сочинения задают редко, не хотят больше отвлеченных тем. И что же вы написали? – Не помню, Отто. Начисто забыла.
После третьей или четвертой лекции моего друга Петера, после того как Девушка, где бы она ни находилась, снова и снова придирчиво проверяла – такова уж нынешняя молодежь, – не ослабло ли действие известных взглядов (нет, оно не ослабло), в тот самый день, когда в новом гастрономе, торгующем деликатесами, здесь, под аркадами, на углу Фридрихштрассе, впервые появились пражские колбаски и трудно было сдержать натиск желающих, Девушка стояла на том самом месте, где сейчас стою я, мешая оголтело толкавшимся покупателям, и без свидетелей приняла ответственное решение: с этой секунды забыть, какие чувства можно себе позволить, какие нет, что можно делать, а чего нельзя, где можно дать себе волю, а где надо себя приневолить.
Все это истинные факты, Девушка, мы-то с вами знаем, но нам никто не поверит. Господин Неназванный, державший и руках все улики по вашему делу и предъявлявший их мне одну за другой, спросил, есть ли у меня контрдоказательства. Иначе бредешь ощупью, впотьмах, сказал он, и я испугалась: до чего же он слеп и так. В тот день, которого я с нетерпением жду, ибо тогда никто уже не будет стоять между мною и теми, кто хочет мне поверить, даже я сама, – в тот далекий день меня станут рвать из рук глупейшие измышления, принимая их за чистую правду, и тем принудят меня всегда говорить правду, одну только глупую голую правду. Сегодня же я ощущаю шершавый каменный столб, к которому прислонилась, словно он может служить доказательством, что и вы когда-то здесь стояли. Вот до чего может дойти человек. Но кому это я говорю?








