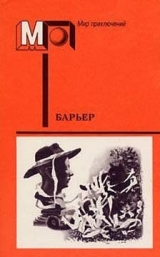
Текст книги "Барьер (сборник)"
Автор книги: Милорад Павич
Соавторы: Павел Вежинов,Кшиштоф Борунь,Вацлав Кайдош,Криста Вольф,Эндре Гейереш,Камил Бачу
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Мимо меня шли люди, никого из них я не знала. Один со мной поздоровался. И его мне знать было незачем: цензор моих снов, не такой строгий, как ты, разрешил мне это. Вдруг я вспомнила: да это же мой сослуживец, мы целый год сидели с ним в конторе за соседними столами. Теперь и он подумает, что я заважничала. Но эта жалоба была отклонена как уловка. Меня просили оставаться трезвой. Сонно-трезвой. И постараться вспомнить.
Вспомнить? Что?
Язвительно: может, тебе помочь?
Ты не поверишь: это смахивало на допрос. Ну что им проку, если я вспомню какие-то подробности? Ведь я призналась в том, что однажды мне уже пришлось защищать решение Девушки. Вопросы продолжали сыпаться. Когда? Где? Я потеряла терпение. Еще тогда, в декабре, в вестибюле Государственной библиотеки, когда один человек мне… Кто этот «один человек»? Ну тот самый, Безымянный, Неназванный, чье имя я откажусь сообщить какой бы то ни было инстанции.
Вот как? Посмотрим. Впрочем, что он сказал?
Да что они все говорят. Если верно мое предположение (это было больше, чем предположение, это была уверенность), что Девушка не слепо ринулась в катастрофу (я утверждала: она должна была сделать то, что сделала), другими словами, что она пошла на это сознательно, то ему непонятно, чем это лучше. Погубить себя из гордости или быть погребенной под лавиной – результат в обоих случаях один и тот же.
О, если бы вы знали, как вы ошибаетесь!
Опять та же усмешка, удивление. Можно подумать, будто ты ее знала.
А если знала?
Тут я увидела, как у него затрепетали ресницы и наконец услышала в его голосе нотки, которых добивалась: я понимаю, к чему ты клонишь.
Слово «страсть». Раньше я никогда не слышала, чтобы его произносили в обычном разговоре, какой, например, ведут в вестибюле, небрежно прислонясь к перилам. Страсть как необузданная похоть. Эта девушка с ее нелепой страстью. Как будто они упиваются звучанием этого слова, раз уж оно сломало барьеры. Страсть и все унизительные заблуждения, которые она неизбежно влечет за собой всегда, а особенно в наши дни…
Ах, прошу вас, тихо сказала я, но вы же эту девушку не придумали.
Я увидела, что он смутился. Что тебе может прийти в голову! – сказал он. Придумал! Зачем бы я стал ее придумывать!
Это как раз совершенно ясно: для острастки. Тут он, уличенный мною, временно прервал разговор.
Вы опять бегаете взад-вперед по этой дорожке, фройляйн. А по телевизору показывают футбол. – Разве я бегаю, Отто? Но ведь теперь совсем другое дело…
Мне посоветовали перейти к повестке дня, это мне-то – ведь раньше я пускалась в погоню за менее значительными чудесами. Я боялась, что утратила эту способность, но мне ее как раз стало недоставать – признак, что в ней снова возникла потребность. Небылицами не прокормишься, еще успел он сказать.
Вот как он говорил со мной. Теперь вы слышали и можете этим удовлетвориться.
Он даже сострил – посмеялся над некой особой, которая пустилась в путь, чтобы научиться страху.
Ну и как, спросила я. Научилась?
Еще бы! – заверил он меня. О чем тут спрашивать!
Ну вот видите, сказала я в заключение, и последнее слово осталось за мной: значит, она получила, что хотела.
Лицо у него сделалось растерянное, тем все и кончилось. Ничем, как я и предсказывала. Можно на этом поставить точку. Тем временем Отто приглашает Девушку к ним на картофельные оладьи. А я пока погляжу, какие платья предлагает мл выбор «Сибилла».
Цензор моих снов выдает себя за человека светского, он переключает светофор на «зеленый», придерживает переднюю дверь, чтобы я могла войти в магазин величаво, как королева; иронически-размашистым движением поворачивает вертушку с платьями, возводит меня в ранг единственной покупательницы, запретив продавщицам улыбаться хотя бы уголками рта, что они обычно делают без всякого стеснения. Я все это прекрасно вижу, но не порчу игру. Милостиво разрешаю предложить мне кукурузно-желтое платье и важно киваю головой. Если они настаивают, я, так уж и быть, возьму то платье, а ведь я их перехитрила: оно мне идет, оно мне действительно нравится, я непременно хочу его приобрести, я снисходительно допускаю, чтобы за меня уплатили. Так уж ведется, и само собой разумеется, это не налагает на меня никаких обязательств. С высоко поднятой головой, в новом платье выхожу я на улицу, и я вправе считать, что на сей раз все сделала правильно: приняла дар и осталась неподкупной. Вот каким манером следует поступать всегда, сообщаю я моему цензору. Вот каким манером можно обрести возвышенные чувства, и пусть кто хочет исподтишка скалит зубы.
Но он же вовсе не скалит зубы, наоборот, он одобряет мой выбор, скромно замечает он. Более того, если я пожелаю быть справедливой, то должна признать, что предложение исходило от него. Но я не желаю быть справедливой. Никто, сказала я ему, не может заставить другого долго терпеть возле себя такого зануду. С этим он восторженно соглашается – конечно, конечно, повторяет он и заклинает меня считать, что его тут нет, что он испарился и с этой секунды я могу чувствовать себя совершенно и окончательно свободной.
Туг я очень рассердилась и обозвала его нахалом. Не от него я жду свободы. Я ее возьму себе сама.
Разумеется, смиренно говорит он.
Я слишком горда для того, чтобы оспаривать у него последнее слово.
Упоительную свободу не быть обязанной знать то, что я знаю, я отвоевала себе давно. Еще тогда, когда Макс принялся навязывать мне информацию. Дожив до почтенных седин, он вздумал на старости лет мешаться в дела житейские, приемы у него были неуклюжие, но они меня тронули, и я не могла сказать ему прямо в лицо, что он лжет, намекая, будто действует по чужому поручению. Я позволяла себе иногда ему поверить, для того чтобы можно было согласиться на какое-нибудь уж слишком неловко затеянное свидание, не роняя своего достоинства. Мне что-то нездоровится, слушай, ты не могла бы часиков около пяти забежать ко мне? Тот же текст говорился затем по другому номеру телефона. Врач ведь не откажется навестить захворавшего приятеля. И таким образом к Максу домой одновременно являются двое знакомых, изображающих именно ту степень изумления, какой Макс от нас и ждал. Если, конечно, предположить, что он, придя, к сожалению, после меня (тот, кто пришел первым, легко оказывается в роли ожидающего), тоже притворялся, а не был изумлен на самом деле.
Интермедия, которую мы могли бы повторить раз десять, если бы от нас потребовали. Требовать-то требовали, это я могу засвидетельствовать. Но я не дала согласия. На исходе того дня я пришла к выводу: Макс все это подстроил, и подстроил исключительно ради меня (ты знаешь, иногда я отдаю предпочтение самой невыносимой мысли). Поэтому второго раза не будет, и пусть отныне правит случай.
Голый, неприкрашенный случай. Так думает баловень судьбы, но это ужасная гордыня, а гордыня предшествует падению. Мозг непрерывно порождает смелые комбинации, возможности, которых уважающий себя случай никогда не упустит. Скажем, на каком-нибудь перекрестке с небезызвестным синим «вартбургом» может приключиться маленькая авария, случайно оказываешься поблизости и можешь дать показания, что водитель не виноват… В общем, в этом роде.
Но случай теперь уж совсем не тот, каким он был когда-то, ли верить старой литературе. И гордыня у тебя испаряется без остатка самое позднее к вечеру пятого дня. Потом еще три-четыре дня не находишь себе места – не хотелось бы пережить это снова. Вечером девятого дня, часов около пяти, звонишь в некую дверь. Все-таки пришла? – говорит Макс; он похудел и не даст себя обмануть. Наш общий друг находится и научной командировке за границей.
Никакой случай этого знать не мог, и я испытываю большое облегчение. Сколько времени он будет отсутствовать – три, четыре недели, – это уже не играет роли, ибо время теперь измеряется секундами. Мне дарована передышка, подумала я.
А вот Девушка, которой отказано и в передышке и в утешении, должна что-то предпринять. Потому что гайку начали закручивать, пусть даже только на один оборот в день, но за сутки это создает разницу между вчера и сегодня – между тем, что еще можно было выдержать, и тем, что уже совсем невыносимо. Ничего не подозревающая секретарша декана не хочет пойти навстречу Девушке, не хочет дать адрес, ибо семинарскую работу полагается сдавать доценту после лекции, значит, либо следовало сдать вчера, либо придется сделать это послезавтра.
Нет. Сегодня.
Она даже не знает, какими важными сведениями распоряжается так бездумно. Как, дать вам еще и номер телефона? Ну что же, может, и правда будет лучше, если вы сначала ему позвоните.
Нет, этого она тоже не сделает. Девушка идет в почтовое отделение на станции Фридрихштрассе и входит в телефонную кабину справа от стеклянной двери. Телефон она набирает по памяти. Ей отвечает женский голос (я-то знаю, что это Марианна, но Девушка не знает). Та спрашивает три раза: алло, кто это? Кто звонит? Отвечайте же наконец! Потом вешает трубку. Ошибка, сообщает Марианна моему другу Петеру, который сидит тут же за письменным столом, но трубку должна снимать она, потому что он то и дело велит ей говорить, что его нет дома.
Ничего не происходит и никогда ничего не произойдет. Это она сообщает Отто Козинке, который относится к ее словам весьма скептически и возражает, что в природе не бывает застоя: Этот закон применим и к человеческому обществу, как доказал ему сегодня его учитель истории. Девушка оставляет свои сомнения при себе, они относятся отнюдь не к великому целому, а к отдельной малости. Со мной, Отто, ничего не произойдет, в этом-то вся беда. Вот посмотришь.
Самое лучшее, все бросить и пойти гулять, вот как я сегодня, хотя у меня причины совсем другие, мне ведь назначено свидание. Пора уже об этом напомнить. Я иду мимо витрин: салон белья; футбольные мячи и мебель для кемпинга в окне спортивного магазина; недавно взятые обязательства в витрине Комитета свободной немецкой молодежи. Я едва не дала себя обмануть – поверила было, что иду по всамделишной мостовой, под настоящими липами. Пока в спину мне, в то самое место, которое известно нам по детективным фильмам, не уткнулся чей-то палец, твердый, как ствол пистолета. Незаметно следуйте за мной, говорит Макс таким тоном, что пугаться вроде бы нечего. Но он понимает, что я все-таки испугалась – ведь он же умер. Сон, в котором происходят такие вещи, грозит превратиться в нечто неуправляемое, это ты должен признать. Но Максу я и виду не подаю. Хэлло, Макс, непринужденно говорю я. Известно, как подобная непринужденность действует на тех, кого она касается.
– Хэлло, отвечает он. Ну, ты опять за свое?
– Нет, Макс, – решительно говорю я. Нет, Макс, ничего подобного. Дело в том, что сегодня мне назначено свидание.
Ему это, конечно, известно. На сей раз он мог бы не кичиться тем, что знает все лучше всех, но где уж там. Мы с ним занимаем два свободных стула в средней аллее. Ты даешь себе волю, говорит он. Долговато, пожалуй. Ты не находишь?
Я упрямо молчу, тогда он идет мне на уступки. Макс, более чем равнодушный к дамским туалетам, хвалит мое новое платье. Этого бы ему делать не следовало. Я его отчаянно ругаю. За его невыносимое терпение, его отвратительную сдержанность, его неисчерпаемое благоразумие и наивную веру в прогресс. Все это мы тебе припомнили, говорю я ему. И знаешь когда? В день твоих похорон.
Презрев все воздаваемые тебе официальные почести, мы прямо с Доротеенштедтского кладбища пошли в бар «Петух» и там поносили тебя вовсю – я и тот, кого ты называешь «нашим общим другом». Поносили Макса, которого между собой давно уже окрестили «стариком». Старик вовремя убрался, не то он докатился бы до того, чтобы одобрять все существующее только потому, что оно существует.
Мы пили вермут, потом советский коньяк. То был первый и единственный раз, когда мы с ним пили. Выяснилось, что нас это даже очень хорошо получается. Мы поднимали рюмки и пили за старика, только за него. Говорили только о нем, об этой хитрой бестии – так после третьей рюмки стал взывать его «наш общий друг». Такая хитрая бестия, а теперь то все оплакивают, и как еще! Проживи он дольше, через пять лет он был бы всеми забыт. И вами тоже? – спросила я. Разумеется, ответил он. За кого ты меня принимаешь? Я тоже, как всякий человек, по возможности избегаю отрицательных эмоций.
О, конечно, сказала я. Господин Всякий расходует свои деньги ради того, чтобы народное хозяйство процветало, но он не расходует своих чувств. И вот уже коллега Всякий побеждает своих конкурентов. Товарищ Всякий добился успеха.
И знаешь, Макс, что он тогда сказал? Он сказал: не ругай старика.
Брось, сказал Макс. Не переоценивай такие порывы. Нечистая совесть оставшегося в живых. Это нормально. Как будто умершие правы уже только потому, что они умерли. Говорю тебе по собственному опыту: смерть ничего не доказывает. А вообще это мило с вашей стороны, что вы не осквернили мою биографию посмертным славословием.
И вот я его спрашиваю, с чего это начинается. С какого-то мутного беспокойства? С бессонницы? Потом ноет в левой стороне груди, жмет, боль отдает в левую руку? Врач пожимает плечами: приборы ничего не показывают. А это происходит все чаще, не только в определенных ситуациях, но даже от одной мысли о таких ситуациях. Появляется одышка? Говори откровенно, Макс, незачем меня щадить, ведь так это начинается, верно?
Макс уже скрылся. И я тоже двинулась дальше. Медленно побрела по аллее к Бранденбургским воротам в толпе туристов, у которых была та же цель, но меньше времени, чем меня. Руководитель одной из групп раздавал своим подопечным конфеты и румяные яблочки. Я почувствовала, что в горле у меня пересохло, хотелось пить. Тут и у меня в руке оказалось румяное яблочко. Но я не из вашей группы, сказала я, однако он великодушным жестом пресек мой протест. Я сразу надкусила яблоко: оно оказалось необыкновенно сочным. Это я сообщила пареньку, который шел со мной рядом и, поскольку он тоже ел яблоко, видимо, принадлежал к этой группе.
Он не разделял моего восторга по поводу яблока и вообще был очень скуп на слова. Меня это раздражало. Я вас где-то видела, сказала я. Я вас тоже, сухо ответил он. Не знаю, что мне помешало отчитать наглеца. Не знаю, что толкало меня с ним кокетничать, ведь заранее можно было предсказать, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я уже злилась на себя за то, что у меня такая плохая память на лица. Уже извинилась за это перед пареньком, но этим нисколько не расположила его к себе. Ему, видите ли, совершенно все равно, узнают его или нет. Для некоторых очень важно, чтобы их каждая собака знала, – для него нет. Тогда я начала бояться, что становлюсь чересчур навязчивой, но, как это часто бывает во сне, тщетно пыталась от него оторваться.
Тут мое внимание привлекла женщина, которая шла впереди меня и тоже, разумеется, жевала яблоко. Это была плотная веселая бабенка в голубом платье в обтяжку. Я знала, – бог весть откуда! – как выглядит это платье спереди: оно усажено двумя рядами белых пуговиц, а на левом нагрудном кармане вышит петух. Забыв про нагловатого паренька, я обежала женщину спереди и убедилась в точности своего предвидения. И ямочку на ее левой щеке я узнала тоже. Женщина кивнула мне как старой знакомой, а я набралась храбрости и спросила, где мы встречались с ней раньше. Она добродушно улыбнулась и показала на вышитого петуха у себя на груди. Бар «Петух», сказала она.
Испугалась я несказанно. Теперь я знаю, как пугается злодей, который надеялся совершить свое преступление втайне и вдруг видит, что окружен свидетелями. Я сразу поняла, с кем имею дело, и узнала их всех, одного за другим.
Под руку с кельнершей из бара «Петух» шла маленькая кудрявая брюнетка – шустрая продавщица из магазина мужского готового платья. Тогда я чуть не довела ее до слез, требуя заменить испорченный вермутом траурный галстук, черный в серебристо-серую полоску, точно таким же. Теперь я опасалась, что здесь, у всех на глазах, она с насмешливой улыбкой выудит из моей сумки маленький сверток в папиросной бумаге, чтобы продемонстрировать галстук в пятнах от белого вермута. Кто же в наши дни столь не искушен, чтобы не знать, что при любом судебном разбирательстве подобный пустяк может стать важнейшим, решающим вещественным доказательством?
Похоже было, что и телефонистка из почтового отделения Александерплац дружит с продавщицей из магазина мужского платья. Все они одна шайка. У них ведь безукоризненно чистая совесть, потому что они способны сразу же забывать свои собственные проступки. Хотела бы я посмотреть на ее физиономию, если бы я упрекнула ее в том, что в тот осенний день она заставила меня битый час дожидаться срочного разговора с Иеной, а сама за это время пять раз звонила своему дружку и требовала от него полного отчета о вчерашнем вечере – по часам и минутам. Конечно, потом она подслушивала мой разговор, чтобы, когда понадобится, дать показания.
Сначала отозвался женский голос, какая-то служащая, которой я вынуждена была сообщить фамилию господина Неназванного. Единственный раз, когда я полностью произнесла его фамилию, а также свою. Его будто бы пошли звать. По-видимому, в этом научно-исследовательском институте фармакологии люди и понятия не имеют о том, сколько стоит одна минута. Правда, когда он наконец взял трубку, то едва переводил дух. Да, он предвидел, что Макс скоро умрет. Да, он приедет на похороны. Откуда мне известен его телефон? Из вашего последнего письма, – к счастью, я могла на него сослаться. – Макс отдал его мне на случай, если понадобится вас известить. Это на старика похоже, сказал он. Ладно, я здесь договорюсь и приеду.
Телефонистка, сколько бы хитрости ни пряталось за ее напускной вялостью, ничего не сможет рассказать о том, как провела я час ожидания на скамейке под ее окошком: составляла текст из тридцати слов, которыми можно было бы, ничего не выдав, сказать все, что надо. Беда только, что когда и услышала его голос, то начисто забыла весь текст.
Позади остальных, как будто он не имеет к ним отношения, ковылял седой железнодорожник – контролер со станции городской железной дороги Центральфихоф. У него просто было плохое настроение, я и не принимала его брюзгливости на свой счет даже тогда. Он не обратил на меня внимания, но и он, разумеется, был наделен столь же неистребимой памятью, как они все, и он, разумеется, будет вызван в качестве свидетеля, чтобы в надлежащее время дать показания о том, когда и в какой форме я, заглянув к нему в будку, спрашивала, как пройти на совершенно определенную улицу. Значит, улица будет названа публично и билетный контролер тоже вспомнит, что я настойчиво требовала у него справку, в которой он бы мне охотно отказал, из сострадания или по злобе. Ибо какая будет польза от моего паломничества на эту улицу? Ему сделают замечание: вопросы здесь задает суд. Какой я ему тогда показалась? Нервозной? Или наоборот – сдержанной? Но мой контролер к таким словам не привык. Он медлит. Ему помогают: показалась нетерпеливой? А может быть – ненормальной? Он будет каждый раз утвердительно кивать головой, и им останутся довольны. Такие слова любят в том месте, где будет происходить судебное разбирательство.
После этого его спросят еще только о том, когда я проходила мимо его окошечка. На это он может дать быстрый и четкий ответ: в семнадцать двенадцать. Спасибо, он может идти.
Теперь очередь нагловатого паренька, и теперь я узнаю и его. Таксист, который в день, ставший предметом рассмотрения (седьмое февраля сего года), поздним вечером – поздним вечером, высокий суд! – отвозил меня домой с той уже неоднократно называвшейся улицы. Он это подтверждает, но опять-таки без всякой заинтересованности – это меня обижает больше всего. Когда именно он подобрал меня на том углу?
Протест, ваша честь! – говорю я, выступая в роли своего собственного защитника. Ваша лексика внушает мысли о бездомности и преступности. Протест удовлетворяется, и вопрос формулируется по-другому: когда я подозвала такси? Около двадцати двух часов, он только начал работать. Впрочем, в течение всей поездки через Берлин (плату за проезд – девятнадцать марок тридцать пфеннигов – я округлила до двадцати) я с ним и словом не перемолвилась. Будто каждое слово казалось мне лишним.
Во время паузы, последовавшей за этим несущественным показанием, все занялись подсчетами. Седьмого февраля я потеряла на той улице четыре часа сорок восемь минут по среднеевропейскому времени, но об этом никто и не вспомнит. Для них ведь дело не в том, чтобы пристыдить меня: их задача меня уличить. Они выполняют ее беспристрастно, для моей же пользы.
Вот, например, тот человек – веселый руководитель группы, который подвел нас к загородке перед Бранденбургскими воротами, ему совершенно не в чем меня упрекнуть, если не считать того факта, что в один прекрасный день я зашла к нему в Бюро путешествий, сунула в сумочку несколько проспектов и внимательно изучила рекламные плакаты на стенах (потому что я быстро ушла, не попрощавшись и не выдав себя вопросом о возможности поездки вдвоем на выходные дни). Но именно этот, ничего не подозревающий человек должен вынести мне приговор. Что он скажет? Да ведь я знаю. В порядке гуманного наказания мне давно сообщили, что Любви грозит страшная опасность, и не только со стороны соперника, но и со стороны самого любящего.
Молча, ибо дара речи я давно уже лишилась, повернусь я, чтобы уйти. Если там есть двери, то маленький любезный лифтбой из отеля «Унтер-ден-Линден» распахнет их передо мной одну за другой приветливо и неофициально. Его показания (только они и могли бы мне по-настоящему повредить) уже не требуются. Чаша переполнилась. Но снаружи меня поджидает мой наглый таксист, он невозмутимо предлагает мне свои услуги, потому что ему надо выполнить план.
Приговор обжалованию не подлежит. Я это знаю. Я всегда знала: наступит такой день, когда я не смогу уже ничего обжаловать. Я угодила в ловушку.
Меня охватывает паника. Из последних сил отталкиваюсь я от загородки и начинаю потихоньку, шаг за шагом, пятиться назад. Появляется надежда, что удастся удрать незаметно, как вдруг мне машет руководитель группы: идите, идите! Мы хотели только вместе с вами съесть по яблоку.
Я опрометью убегаю. Вслепую лечу через перекресток, рискуя угодить под один из мчащихся автомобилей. Но в глубине души я знаю: пока еще этого не случится. Почти бегом дохожу до советского посольства. Я выбилась из сил и едва перевожу дыхание. Должна же быть на этой проклятой улице какая-нибудь инстанция, куда можно пожаловаться. Нет, произносит кто-то возле меня. На это вы не рассчитывайте.
О Девушке я совершенно забыла.
Это не беда, великодушно говорит она, и я с болью сознаю, что завишу теперь от ее великодушия. Какое уж тут превосходство! Что они еще предпримут, чтобы меня сломить?
Горше всего, говорит Девушка, отказываться от счастья, которое нам все равно недоступно.
Молчите! – резко говорю я. Что вы можете об этом знать? Что можете вы знать о добровольном отказе – вы, добившаяся всего, чего хотели?
Вы так думаете? – тихо спрашивает Девушка. Думаете, мы можем чего-то добиться? Думаете, наша сестра способна добровольно отказаться от счастья?
Неужели вы им сказали это прямо в лицо? – спрашиваю я затаив дыхание.
Конечно, отвечает Девушка, а то как же?
Не могу ей не верить. Когда Девушку допрашивала конфликтная комиссия, и страх и конфликты уже остались у нее позади. Петер, мой старый друг Петер, чье имя в этом деле официально не фигурировало и который, таким образом, мог появиться здесь рядом с Девушкой только по доброй воле, без вызова, отговорился командировкой. Он рассчитал, что его выступление пользы никому не принесет, а ему может очень повредить. Девушка с ним согласилась, а комиссия заключила, что лицо, оставшееся неизвестным, вызвано быть не может. В конце концов, ведь не он, а она пыталась ввести в заблуждение университетское начальство. Констатация факта, которого никто и не оспаривал. Надеюсь, вы будете благоразумны.
Благоразумна? – удивленно спросила Девушка. Что вы хотите этим сказать?
Ну, если вы не понимаете…
Будь же благоразумна, прошу тебя, так наверно, сказал ей на прощанье мой друг Петер. Он непременно хотел с ней попрощаться, честь по чести, хотя мог бы потихоньку улизнуть со своим чемоданчиком, с тем самым, который он месяц тому назад принес в новую квартиру своего уехавшего приятеля, намереваясь пожить там с этой юной, очаровательной и до смешного верной Девушкой, пока его жена Марианна будет проходить курс водолечения по системе Кнейпа. С Девушкой, которая сознавала, что свела его с пути истинного и потому ничего от него не требовала, единственно – чтобы он дал ей об этом забыть. Но он к этому не стремился, ему было все равно.
Когда по ночам она вставала с широкой кровати за занавесом и, скользнув в крошечную кухню, жадно пила воду из крана; когда, подойдя к открытой балконной двери, слушала рокот ночного города и, глядя поверх низких крыш торговых зданий на Фридрихштрассе, следила, как надвигаются и пропадают во тьме фары машин, а потом поднимала глаза к розовеющему горизонту, на котором рисовался ломаный силуэт города; когда мой друг Петер, чувствуя себя как ни разу в жизни беспомощным, вставал тоже и спрашивал, не может ли он что-нибудь для нее сделать; когда она начала понимать, что без чьей-либо вины остается ни с чем и что за невозместимые потери никого винить нельзя, – тогда она сказала, пока еще не отказывалась говорить: любви конец, если принимать ее слишком всерьез.
Мой друг Петер не переносит угрызений совести. Председательствующий откашливается. Вы не называете этого человека: надеюсь, он не из нашего преподавательского состава. Удивительно, что такие истории у нас теперь случаются все чаще и чаще. Прежде рыцарственный мужчина отказывался назвать имя дамы, но похоже, что в эпоху женского равноправия укоренился противоположный обычай. Как много детей, не знающих имени отца! – Впрочем, это дело ваше. Наше дело выяснить, почему вы в течение трех месяцев пропускали занятия без уважительной причины.
Девушке нечего на это ответить. А вот с Отто Козинке, который стал беспокоиться и по поручению матери зашел спросить, не больна ли она, – с ним она говорить не отказывалась:
Знаешь, Отто, мне это претит, – О чем вы, фройляйн? Что вам претит? – Что они себя ни в грош не ставят. Понимаешь, Отто, что я имею в виду? – По правде говоря, нет, фройляйн, – Что их собственное счастье им безразлично, – Ну уж в это я никак не поверю, фройляйн, – Не поверишь? Где же твои глаза? Разве ты не видишь, как они убегают от самих себя, все дальше и дальше? И ты никогда не задумывался над тем, куда девается все то, чего нам не удается совершить? Наша непрожитая жизнь?
Опытный человек, председатель комиссии с первого взгляда понял, что эта девочка себя переоценила. Мы хотим вам помочь, сказал он, и он действительно этого хотел. Кто бы из нас позволил себе бросить камень? Представительница Союза молодежи, симпатичная живая девушка, казалось, испытывала желание хотя бы взяться за камень, хотя бы взвесить его на руке: посмотреть, какие глаза бывают у человека, когда он ждет удара? Но председатель остановил ее взглядом. У вас неприятности, какого рода – мы выяснять не будем. Сложные переживания. Допустим. На неделю-другую это может выбить из колеи молодого человека, и он забудет о своих обязанностях. Но на несколько месяцев! А потом вы не желаете отвечать за свои поступки. Спасаетесь бегством, даже идете на прямой обман!
Тут Девушка, не отстающая от меня ни на шаг, заявляет протест, мы поравнялись с букинистическим магазином, в витринах которого лежат старинные гравюры и первые издания «Вертера». Знаю, говорю я, извините. Я возвела поклеп на председателя вашей комиссии, человека порядочного. Не он говорил вам о бегстве, о прямом обмане. То был другой человек. Каждое слово – нож, но нацелен он не в вас, а в меня.
Ну скажи, до чего мы дойдем, говорил он мне, если будем уступать каждому своему порыву. Мы шли с ним наискосок через Маркс-Энгельсплац; когда нет демонстрации, площадь пустынна; стоял апрель, и день выдался по-весеннему теплый, я ждала его перед зданием клиники, ничем не обосновав такой неслыханной дерзости. Он и бровью не повел, но волей-неволей снова заговорил о вас, Девушка, а когда стал накрапывать дождь, ничего не имел против того, чтобы идти под одним зонтиком со мной. Он заклинал меня ради всего святого объяснить ему, на что вы рассчитывали? На брак? На ребенка? На побочную семью, что теперь становится так модно?
Поскольку я не удостоила его ответом, то ему ничего другого не оставалось, как тут же, на Унтер-ден-Линден, рассказать мне всю вашу историю до самого конца. Эта студентка в течение трех месяцев прогуливает лекции, не представляя оправдательных документов, какие бы там ни были у нее причины. Любой врач дал бы ей больничный лист. Но нет, для этого она слишком горда. Конечно, общественным организациям можно поставить в упрек, что они так поздно спохватились, так долго не спрашивали у нее отчета, куда она девает принадлежащее им время (даже если она больше не брала положенной ей стипендии). Вдруг она ударяется в панику – спрашивается, почему только теперь? – сломя голову мчится домой, пристает с ножом к горлу к добродушной, но малоопытной женщине, матери своей подруги, работающей медсестрой в поликлинике, пристает до тех пор, пока та не добывает ей справку. Чистая фальшивка, которую университетское начальство сразу же замечает. Обман обнаружен. О комиссии уже шла речь. Что ей оставалось, как не исключить Девушку? Исключить сроком на один год – великодушнее они поступить не могли. Теперь она стоит у конвейера на электроламповом заводе.
Тут я поблагодарила его. Спасибо, сказала я, за эту великолепную мрачную историю.
Мы молча дошли до красной ратуши. Нечего так на меня таращиться, сказала я тогда, лицо у меня мокрое от дождя.
Под зонтиком? – спросил он. В голосе его звучало сомнение.
В то время на Алексе еще стоял старый универмаг, нам пришлось забежать вовнутрь, потому что дождь полил как из ведра. Он все еще не сводил с меня глаз. Мне хотелось наконец высказать все, без обиняков, без стеснения, но со сдержанным гневом. Дорогой мой друг, сказала я, и это было прекрасное начало. Известно ли вам, чем вы безостановочно занимаетесь? Пособничеством.
В убийстве? – насмешливо спросил он.
В действиях, толкающих человека к гибели.
Тут я увидела, что эта мысль уже приходила ему в голову.








