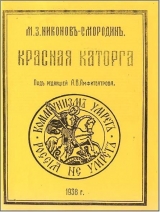
Текст книги "Красная каторга: записки соловчанина"
Автор книги: Михаил Никонов-Смородин
Жанр:
Антисоветская литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
– Утопающий за соломинку хватается.
– Нет, тут бесконечное легковерие, – возразил Матушкин. – Эх, дружище, кровью покупаем опыт и бросаем его, как ненужный, псу под хвост! Вот!
4. ГИБЕЛЬ ИМЯСЛАВЦЕВ
Приятно после долгой разлуки встретить соратника однополчанина, пожать его руку, ощутить это особенное чувство солидарности, созданное мелкою вязью событий, некогда пережитых вместе, приятно встретить его ласковый, ответный взгляд и с особым удовольствием узнать о его жизненных невзгодах и успехах. Но несомненно приятнее встретить на каторге одноэтапника, спутника в многотрудной тюремной жизни и соучастника страданий первых и самых трудных времен тюремной и лагерной жизни. Здесь в лагере судьба людей феерична. Пребывают все в одном качестве «заключенный», но судьба забрасывает кого на верхушку административной лестницы, кого в пекло рабочей роты или в братскую могилу. Трогательно бывает видеть, как какой-нибудь шпаненок; замызганный и обтрепанный на работах, с испитым лицом, трясет руку щеголевато одетому заву-одноэтапнику, тому самому заву, чьего взгляда боится вся братва.
Именно такая неожиданная встреча произошла у меня в лесу, на скрещении Савватьевской и Секирной дорог, там, где стоит уже несколько лет большой деревянный конный каток.
Только что я дошел до катка, по Секирной дороге подошел стрелок-охранник.
При виде ненавистной шинели я внутренне съежился от глухого чувства злобы и на лицо у меля набежали морщины.
– Семен Васильевич, неужели вы?
Я остановился в изумлении, смотря на охранника, радушно протягивавшего мне руку. Но как же обрадовался, узнав в стрелке Аркадия Ивановича Мыслицина!
– Вот не подумал бы, – бормотал я бледный от волнения. – Да каким это образом, Аркадий Иванович в этаком вы странном одеянии, да из таких страшных мест идете?
Облачко набежало на лицо Мыслицина при этих словах. Он помолчал, словно не находя слов и убедившись, что дороги пусты и мы одни, продолжал:
– Судьба играет человеком… А вот я в игру весьма скверную попал.
В лагерях, по рассказам Мыслицина, его как бывшего чекиста, хотя и имеющего контр-революционную статью, зачислили в охрану. Работал эти годы на материке, но теперь, вследствие усиления соловецкой охраны был переброшен на остров, потеряв приобретенный на месте прежней службы блат.
– Да, судьбы наши в этих проклятых местах бывают удивительно фантастичны. Вот мне, русскому офицеру, участнику гражданской войны на стороне белых, приходится быть и, можно сказать, содействовать, самому ужасному – расправе с безоружным, обреченном на смерть, изображать некую составную часть лапы ГПУ, тяготеющей над лагерями и Россией.
Он нервно расковырял папиросную пачку и как-то, словно глотая, начал втягивать в себя дым, захлебываясь и кашляя.
– Кругом проклятые стены. Что тут сделаешь? Проклятое время. Вот и теперь я иду на свободу. То есть, собственно, в ссылку, как и всякий соловчанин. И весь этот ужас уже позади. Но я думаю, до конца жизни не забыть мне того, что увидел я за два месяца хозяйничанья Успенского. Помните этих – «Бог знает»? Позавчера расстреляли их всех. Сто сорок восемь человек.
– Имяславцев? Неужели?
Я был поражен неожиданной вестью. В сознании тотчас выплыли эти стойкие сермяжные люди, не желавшие признавать антихристовой власти, не желавшие работать Антихристу.
Мы с Мыслициным отошли с дороги в лесную чащу и сели на мох за большим валуном. Он так мне обрадовался, так жадно хотел высказать мучившее его и угнетавшее.
– Так вот, о гибели имяславцев по порядку расскажу. Не дает мне эта картина покоя, а рассказать, облегчить душу от тяжести некому.
* * *
Их набралось сто сорок восемь. Большая часть из Терской области, с юга, остальные из Сибири и с Волги. Все, как один – крестьяне. Жили они на острове Анзере в полной изоляции, недалеко от другой группы изолированных церковных иерархов. Без малого год прожили они в такой изоляции, без всякой связи со своими близкими. Жили бы и теперь, если бы не Успенский.
На каторге, сами знаете, теперь «новый режим». Братва митингует. Начальство в панике. Впрочем, охранять теперь не надо: как ножом отрезало. Какой шпаненок побежит оттуда, где как никак кормят, а труда не требуют?
И вот, шпана первым делом отказалась от работ. Назревал большой скандал. При таких условиях дело ГПУ не только перестанет давать доходы, но потребует больших расходов.
Два месяца тому назад совнарком издал секретный декрет – расстреливать отказчиков от работ. На каждой командировке, согласно этого декрета, образованы «тройки» из чекистов. На всякий отказ от работ десятником и наблюдающим чекистом составляется акг. Тройка ставит на акт свою визу, и отказчик отправляется в изолятор на Секирную. А оттуда – в братскую могилу. Братва митингует и приветствует «новый режим», а тем временем он держит на Секирной шесть палачей, и ежедневно находится им работа. И сам новорожденный начальник лагеря, Успенский, удостаивает принимать в палаческих расправах личное и собственноручное участие.
– Так вот, на днях Успенский приказал составить акт об отказе от работ на изолированных имяславцев. И всех их расстреляли.
– Никогда не забуду этого ужаса, даже если бы и хотел забыть. Как раз в тот день я был наряжен в караул на Секирную. До сих пор удавалось брать иные посты, а тут не вышло. Пришлось идти.
Пост у дверей, – у притвора церковного. Оттуда выводили смертников, а стреляли в ограде. Человек восемь охранников принимали трупы, еще теплые, еще конвульсирующие, на подводы и увозили. Посмотрели бы вы на охранников-то: лица на них не было, – глаза растерянные, движения безтолковые, – совсем не в себе люди. Нагрузят воз теплым трупьем и как сумасшедшие, гонят лошадей под гору, – поскорей бы убраться подальше от сухого щелканья выстрелов. Ведь каждый этот выстрел обозначал расставание живой души с мертвым телом. Стреляли часа два. Восемь палачей и сам Успенский.
– Но самое страшное было там в притворе у нижнего изолятора. Смертникам связали руки еще на верху. Представляете вы себе эту толпу обросших бородами, кондовых мужиков со связанными назад руками? Они вошли и остановились в глубоком безмолвии. Палачи еще не были готовы и жертвы ждали. Сколько, не знаю. Но мне время показалось часа за два. Только один я, стоя внутри на страже у дверей, видел всю эту картину.
– Они стояли понурые, плечом к плечу и думали свою крепкую думу. Тишина такая – даже в ушах звенело.
– Вдруг дверь настежь. Вбегают два палача: еще жертву забыли в верхнем изоляторе – женщину – смертницу.
– Ведут они ее, а она визжит, упирается, словасловно выплевывает. Они буквально ее приволокли в притвор, бросили и ушли, дверью хлопнули. Женщина сразу перестала кричать. Увидев толпу сумрачных, тихих мужиков со связанными руками, она, должно быть, только теперь все поняла, – и уставилась на них остановившимися глазами.
– И еще сумрачнее стало в закрытом притворе. Молчат смертники, ни звука снаружи.
– Я их, этих страдальцев за веру видел еще раньше на Поповом острове в 1928 году. Это были крепкие, кряжистые мужики. Они и теперь те же. Но страдания наложили отпечаток на суровые лица, изрезали их морщинами. Кое кто подался, побледнел, высох. Вот один высокий, тонкий, смуглый, болезненный, – кожа да кости. А рядом старшой: огромный, дородный, рыжий бородач. Тот высокий, тонкий смотрел перед ним мальчиком.
– Сколько времени прошло в этой жуткой тишине – не знаю. Слышу тихий, словно вздох, шопот того высокого, болезненного:
– Помирать будем. Молитву бы на исход души. – Рыжий бородач встрепенулся, словно только проснулся. Хотел было перекреститься, но крепко связаны руки сзади. Еше разъдернул руки и по лицу прошла судорога.
– Не терпит антихрист креста, руки вяжет. Крестись, братья, умом.
И полился тихий придушенный басок, такой далекий и такой проникновенный. То прорвется, угаснет, потопленный глотаемыми слезами, то вновь окрепнет ярким звуком, вспыхнет в тишине.
– Смертники подняли головы, бледные губы вторят молитве на исход души, глаза устремились ввысь – туда к Предвечному, за Кого здесь они отдают свою жизнь: – Помяни, Господи Боже, нас, в вере и надежде живота вечного погибающих за Тебя, рабов Твоих…
И каждый шептал имя свое свято хранимое от антихриста, оно теперь благоговейно возносилось ими пред лицом Предвечного. – правда Твоя, правда во веки. Аминь.
– Долго шептали и повторяли слова молитвы смертники. И опять водворилась тишина, снова прерванная шепотом болезненного: – Помрем во имя Иисуса Христа, за нас распятого. Мученического венца сподобимся. Помолись еще, брат. Над нами, убиенными уже, некому будет прочитать молитву. Прочитаем сами.
– И опять встрепенулся рыжебородый богатырь. Опять полился дрожащей струей мягкий голос и завторили ему все остальные: – Ей, Человеколюбче, Господи, повели, да отпустятся от уз плотских и греховных, и приими в мир душу раба Твоего. И опять каждый прошептал свое, святохранимое, одним Господом Богом знаемое, имя. И упокой его в ечных обителях Твоих. Аминь.
– У кого текут слезы по суровым лицам, у кого застыли они в глазах и застыл их недвижный взгляд. А женщина то эта, вдруг, как рухнет во весь рост на каменный пол. Не выдержали нервы. Это была вдова недавно расстрелянного за неудачный побег советского поэта Ярославского. Она в Кремлевскомь дворебросила в Успенского, расстрелявшего её мужа, камнем. И теперь за это погибала.
– Слышу: снаружи топот. Идут палачи. Сильная рука рванула тяжелую дверь и первым вошел палач любитель, сам начальник лагеря, товарищ Успенский. Пожаловал лично расправиться с женщиной за камень…
– Еше не отзвучали слова молитвы, еще шепчут их бледные губы смертников… Успенского как обухом ударил этот шепот. Он повел плечами, нервно вынул наган и опять положил его в карман, прошел вдоль притвора в правый угол. Казалось – для него эти мужики, умирающие за веру, шепчущие слова молитвы, стали вдруг ненавистны, ибо всякое сопротивление его раздражало, как быка красная тряпка. Он привык видеть смертников бледными, трепещущими, уже наполовину ушедшими душой в иной мир. Шепот молитвы и сама молитва сковывали этих серых людей в одном стремлении и на Успенского повеяло холодком. Ведь не палачом же он на белый свет родился, где-то в душе должны быть следы прошлого. И это прошлое, очевидно помогло ему понять состояние погибающих верующих. Им овладело нервное настроение. Желая скрыть свое состояние, он закурил и через плечо бросил палачам распоряжение.
– Тем временем Ярославская пришла в себя. С трудом опираясь на стенку, встала и – прямо к Успенскому. А тот словно обрадовался случаю выскочить из жути, обругал ее самыми последними словами.
– Что? Теперь и тебе туда же дорога, как и твоему мужу. Вот из этого самого нагана я всадил пулю в дурацкую башку твоего Ярославского.
– Женщина как закричит, как задергает руками. А Успенский смотрит и смеется судорожным, наигранным смехом. Врет: совсем ему не весело.
– Развяжи мне руки, развяжи, падаль паршивая! – в истерике орала Ярославская, пятясь к Успенскому задом, словно ожидая, будто он и впрямь развяжет ей связанные сзади, руки. Потом вдруг круто повернулась, истерически завизжала и плюнула ему прямо в лицо.
– Успенский сделался страшен. Выплевывая ругательства, он оглушил женщину рукоятью нагана и – упавшую без чувств, стал топтать ногами.
– Началось… Брали с краю и уводили. Самого расстрела я не видал, слышал только сухие выстрелы палачей и неясный говор. Да порой вскрик кого-либо из убиваемых: – Будь проклят антихрист!..
– Не помню – как я добрался домой. И теперь хожу как в тумане… Подумайте: не насмешка ли судьбы? Вы же помните: я сын священника, человек верующий. И вот, именно мне выпало на долю – стоять на карауле при этом безбожном, чудовищном деле, при избиении Христовых мучеников. Срок мой кончается – досиживаю последние дни, но такая смертная тоска меня душит – жизни своей не рад. Не могу теперь без ужаса, без внутреннего холода смотреть на здешних людей, душу и сердце утративших.
* * *
На Мыслицине лица не было, в глазах его стояли слезы.
– Знаю, придет день и проснется в этих каменных сердцах совесть и позднее раскаяние о невозвратимо утерянном душевном покое и гибели в нем всего светлого, чем жив человек. Знаю… Видал я их, этих погибших людей в раскаянии, но никогда бы я их не пожалел. Я тоже винтик эгой лагерной машины, но я никогда не пойду на убийство, даже под страхом собственной гибели. А ведь для них это почти удовольствие, особенно для Успенского.
Мы расстались. Я подождал пока Мыслицын скрылся за поворотом и только тогда вышел из-за закрытия. Нам нельзя было идти вместе. Несмотря на «новый режим» в лагере, заключенный не имел права разговаривать с охранником.
Подавленный рассказом о гибели имяславцев, я тихо брел по дороге, по пути, проходимому смертниками на Секирную. Только они оттуда уже не возвращаются, как вот я. Страшные места, страшные люди.
В моем сознании, помимо моей воли выплыла фигура подтянутого, одетого в чекистскую форму, Успенского, вспомнился его удар кулаком по столу и митинговый возглас:
– Вы зверей кормите лучше, чем заключенных!
5. НАДЕЖДЫ ВОСКРЕСАЮТ
Наконец, страшные места остались позади. Справа засинело море. Я свернул с дороги по знакомой тропинке взглянуть на места, где мы заживали с Матушкиным в первые годы соловецкого житья.
Все тоже. Сенокос закончен и сено сложено «в зароды». Берега пустынны, на обнаженном от сильного отлива морском дне зеленые водоросли, а в ямках под ними, вероятно, осталась мелкая камбала.
Тропинка извивается по берегу. На одном из её поворотов у самого морского берега штабель баланов (бревен). Наверху сидит усталый рабочий, укладывает последние стволы. Вглядываюсь – Мамакин, уральский казак. Ответив на приветствие, он продолжает возиться с бревном.
– Да, братишка, после такой работы баба на ум не пойдет. Нет, уж это так верно.
Мамакин закончил работу, осторожно слез со штабеля и, вытерев влажные руки, начал крутить папиросу.
– Что слышно у вас в городе нового? – спросил я.
– В городе? Да ничего особенного, – сказал Мамакин, затягиваясь. – Этап новый пригнали. Татарья этого самого из Казани понаперло. Все правительство ихнее приехало. Обвиняют в связи с Турцией. Только турок никаких не привезли. Разве что в подвалах шлепнули. Вот военных тоже много привезли.
– Каких военных?
Разных. И комбриги и начдивы, и мелочь ротная и взводная. Ходят в своих шинелях и кругом как зайцы осматриваются. Не нравится им здесь, должно быть.
Распростившись с уставшим Мамакиным, я направился в сельхоз. На дворе там было пусто. Из скаковой конюшни брел старик-ветеринар Федосеич, мурлыча что-то под нос. Любил старик стихи и пение, но музыкальный слух у него отсутствовал, и его пение походило скорее на какое-то кудахтанье.
Федосеич был мне рад и потащил к себе.
– Идем, идем. Я теперь обитаю вдвоем с зоотехником Кочергой. Недавно прибыл. Совсем свежий.
Мы сидим у Федосеича и я вытягиваю из неразговорчивого Кочерги новости. Военных пригнала сюда Рамзинская история. Рамзина, между прочим, спросили, на какия силы он думал опираться. Он, яко бы, сослался на южные войска. Эгого было достаточно, что бы почти весь Киевский округ оказался разгромленным. Красные командиры, не чуявшие в себе ни сном, ни духом никакой контр-революции, очутились на Соловках в роли каэро. Конечно, среди них было много старых военных, служивших большевикам верой и правдой. Теперь их карьера кончена навсегда. Для них это можег быть не ясно, но для нас непреложно.
Федосеич начал длинный рассказ о своей командировке в Москву. Отправил его лагерь туда в научные учреждения за сыворотками для прививок скоту, конечно, без конвоя. По приезде, при явке на регистрацию на Лубянку, его задержали, посадили в Бутырки и отправили обратно этапом в Соловки. Как разъяснилось впоследствии – существовало распоряжение о запрещении командированным заключенным прибывать в Москву без конвоя.
По обыкновению, с Федосеичем происходило множество анекдотических случаев. Шпана его боготворила, ибо украсть у Федосеича было нечего и, стало быть, причин для ссор не имелось.
– едем мы из Питера в Кемь, – рассказывает Федосеич. – Взобрался я на среднюю полку. Ночью просыпаюсь – вижу шпанята что-то копошатся. Помыли [17]17
Помыть – обворовать, украсть
[Закрыть], оказывается, двух фраеров в соседней клетке и теперь что-то все жрут. Смотрю – протягивается ко мне рука и тычет в нос булку. Я отстраняю. Ворованная, мол. Недовольный голос бурчит: «А папиросы целый день, думаешь, какие курил? Что мы, фраера, что ли? У нас все ворованное. От мытья живем». Мне и крыть нечем, – закончил Федосеич.
– И булку, стало быть, взяли? – спрашиваю я.
Федосеич энергично мотнул головой.
– Нет, булку не взял.
Распростившись с сельхозцами, опять иду обратно на пристань у Варваринской часовни. Стоит ясная погода. Встречные озерки расцвечены желтыми кувшинками и обрамлены зеленым бордюром мхов и сорных злаков вперемешку с яркими лютиками.
Около теплицы сортоиспытательной станции копается со своими шарами-зондами все тот же профессор Санин. На месте расстрелянного Чеховского никого нет и Санин работает один. Наполнив из металлического баллона газом резиновый шар, величиною в две человеческих головы, профессор выпускает его и начинает танцевать у своего инструмента наблюдая одновременно и секундометр в руке и шар в зрительной трубе инструмента и отсчеты высот.
Я молча раскланялся с профессором и прошел дальше в лес мимо печальных домов сортоиспытательной станции.
На Варваринской большие перемены: половины старых обитателей уже нет.
За столом сидит лесничий Бродягин и вырезывает из карельской березы портсигар. Когда-то тут за столом напротив сиживал владыка Илларион и вел тихую беседу со старым лесным волком – князем Чегодаевым. Владыка уже отошел в лучший мир, а Чегодаев где-то на материке.
По-прежнему лики икон смотрят со стен часовни и с расписанного потолка, по-прежнему течет жизнь заключенных, закинутых в эту часовню. Но для меня жизнь потеряла свою остроту и интерес. Я вдруг почувствовал приступ свирепой, необъяснимой тоски. Стены, проклятые стены, сдавливающие, обрекающие на гибель, начали давить меня. Казалось – я даже могу ощутить их и осязать их каменную несокрушимость.
Я вышел из часовни и направился на пристань. Там маячила одинокая фигура в сером бушлате. Я с радостью узнал в ней Найденова – этого крепыша несокрушимого.
– Я так и думал – совсем вы духом упали после зимних историй, – сказал он, вглядываясь в мое лицо, видимо потемневшее от тоски.
– Да, проигрыш большой, что и говорить, – ответил я. – И ужаснее всего его неожиданность. Теперь, кажется, нет нам избавления.
– Все дело в хотении. Вот ведь бегут же отсюда люди безоружные. Шанс на успех ничтожен. И все же бегут.
– Да, если бы винтовочку, – вздохнул я. – Ведь эти палачи способны действовать оружием только против безоружных.
Найденов улыбнулся.
– В таком случае наше дело совсем не плохое. У меня есть две винтовки и некоторый запас патронов. Лодки в пушхозе также имеются.
Я с удивлением смотрел на Найденова. Тот продолжал:
– Винтовки я достал недавно н спрятал в лесу в надежном месте. Как достал – расскажу потом. Это мало вероятно как будто, однако, удалось без особого труда.
В таком случае после окончания белых ночей мы можем двинуть в леса. С винтовками можно зимовать и жить в любой лесной трущобе. Оружие даст нам пищу, а кров мы сами устроим. Я этого дела мастер.
Вся моя тоска улетучилась сразу. Мы начали обсуждать проект побега, намечали даже приблизительно время. Шанс на успех был огромный, ибо оружие давало нам в руки все нужное для жизни, а поимка вооруженных людей в дремучих лесах вещь совершенно невозможная. Для меня, уже проделавшего четырнадцатимесячную сидку в лесах Прикамья, лесная жизнь не была новостью, и я отлично знал, какое значение для такой жизни имела винтовка.
Я не стал расспрашивать Найденова о способе приобретения винтовок, разумеется они могли быть приобретены только от «своих людей», вероятно, в охране. А они, «свои люди» там несомненно были.
По кремлевской дороге к нам шел Пильбаум.
– Вы здесь? Идите ка скорее к директору. Он вас по всему острову ищет. Срочное дело.
На мой недоумевающий взгляд, Пильбаум отвел меня в сторону и рассказал в чем дело. Оказывается ГПУ желает заниматься кролиководством в широких размерах в Карельских лесах. И мне предстоит составить проект этого хозяйства.
На пристани Лисьего острова Михайловский ещё издали машет рукой.
– Идите к Карлуше. Дело серьезное. Туомайнен корпел над какими-то бумагами. Я сел на диван и приготовился слушать.
Ловкий человек этот Туомайнен. Он всегда ведет со мною хитрую политику. Разговаривая о каком-нибудь, незнакомом ему, специальном вопросе, сначала все выспросит, все разузнает. Затем, через несколько дней, приходит в крольчатник и с серьезным видом начинает давать инструкции по этому самому вопросу, добросовестно рассказывает мне все, что от меня же узнал, выдавая все это, глазом не моргнув, за свое собственное. А то был у него еще прием. Он хорошо знал мой вспыльчивый характер и пользовался этим. Начнет вдруг ни с того, ни с сего обвинять меня в неправильностях моей работы. Меня это, конечно, взорвет, и я принимаюсь горячо оправдываться, приводя доказательства, чертежи, выкладки, роюсь в справочниках. Ан, Туомайнену только того и нужно было: и не унизился до расспросов, и узнал все подробно.
Туомайнен отложил свою работу и начал давать мне задание, не обнаруживая сперва особых подробностей. Пришлось вытягивать их у него рядом вопросов.
В общем оказалось, что нужно запроектировать промышленное кроличье хозяйство в Карельских лесах с годовой производительностью в тридцать тысяч голов ежегодной продукции.
Я терпеливо выслушал его инструкции и, забрав нужные бумаги, пошел в крольчатник.
Константин Людвигович с Абакумовым работали у наружных клеток. Увидев меня в возбужденном состоянии, он было решил, что я поругался с Туомайненом.
– Ну, дружище, осенью, наверное, покинем эти места, – весело сказал я.
– Каким это образом?
Я показал ему задание.
– Хозяйство будет большое. А кто его будет вести? Специалист то, ведь только я. Быть нам обоим на материке.
Фортуна опять повернулась ко мне лицом. Теперь и винтовки нужны не будут. Удрать с материка будет на много проще. Ветром свободы повеяло. Я вновь воспрянул духом и был готов к борьбе.








