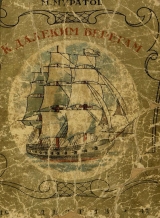
Текст книги "К далеким берегам"
Автор книги: Михаил Муратов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Для привезенных из России японцев было устроено особое помещение, у дверей которого поставлена стража. Караульные не допускали к ним никого.
Дом посланника стоял у самого моря. Со всех сторон возвышалась ограда из бамбука, а ворота запирались на замок и охранялись японскими солдатами. Только небо да вершина горы вдалеке были видны из-за изгороди. Гулять можно было только по двору: выход за ограду запрещался. Капитан Крузенштерн и другие морские офицеры, оставшиеся на корабле, могли посещать посланника, но не иначе, как заранее известив японцев, которые посылали каждый раз несколько сторожевых судов сопровождать шлюпку.
– Это наше жилье – не что иное, как почетная тюрьма,– говорили в доме посланника.
Губернатор продолжал любезно осведомляться о здоровье посланника и приказывал доставлять для его стола все, что потребуется. И попрежнему не удавалось добиться ответа на
вопрос о том, когда лее русское посольство получит возможность отправиться в Иедо ко двору японского императора. iS
Наступил и был невесело встречей новый, 1805 год. А в конце января японцы начали украшать зеленью дом посланника и другие постройки на отведенном ему дворе. Оказалось, что наступает японский новый год, который начинается позже, чем в европейских странах.
Губернатор прислал посланнику новогодний подарок. В прекрасно отделанной дорогой шкатулке лежали печенье из риса, красный морской рак, апельсины, кусочек угля, фрукты и конфеты.
– Рисовое печенье означает пожелание, чтобы ваша пища была в будущем году обильна. Рак – пожелание здоровья, потому что раки такой силой здоровья обладают, что у них далее оторванная нога вырастает заново. Апельсин по-японски называется тем нее словом, что и потомство. Губернатор вам леелает иметь большое потомство. А уголь – знак тепла. К тому же он называется по-японски «суми», а это слово значит и богатство. Губернатор желает, чтобы в будущем году на вашем столе была всегда изобильная пища, чтобы вы и ваши дети были неизменно здоровы и леили богато, – объяснили переводчики.
Резанов благодарил за любезность, но продоллеал указывать, что пора положить конец тому досадному олеиданшо, в котором находится русское посольство.
Четыре японца, привезенные на родину, еще больше, чем русские, тяготились тем неопределенным положением, в котором оказались. Они продолжали лсить на одном дворе с посланником, но к ним была приставлена особая стража. Несмотря на все просьбы, им не удалось ни разу дать знать о себе даже своим семьям, которых не видали семь лет. Наконец эти японцы узнали от одного из переводчиков, что Кодая, которого много лет назад привез из Сибири поручик Лакеман, продолжает находиться в заключении, хотя тоже попал за пределы своей страны совершенно невольно.
Один из четырех японцев не выдержал томительного ожидания и попытался покончить с собой. Ему помешали, схватив за руку, но он успел нанести себе тяжелую рану. Однако и этот

Японские караульные.
С гравюры из атласа Крузенштерна.
случай не изменил положение заключенных японцев. Каждый день приезжал японский врач и осматривал рану; приезжали баниосы, подолгу допрашивавшие больного, но он попрежнему оставался под караулом. Японцам, попавшим на родину после стольких испытаний, пришлось убедиться, что они останутся в подозрении на всю жизнь и, может быть, никогда не смогут увидеться с родными.
Наконец в конце марта губернатор передал через переводчиков, что в ближайшие дни приедет в Нагасаки один из важнейших японских вельмож, имеющий сан даймио – государственного советника. Даймио должен был объявить от имени императора решение относительно русского посольства.
«Мы поняли, что император, послав важного государственного советника объявить свою волю, решил не принимать российского посланника. Известить о позволений приехать в Иедо можно было и .через курьера. К тому же японцы начали осведомляться, все ли исправления на корабле закончены и может ли он выйти в плавание. Мы стали готовиться к отплытию», рассказывал потом капитан Крузенштерн.
Обер-баниоеы посетили Резанова и заявили, что при беседе е даймио и губернатором он должен проявить подобающую почтительность.
– Когда будет говорить с вами даймио, вы должны пасть ниц и слушать, склонив голову к полу, – заявили японцы.
– На это я не соглашусь ни в каком случае, – ответил Резанов.
– Но ведь даймио будет говорить от имени императора, и вы должны оказать ему соответствующее почтение.
– Но ведь и я тоже представитель своего императора и не могу допустить, чтобы он унижался в моем лице, – возражал посланник.
Японцы е недоумением качали головами, толковали о чем-то между собой и решались пойти на некоторые уступки.
– Вы, по крайней мере, станьте на колени и низко поклонитесь, – предлагали обер-баниоеы.
■– И этого не сделаю. Поклонюсь так, как полагается по требованиям вежливости, принятым во всех европейских государствах, – говорил Резанов.
– Да поклониться подобающим образом совсем нетрудно, – уговаривали японцы.
Переводчики склонялись до земли, доказывая, что такие поклоны можно делать без всяких усилий.
– Я прибыл в Японию не поклонам вашим учиться, а говорить о делах государственной важности, – сказал посланник, потеряв наконец терпение.
После долгих споров выработали церемониал встречи. Посланник согласился оставить шпагу в передней и войти в зал, по японскому обычаю, без обуви. Поклонившись по-европейски, он должен был затем сесть на цыиовки, постланные на полу.
В день встречи посланнику опять было предоставлено великолепно украшенное судно для поездки -в Нагасаки. Небольшая

Во дворе доив, отведенного русскому посланнику в Мегасакн.
О гравюры из книги Лангсдорфа.
крепость у входа в гавань была украшена флагами, а на пристани выстроен почетный караул. Здания на улице, которая вела к дому губернатора, тоже были украшены флагами, но все окна оказались завешанными. Не было видно ни одного прохожего: полиция строго запретила жителям появляться на пути, по которому проследует российское посольство.
Даймио и губернатор приняли посланника холодно.
Они заявили, что император Японии удивлен, почему российский император обратился к нему е грамотой, хотя известно нежелание Японии входить в сношения с другими государствами. В Японии уже два столетия сохраняется правило, запрещающее впускать в страну кого-либо, кроме голландцев и китайцев, с которыми ведется торговля в ограниченных размерах. Япония сама производит все, что ей нужно, а то небольшое количество европейских товаров, которое требуется, она уже получает от голландцев.
– Подарок император Японии принять отказывается. Иначе он должен был бы, в свою очередь, послать дары со своим посольством в Россию, а это невозможно, потому что японцам строго запрещено законом выезжать из отечества, – говорил даймио.
Б заключение он сказал, что японский император приказал выдать бесплатно провизию команде русского судна для обратного плавания и жалует в подарок членам посольства и морским офицерам две тысячи шелковых ковриков.
Резанов ответил, что российский император, послав грамоту и подарки в знак дружбы, не нуждается в том, чтобы его отдаривали. Россия – могущественное государство, дружба с которым может быть только лестна, поэтому странно, что приезд российского посольства рассматривается в Японии как какой-то проступок.
Старший переводчик, вежливо улыбаясь, сказал, что если узел дружбы затягивают с разных сторон два человека, большой и маленький, то большой всегда перетянет маленького. Поэтому маленькой Японии лучше не затягивать узла дружбы с большой Россией.
Посланник заявил, что не желает принимать бесплатно провизию от японцев, которые заставили российское посольство полгода провести бесплодно, живя, как в заключении. Он отказался и от подарков, пожалованных японским императором. Но губернатор ответил, что такой отказ оскорбителен для японского императора и придется послать в Иедо запрос, как следует поступить в таком случае, и российский корабль вынужден будет остаться до получения ответа. Это значило, что придется прождать еще не менее двух месяцев.
Посланник предпочел взять провиант бесплатно и принять императорский подарок, несмотря на обидный отказ японцев вести переговоры. В середине апреля капитан Крузенштерн, передав японским властям четырех привезенных японцев и получив назад все оружие, свезенное с корабля, вышел в обратное плавание.
– Переговоры с японцами не удались, но наше плавание, однако, окажется все же удачным, ежели послужит на пользу географической науке, – сказал Крузенштерн.
Он решил поэтому плыть к Камчатке не торопясь, чтобы не только нанести на карту часть побережья Японии, но и обследовать берег Сахалина, о котором знали еще очень мало.
Крузенштерн внимательно читал описание плавания Лаперу-за, положившего начало исследованию этих мест, и видел, как недостаточны сообщения французского мореплавателя, несмотря на всю их важность.
В то время, когда Лаперуз плыл мимо северо-западной Японии, стояла очень пасмурная погода,
«Мы часто вынуждены были итти в густом тумане, как будто наощупь. Мне кажется, что по туманности это море не может сравниться ни с каким другим», писал Лаперуз.
Когда туман рассеивался, Лаперуз видел серые скалы, зеленый берег, а за ним горные цепи со снежными вершинами.
Он спешил нанести на карту линию берега, как она была видна с корабля, но земля обычно скоро опять скрывалась в тумане.
«Я желал к открытиям Лалеруза присоединить и наши изыскания», писал впоследствии Крузенштерн.
«Надежда» отошла от Нагасаки в дождливый день, когда нависшие над морем облака закрывали горизонт. Потом погода еще ухудшилась, несколько раз начинался шторм, и приходилось держаться вдали он берегов.
Но когда «Надеясда» поровнялась с северо-западной частью Ниппона, погода значительно улучшилась. С палубы хорошо был виден высокий извилистый берег. Убавив паруса, чтобы корабль шел медленнее, Крузенштерн старался возможно более точно определять географическую широту и долготу заливов, гор и полуостровов. Убеждаясь, что они еще не обозначены на картах, Крузенштерн давал им русские названия.
Когда в начале мая подошли к острову Иезо, оказалось, что весна здесь едва началась и листья на деревьях еще не вполне
распустились. Крузенштерн дошел до северного берега острова и ввел корабль в залив, который назвал именем графа Румянцева. Коренные жители острова, айны, подплыли к кораблю на лодке, согласились взойти на палубу и охотно стали менять свежую рыбу на разные мелочи.
Крузенштерн и его спутники побывали на берегу, куда знаками приглашали их айны. Русские моряки встретили здесь нескольких японских купцов, торговавших с айнами, и японского офицера, который пришел в замешательство, увидев русских людей. Оказалось, что он жил на острове Иезо еще в то время, когда туда прибыл поручик Лаксман. Японец даже выучился у него немного говорить по-русски.
Японский офицер усомнился сперва в том, что капитан Крузенштерн и его спутники действительно русские.
– Русские офицеры носят косы, – говорил японец.
Крузенштерн сперва удивился, а потом понял, в чем дело: в
царствование Екатерины II, когда поручик Лаксман плавал к Японии, русские офицеры носили парики, действительно заплетавшиеся сзади в косы.
Японский офицер сказал, что должен будет немедленно донести о прибытии русских в город Матсмай, и оттуда пришлют большой отряд солдат.
– Бум, бум, – говорил офицер, показывая жестами, что солдаты, которые прибудут из Матсмая, откроют стрельбу.
Он уговаривал капитана поскорее плыть дальше. Крузенштерн успокоил его, сказав, что не собирается здесь задерживаться.
На карте, которой пользовался Крузенштерн, был обозначен против острова Иезо, за проливом Лаперуза, Сахалин. Но на японской карте, взятой в свое время у Кодая, отвезенного в Японию Лаксманом, был нанесен вблизи Иезо остров Карафуто. Крузенштерн пересек пролив Лаперуза и убедился, что в этих местах нет другого большого острова, кроме Сахалина. Слово «Карафуто» оказалось японским названием Сахалина.
«Надежда» обошла мыс Анива, на южном берегу Сахалина, и бросила якорь в большом заливе.
Восемнадцать лет назад здесь останавливался Лаперуз.
зоо

На берегу острова Иезо.
С гравюры из атласа Крузенштерна.
Французские моряки побывали на берегу и встретили здесь айнов. На них были одежды из звериных и собачьих шкур, а в руках – луки и копья. Айны робко и неохотно допустили французских моряков в свои крытые корою жилища. Лаперуз и его спутники видели у них только запас рыбы и немного разных шкур.
«Они так бедны, что не имеют основания опасаться ни честолюбия завоевателей, ни жадности торговцев», записал Лаперуз.
Капитан Крузенштерн убедился, что Лаперуз ошибся. Русские моряки увидели за мысом Анива японское судно, а на берегу встретили не только японских купцов, но и двух офицеров, которые должны были охранять с небольшим отрядом солдат японский торговый поселок на Сахалине.
Айны были бедны, но море около их берегов было невероятно богато рыбой. Летом в устья сахалинских рек заходило столько рыбы, что не нужно было забрасывать сетей: ее просто
черпали ведрами. А в густых лесах Сахалина водилось много зверей. Японцы стали очень дешево выменивать у айнов сушеную рыбу и шкуры на лакированную посуду, ткани и рис.
Русские моряки увидели на берегу несколько японских домов и восемь новых амбаров, наполненных сушеной рыбой и солыо до самого потолка, А в другом маленьком поселке они видели больше трехсот айнов, потрошивших и соливших рыбу под надзором японских надсмотрщиков. Японцы обращались с ними, как господа, и смотрели на них, как на людей низшей расы.
Два японских офицера в синих шелковых кимоно, с саблями за широкими кушаками, встретили русских моряков около поселка. Вдали от родины эти японцы не проявляли той боязливой осторожности, с которой относились к чужеземцам в своей стране.
Офицеры пригласили русских моряков к себе. Их дом оказался устроенным таким же образом, как в Японии: так же одна из стен представляла собою раму, оклеенную прозрачной бумагой, хорошо пропускавшей свет; так же пол был устлан светлыми и чистыми цыновками.
Гостей пригласили сесть на цыновки. Но, поняв, что русские не умеют сидеть на полу, поджав ноги, японцы принесли и поставили два бочонка, на которые положили доску, чтобы получилась скамейка.
Потом началось угощение. В четырехугольных деревянных тарелках подали вкусно сваренный рис, а в круглых лакированных чашках – вяленую рыбу. Гостям дали гладкие деревянные палочки, заменяющие японцам вилки, и показали, как надо с ними обращаться.
– Мы шесть месяцев прожили в Японии, а впервые попали в дом к японцам только на Сахалине, – говорили русские моряки.
К вечеру они вернулись на корабль, добравшись до него с большим трудом, потому что внезапно поднялся сильный ветер и волны едва не потопили шлюпку.
«Надежда» снялась с якоря и пошла к северу вдоль восточного берега Сахалина, Капитан вел корабль недалеко от земли и тщательно наносил на карту ее очертания.

Моряки из команды де-Лаперуза на Сахалине.
С гравюры из атласа к путешествию капитана де-Лаперуза.
Плавание вдоль берега Сахалина продолжалось десять дней. Потом встретилось неожиданное препятствие: хотя было уже 26 мая, впереди показался пловучнй лед. К тому же поднялся сильный ветер, и оставаться вблизи берега стало опасно.
Дойдя до 48-го градуса северной широты, капитан Крузенштерн отошел от Сахалина и взял курс к Камчатке. Он хотел при этом уточнить попутно положение некоторых Курильских островов, проверив, правильно ли обозначены они на картах.
В конце мая «Надежда» подошла к одиннадцатому Курильскому острову, но пасмурная погода и сильные ветры мешали наносить на карту берега. Крузенштерну удалось все же внести некоторые исправления в имевшиеся у него карты. Потом, убедившись, что встречаются подводные камни и мелкие острова, которые трудно во-время увидеть в густом тумане при бурной погоде, он вынужден был держаться дальше от земли.
зоз
«Мы не могли не почитать себя после особенно счастливыми, что при сильной буре и мрачной, темной погоде, в которую зрение не простирается и на 50 саженей, не брошены были на какой-либо риф или остров. В таковом случае кораблекрушение и всеобщая гибель, конечно, были бы неизбежны», писал впоследствии Крузенштерн.
Утром 4 июня впереди показался скалистый мыс Лопатка, крайний южный выступ Камчатской земли. Затем увидели вдалеке белый пик Авачинской горы, а к вечеру следующего дня «Надежда» вошла в Петропавловскую гавань.
С тех пор как «Надежда» вышла в плавание из Авачинского залива, прошло девять месяцев. За это время ее команда не имела никаких вестей не только о родных, но и о том, что происходит в Европе. Теперь удалось наконец получить письма, и хотя они шли до Камчатки многие месяцы, им радовались, как только что написанным. Среди известий, которые содержались в письмах, самым интересным было сообщение, что первый консул Французской республики Наполеон Бонапарт стал императором Франции.
V
Подходил к концу второй год с того дня, когда «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта. За это время русские моряки впервые совершили плавание от Балтийского моря до российских владений на Тпхом океане и затем побывали у берегов Японии. Оставалось, взяв меха Российско-Американской компании, отвезти их в Китай и закончить кругосветное плавание, вернувшись в Россию.
Было решено, что «Нева», находившаяся у Алеутских островов, возьмет там большой груз мехов, пойдет с ним осенью прямо в Китай и встретится с «Надеждой» в Кантоне. «Надежде» следовало выйти из Петропавловской гавани с мехами, которые должно было привезти на Камчатку в сентябре судно Российско-Американской компании «Константин». Время, оставшееся до прихода «Константина», Крузенштерн решил использовать для новых исследований.
На обратном путы из Японии льды помешали докончить описание северо-восточной части Сахалина. Они должны были растаять в летние месяцы. Поэтому Крузенштерн решил теперь, не теряя времени напрасно, итти из Петропавловской гавани к мысу Терпения, на восточном берегу Сахалина, до которого он дошел по пути из Японии. Потом, пройдя оттуда вдоль берега к северной оконечности Сахалина, он хотел исследовать с севера пролив между Сахалином и материком. Это надо было сделать, чтобы выяснить еще не решенный вопрос, является ли Сахалин ■островом или полуостровом.
Лаперуз, побывав у южного побережья Сахалина, вошел в Татарский пролив, отделяющий его от материка. Корабли Ла-перуза прошли некоторое расстояние по проливу и вынуждены были остановиться, потому что глубина уменьшилась до шести сажен. Лаперуз послал вперед одного из лейтенантов на шлюпке, чтобы исследовать пролив. Лейтенант вернулся с сообщением, что чем дальше, тем мельче становится пролив. До конца его дойти не удалось за недостатком времени.
«Это постепенное уменьшение глубины пролива показывает, что впереди земля. Надо думать, что пролив преграждается перешейком», записал Лаперуз.
Крузенштерн решил пойти в пролив с севера и послать большую лодку с заданием дойти оттуда до того места, где остановился Лаперуз. Если бы это удалось, то, исследовав пролив с противоположного конца, можно было выяснить, верно ли предположение Лалеруза, что Сахалин соединен с материком перешейком.
Исследование Татарского пролива важно было и по другой причине. Было известно, что в него впадает Амур. Устье, этой реки принадлежало китайцам, а реки Ингода и Шилка, дающие начало Амуру, протекали по Российской земле. Рано или поздно х.мур должен был стать важнейшим водным путем из Сибири в Тихий океан. Поэтому следовало собрать возможно больше сведений о том, куда впадает эта река,
В начале июля «Надежда» вышла из Авачинского залива и пошла на юг. Через две недели корабль приблизился к длинному, но низкому мысу Терпения. На карте он был показан далеко
вытянувшимся в море между 48 и 49-й параллелями, а дальше^ к северу, берег Сахалина оставался неизученным.
Крузенштерн пошел к северу, держась на таком расстоянии от земли, чтобы можно было хорошо видеть очертания берега,
Море вокруг корабля было полно жизни. Очень часто встречались киты и сивучи, а тюлени то и дело высовывали из воды головы, как будто с любопытством разглядывая судно. Чайки и утки разных видов во множестве плавали вблизи без всякой боязни.
– Птицы пребывают здесь в ненарушимом покое, – заметил Крузенштерн.
Иногда видели желтоватые скалы, но по большей .части берег был низок и однообразен. На невысоких холмах стоял лес, в долинах видели высокую зеленую траву. Но совсем не встречали признаков жилья.
Нанося на карту берег, Крузенштерн шел больше двух недель к северу вдоль земли, казавшейся необитаемой и скучной, потому что каждый день виден был почти один и тот же пейзаж.
Утром 8 августа вдруг увидели довольно высокие горы, между которыми зеленели ложбины. У воды стояли черные гранитные скалы. Потом берег круто повернул к западу. Крузенштерн понял, что дошел до крайней северной точки Сахалина. Она оказалась лежащей за 54-м градусом северной шпроты.
Теперь, выяснив, где находится крайняя точка северного берега и зная положение южного побережья, определенного еще Лаперузом, можно было установить длину Сахалина. Оказалось, что она равна 850 верстам.
– Сахалин больше иного европейского государства, например Дании, – говорили на корабле.
«Надежда» прошла вдоль северного берега Сахалина. Крузенштерн нашел здесь небольшой поселок. У жителей был монгольский тип лица, и Крузенштерн причислил их к татарам. Они предлагали русским морякам лисьи шкуры, но старались не допустить их к домам.
Крузенштерн не стал здесь задерживаться. Обогнув северный берег, «Надежда» вошла в пролив, отделяющий Сахалин от материка.
Крузенштерну очень хотелось описать северо-западный берег Сахалина. Но чем дальше его корабль шел по проливу, тем .меньше становилась глубина. Вскоре пришлось остановиться.
Так же как Лаперуз, пытавшийся исследовать пролив с юга, Крузенштерн послал на разведку шлюпку под начальством старшего лейтенанта.
Оказалось, что и с севера глубина пролива тоже постепенно уменьшается. Но здесь встретилось еще одно затруднение: шлюпке прпшлось плыть против течения, которое ,чем дальше, тем становилось сильнее. Вода сделалась совсем пресной. Было очевидно, что река Амур, впадая в пролив, создает здесь течение, против которого приходится бороться.
Шлюпка продвигалась вперед очень медленно, и гребцы выбивались из сил. Лейтенант вернулся, не дойдя до того места, где остановился Лаперуз.
Постепенное уменьшение глубины и пресная вода в проливе, по мнению Крузенштерна и его спутников, подтверждали предположение Лаперуза.
– Вода Амура оттого, должно быть, наполняет пролив, что за устьем сей реки имеется перешеек. Оттого так и стремительно здесь течение, что наталкивается на преграду, – говорили они.
Так установилось мнение, что Сахалин – полуостров, продержавшееся до тех пор, пока в 1849 году капитан Невельский не прошел через весь пролив от одного конца до другого.
В середине августа «Надежда» отошла от Сахалина и взяла курс на северо-восток, к Камчатке. Через две педели корабль вошел в Авачпнекий залив. Его появление вызвало переполох в Петропавловске. «Надежду» приняли за неприятельское судно. Жители стали спешно собирать пожитки, чтобы бежать в горы.
«Еще не было никаких вестей о начале войны с Францией. Уходя в плавание к Сахалину, я говорил, что вернусь не позже чем через два месяца. И все лее жители Петропавловска готовы были скорее поверить, что неприятельский фрегат обошел полсвета для того, чтобы напасть на их местечко, все богатство коего состоит в некотором количестве сушеной рыбы, нежели предпололшть, что мы возвращаемся точно в назначенное время», писал впоследствии Крузенштерн.
В Петропавловске капитан начал деятельно готовиться к обратному плаванию в Россию. Пришлось переменить некоторые снасти и приложить немало усилий, чтобы были доставлены вовремя запасы рыбы и соленого мяса, пригнаны из Верхнс-Кам-чатска быки, заготовлены овощи и бочки с черемшой.
В конце сентября судно «Константин» привезло с Алеутских островов шкурки морских бобров и котиков, которые «Надежда» должна была взять в Кантон. Оказалось, однако, что их сравнительно немного. Российско-Американская компания решила большую часть мехов отправить прямо в Кантон на «Неве». Там меха должны были быть проданы, а на вырученные деньги предполагалось закупить китайские товары в таком количестве, чтобы нагрузить полностью не только «Неву», но и «Надежду».
В начале октября «Надежда» вышла из Петропавловской: гавани и направилась к Южному Китаю, куда еще ни разу не приходил российский корабль из Камчатки.
Это плавание во многом напоминало прошлогоднее. Так же как год назад, когда плыли к Японии, сперва долго стояли туманы. Только теперь было еще холоднее: когда выходили из Авачинского залива, шел густой снег. Потом вдруг потеплело, а затем разразился жестокий ураган. Он неистовствовал е такой же силой, как прошлогодний тайфун, только оказался короче.
В середине ноября миновали большой китайский остров .Формозу. Вслед за тем увидели странную флотилию: выстроившись в одну линию, как будто перед боем, стояли триста китайских джонок разной величины. Они походили на большие лодки с мачтами, на которых поднимались паруса из бамбуковых цыно-вок, и с каютой на палубе. Среди них заметили и несколько судов значительно большего размера.
Русские моряки подумали, что джонки вышли на рыбную ловлю. Только потом узнали, что подвергались немалой опасности, так как это была флотилия китайских пиратов, нападавших на торговые корабли. Незадолго перед тем пираты захватили два торговых португальских судна, перебив их команду.
На «Надежду» они не решились напасть. Через два дня корабль благополучно вошел в порт Макао, недалеко от которого находится Кантон.

Макао.С
гравюры из атласа к путешествию капитана дв-Лаперузи.
Иностранные корабли, направлявшиеся в Кантон, почти всегда заходили в Макао, потому что этот норт принадлежал европейской державе – Португалии. Люди, приезжавшие из разных государств Европы, могли жить здесь круглый год, а в Кантон допускались с некоторыми ограничениями и на определенный срок.
Португальцы еще в XYI веке утвердились на маленьком островке Макао. Они занимали на нем полуостровок, отгороженный стеной, за пределы которой европейцы не имели права выходить. Там вырос порт, где сосредоточилась международная торговля: английские, американские, голландские, датские корабли стояли подолгу в Макао, уходя в Кантон лишь тогда, когда предстояло совершать крупные торговые сделки.
На набережной Макао возвышались красивые и удобные дома иностранных купцов. А за набережной в узеньких улицах жили китайцы: -торговцы, ремесленники, рыбаки.
Городом управлял португальский губернатор, и в маленькой крепости стояли на страже португальские солдаты. Но китайские чиновники – мандарины – мало считались с португальскими властями и вмешивались в их распоряжения. Богатые английские купцы пользовались здесь гораздо большим влиянием, чем португальцы, которые могли только вспоминать о том, что их государство было когда-то значительной торговой державой, впервые проникшей в далекие восточные страны.
Капитан Крузенштерн уже бывал в Макао в те годы, когда плавал на английских судах. Он имел здесь знакомых среди англичан и мог расспросить их о том, как сбывают в Кантоне товары, которые привозят европейские корабли.
– Каждый европейский корабль обмеривается в Кантоне мандаринами. С больших кораблей берется очень большой налог. Поэтому итти туда имеет смысл только, если на корабле много товаров, продажа которых окупит этот расход, – говорили англичане.
«Надежда» привезла слишком мало мехов. Крузенштерн решил. что надо ждать в Макао «Неву», которая должна была доставить меха на большую сумму. Тогда оба корабля могли бы вместе пойти в Кантон, чтобы после продажи мехов взять там китайские товары и направиться в Кронштадт. Но «Нева», которой, по расчетам Крузенштерна, уже давно следовало прибыть в Китай, не приходила.
Крузенштерн долго ждал в Макао, не придет ли «Нева», и наконец решил возвращаться в Россию без нее. Только в начале декабря, когда «Надежда» уже готовилась выйти в море, «Нева» наконец пришла.
Капитан Лисянский рассказал, что не напрасно провел больше года у Алеутских островов и Аляски.
Он подробно исследовал очертания нескольких островов, раньше обозначавшихся на картах лишь приблизительно. Удалось точно измерить глубину ряда заливов, которые могли служить гаванью кораблям.
Имеете с тем пришлось принять участие и в борьбе против индейцев, нападавших на русские поселения на Аляске.
За два года до прихода «Невы» индейцы из племени тлинки-

У берега острова Ситха.С
гравюры из атласа к путешествию капитана Литке.
тов, или колошей, как их обычно называли русские, захватили укрепленный поселок Российско-Американской компании на острове Ситха.
Русские промышленники вместе с отрядом алеутов воевали против индейцев, пытаясь вернуть укрепление, как раз в то время, когда пришла «Нева». Матросы под командой одного из лейтенантов пошли иа приступ. Индейцам удалось убить трех матросов и нескольких ранить. Но победа осталась в конце концов за русскими. Ночыо индейцы покинули укрепление, бросив свои запасы.
На этом месте построили небольшую деревянную крепость Новоархаигельск. Капитан Лисяиский дал для нее несколько пушек со своего корабля.
В начале сентября 1805 года «Нева» отошла от берега Сит-хи, направляясь в Кантон с мехами Российско-Американской
компании. Груз стоил несколько сот тысяч рублей золотом. Однако доставить его благополучно нужно было не только по зтой причине. Важно было доказать, что российские корабли могут совершать далекое и трудное плавание от Аляски до Южного Китая. Только проложив этот путь, можно было избавиться от бесполезной затраты времени и от разных потерь, происходивших при отправке мехов в Китай через Охотск.
Стояли туманы, и часто приходилось бороться с противными ветрами. Однако «Нева» медленно, но неуклонно шла на юго-запад. Через несколько недель северная часть Тихого океана осталась позади.
Девятого октября капитан сделал запись:
«Сегодня показались тропические птицы и множество летучей рыбы. По сему мы наверное заключить могли, что уже удалились от тех мест, где почти непрерывно обитали туманы».
В продолжение многих дней с палубы видно было только безбрежное море. Но 15 октября вдруг появилось очень много птиц. Капитан постацил матросов на мачтах, предполагая, что поблизости должен быть какой-нибудь остров, не обозначенный на картах. Однако земли не было видно.






