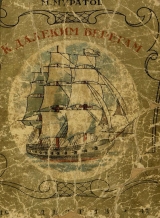
Текст книги "К далеким берегам"
Автор книги: Михаил Муратов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
В апреле 1750 года Крашенинников был назначен профессором натуральной истории и ботаники. Он сделался первым русским ботаником, пришедшим в Академию наук на смену иностранным ученым.
Уже через несколько месяцев новый академик получил поручение, считавшееся почетным. На торжественном публичном
собрании Академии наук Крашенинников произнес речь *0 пользе наук и художеств в государстве».
– Степан Петрович сам проложил себе путь к благополучию. – говорили люди, знавшие Крашенинникова.
Но благополучие не пришло.
Крашенинников как младший из академиков получал наименьшее жалованье, а семья его была очень велим. Он часто жаловался на нужду и долги. Здоровье начало изменять.
А между тем Крашенинникову пришлось взять на себя надзор за ученьем студентов, которые должны были слушать лекции академиков. Это была трудная и неприятная работа, потому что настоящего университета при Академии наук не было и занятия велись без определенного плана. Крашенинников вынужден был тратить много сил на это дело.
Он продолжал упорно работать над своей книгой. Крашенинников назвал ее «Описание земли Камчатки». Однако это было не простое географическое описание. Крашенинников одинаково обстоятельно рассказывал о горах и реках, животных и растениях Камчатской земли, о ее покорении и о жизни ее населения.
Он передавал свою рукопись по частям в Академию наук. А потом, после обсуждения на заседаниях, снова начинал над ней работать, стараясь сделать все улучшения, какие только были возможны.
– Книга содержит изрядные известия о земле Камчатке и достойна напечатания, – сказал Ломоносов, прочитав рукопись.
Другие академики также признали, что ее следует непременно издать. В 1753 году книга .поступила в типографию.
Печатание пошло медленно. Крашенинников начал хворать. Все чаще и чаще он пропускал из-за болезни заседания в Академии наук. В январе 1755 года он слег окончательно.
В феврале 1755 года печатание книги подошло к концу. Уже отпечатали последний лист. Осталось только сброшировать отпечатанные листы вместе с предисловием, которое еще не было готово.
Но Крашенинникову не было суждено увидеть книгу изданной: 25 февраля он умер.
«Он был из числа тех. кто ни знатною природою, ни фортуны благодеянием не предпочтены, но сами собою, своими качествами и службою, произошли в люди», написал о Крашенинникове академик Миллер в предисловии к «Описанию земли Камчатки».
Книга Крашенинникова была встречена общим одобрением. Она оказалась замечательным исследованием, написанным очень полно, очень точно и очень ясно. Таких книг не было не только об отдаленной Камчатке, но и о землях, хорошо известных европейским ученым.
«Описание земли Камчатки» перевели на французский, английский, немецкий и голландский языки. Потом эта книга не раз переиздавалась и в России и за границей.
Солдатский сын Крашенинников стал не только первым русским ученым-ботаником, но и автором первой русской научной книги, получившей известность в разных странах.


КРУГОМ СВЕТА 1
В начале августа 1803 года ветры на Балтийском побережье долго дули с моря. На рейде у Кронштадта скопилось несколько' десятков кораблей, ждавших, когда переменится погода.
Развевались флаги разных государств: английские, датские, голландские, немецкие. Иностранные корабли возвращались из Петербурга, куда приходили, чтобы отвезти изделия своих стран и взять российские товары.
Два русских трехмачтовых корабля привлекали общее внимание. Оба были недавно отремонтированы, окрашены и казались совершенно новыми. На корме у одного блестела только что выведенная надпись: «Надежда», а у другого– «Нева».
В трюмах кораблей помещался самый разнообразный груз: железо и мануфактура, канаты и мука, топоры, котлы, ящики с иголками, бусами и другой мелочью. Но большому количеству
бочек с солониной, предназначавшейся для команды, можно было легко догадаться, что корабли уходят в очень долгое плавание.
Погрузкой распоряжались два пожилых, солидных приказчика, гораздо больше походившие на самостоятельных купцов, чем на торговых служащих. Они и сами собирались плыть о грузом.
Молено было бы сказать уверенно, что корабли уходят в плавание с торговыми целями. Но у их бортов стояли начищенные до блеска пушки, на командирах кораблей были капитан-лейте-нантские мундиры, а команда состояла из отборных военных матросов.
Были и другие особенности, отличавшие эти корабли от всех остальных.
На «Неве» и «Надежде» установили астрономические инструменты, хронометры и другие приборы, изготовленные лучшими английскими мастерами. На корабли погрузили несколько ящиков с книгами.
Больше всего было английских, потом французских книг. На корешках трех томов, переплетенных в желтую кожу, можно было прочесть название, записанное по-английски: «Путешествие капитана Кука в северный Тихий океан». Четыре изящно изданные французские книжки были озаглавлены: «Путешествие де-Лаперуза вокруг света». А одна старая толстая книга, напечатанная еще полвека назад, была переводом на русский язык. У нее было несколько нескладное название: «Путешествие около света, которое совершил адмирал лорд Айсон».
На каждом корабле должен был плыть врач с хорошо подобранной аптекой. Каждый матрос был снабжен тюфяком и подушкой, простыней, одеялом и сундучком с запасом нового, добротного белья и одежду, выписанной из Англии.
Только эти корабли посещали знатные гости. Первым приехал видный петербургский чиновник и делец Резанов, недавно пожалованный званием камергера. Побывав на «Надежде», он велел приказчику Шемелину, следившему за погрузкой корабля, доставить в одну из лучших кают мягкую мебель.
– Его превосходительство господин посланник изволил выбрать каюту для себя, – сказал потом Шемелин другому приказчику, Коробицыну, распоряжавшемуся погрузкой «Невы».
В Кронштадт прибыл сам молодой император Александр 1 со свитой, чтобы осмотреть «Надежду» и «Неву». А через несколько дней корабли посетили самый образованный из русских сановников, министр коммерции граф Румянцев, н товарищ морского министра адмирал Чичагов.
1 – Пойдут в путь, доселе не изведанный россиянами, – говорили жители Кронштадта, поглядывая с набережной на «Неву» и «Надежду».
Ранним утром 7 августа подул долгожданный попутный ветер.
Командир фрегата «Надежда» Иван Федорович Крузенштерн стоял на капитанском мостике, отдавая последние распоряжения. Ему было всего тридцать три года, но во всем его облике и в тоне, которым он давал приказания, чувствовалась спокойная уверенность опытного морского офицера.
Крузенштерн был еще восемнадцатилетним гардемарином, когда в 1788 году началась война со Швецией, продлившаяся два года. Его назначили, на боевой корабль.
В морских сражениях он проявил смелость и распорядительность. Поэтому он попал в число двенадцати лучших морских офицеров, которых послали в Англию. Служа в английском флоте, русские моряки должны были усовершенствоваться в мореплавании.
Шесть лет плавал Крузенштерн на английских кораблях. Он побывал и у берегов Северной Америки, и в Индии, и в Китае. Там, в торговом городе Кантоне, он видел, как пришло от берегов северо-западной Америки небольшое английское купеческое судно, привезшее на продажу меха. Груз был продан за шестьдесят тысяч пиастров – более ста тысяч рублей на русские деньги.
«Все роды мехов, а особливо прекрасных морских бобров, сделались для изнеженных китайцев необходимой потребностью. При малейшем уменьшении теплоты воздуха переменяют они свое платье и даже в Кантоне, лежащем почти под самыми тропиками, носят зимою шубы», писал потом Крузенштерн.
Он знал, что на Командорских и Алеутских островах русские промышленники добывали каждый год очень много котиков, морских бобров, песцов п других зверей. На северо-западном берегу
Америки, на Аляске, вблизи тех мест, куда первыми пришли капитаны Беринг и Чириков, уже выросли небольшие деревянные укрепления и были водружены медные гербы с надписью: «Земля Российского владения».

Капитал Крузенштерн.
Русские промышленники приплывали туда для охоты, а купцы – чтобы выменивать у индейцев и алеутов на свои товары дорогие меха. Но лишь с величайшими трудностями доставляли эти меха в Россию, а оттуда в Китай и другие государства.
На маленьких, ненадежных судах перевозили шкурки в Охотск. Потом их везли на вьючных лошадях в Якутск.
Затем часть мехов отправлялась в Забайкалье, в торговую слободу Кяхту, куда приезжали китайские купцы.
Два года проходило, пока меха, отправленные этим путем, попадали из Аляски в Кантон. Почти столько же времени шли меха до Петербурга. Очень много шкурок портилось в пути. А английскому судну потребовалось на плавание из Китая до ‘ северо-западной Америки и обратно в Кантон всего пять месяцев.
Крузенштерн слышал о том, что провиант и другие грузы доставляются из России на Алеутские острова через Охотск и Камчатку с величайшим трудом. Только для того, чтобы перевезти их по тропе от Якутска до Охотска, требовалось ежегодно четыре тысячи выочпых лошадей. Поэтому пуд муки на Камчатке стоил в двадцать раз дороже, чем в Европейской России.
– Надобно все потребное для русских поселений на Тихом океане отправлять из Петербурга морем. Доставив грузы на
Камчатку, Алеутские острова и в российские поселения на американском берегу, корабли возьмут там меха. На обратном пути зайдут в Кантон либо в другой китайский порт и доставят туда часть мехов. Там погрузят чай п прочие китайские товары, доставка коих в Россию сушей стоит весьма дорого. Потом, по пути в Петербург, можно зайти и в Индию за ее товарами, которые англичане доставляют в Европу с немалой для себя выгодой. Такие плавания принесут нашему отечеству великую пользу, – говорил Крузенштерн.
Русские корабли уже давно ходили в Средиземное море. Но они еще пи разу не пересекали экватор. А для того, чтобы совершить плавайце из Петербурга к Камчатке и к Алеутским островам, в то время нужно было обогнуть Африку или Южную Америку.
Крузенштерн стал внимательно изучать все, что написано о кругосветных плаваниях. Еще обучаясь в морском корпусе, он слышал, как преподаватели говорили:
– За важнейшие между всеми плаваниями почитаются те, кои около всего земного круга предприняты.
Теперь он хотел узнать и заранее учесть весь опыт, накопленный великими мореплавателями. Крузенштерн думал не только о пользе нового плавания для российской торговли, но и об открытиях, которые можно сделать в океанах.
Он вернулся в Россию с .тщательно продуманным планом. Два корабля должны были итти от Петербурга к российским владениям в северо-западной Америке и возвратиться, обойдя вокруг земли. Они могли при этом исследовать еще не достаточно изученные моря и океаны, а вместе с тем привезти в Петербург меха и китайские товары.
Крузенштерн изложил свой проект в докладной записке. Мысль о плавании из Балтийского моря в Тихий океан была не совсем нова. Еще в то время, когда Крузенштерн оканчивал морской корпус, Адмнралтейств-коллегия решила послать корабли из Кронштадта к северо-западной Америке. Только война со Швецией помешала выполнить это решение. Однако на план Крузенштерна не сразу обратили внимание.
Тем временем крупные русские промышленники и купцы.
добывавшие и скупавшие меха на Камчатке, на Алеутских островах и в северо-западной Америке, создали единую «Российско-Американскую компанию». У новой компании были большие капиталы. Русское правительство взяло ее под свое покровительство.
– Расширяя свои промыслы, компания будет тем самым укреплять и российские владения на Тихом океане, – говорили в Петербурге.
Даже император Александр I приобрел несколько акций компании, заявив, впрочем, что собирается пожертвовать их на благотворительные цели.
Для успеха дела надо было наладить снабжение всем необходимым русских людей, промышлявших на Тихом океане, и доставлять без потерь меха.
– Доселе, как во времена капитана Берпнга, в Охотске строят только маленькие суда для плавания к Алеутским островам и к Америке. Суда сии столь ненадежны, что нередко гибнут со всей командой и грузом. Только на одном нашем судне «Феникс» погибли восемьдесят восемь человек и меха стоимостью на шестьсот тысяч рублей. А большое судно построить и хорошо снабдить в тех местах невозможно. Даже канаты для якорей, доставляя из Якутска в Охотск, на несколько частей разрезают, дабы на лошадей навьючить. И хотя потом их вновь сплетают, да положиться на такие снасти никак нельзя, – жаловались участники Российско-Американской компании.
Еще в 1790 году основатель Российско-Американской компании Шелехов доказывал, что надо посылать корабли из Балтийского моря в Охотск, на Камчатку и к Северной Америке. Теперь компания заявила, что готова приобрести два больших, хороших судна, годных для долгого плавания из Балтийского моря в Тихий океан и обратно. Компания соглашалась взять на себя расходы, связанные с плаванием, но не имела ни образованных, опытных капитанов, ни хорошо подготовленных матросов. Только моряки русского военного флота могли осуществить это дело.
Тогда вспомнили о проекте Крузенштерна. Морское министерство решило послать в плавание лучших офицеров и дать.
команду для кораблей. А Российско-Американская компания взяла на себя покупку новых судов и снабжение команды.
Идя через Тихий океан, можно было зайти в Японию. С этой страной все еще не были установлены дипломатические отношения и торговая связь. Поэтому правительство решило направить в Японию посольство. Посланником назначили камергера Резанова, принимавшего большое участие в делах Российско-Американской компании. Начальство над кораблями было поручено Крузенштерну.
«Наша экспедиция возбудит внимание не только в нашем отечестве, но и в Европе. Неудача не только помрачит мое имя, но и будет во вред России. Завистники в других странах обрадуются, а соотечественники могут надолго отказаться от таких плаваний. Я чувствую в полной мере важность сего поручения», писал Крузенштерн.
Он знал, что успех прежде всего зависит от тщательности подготовки плавания и выбора людей. Крузенштерн настоял, чтобы ему дали право самому подобрать офицеров и матросов. Прежде всего нужно было выбрать командира для второго судна экспедиции. По предложению Крузенштерна, на эту должность назначили капитан-лейтенанта Юрия Федоровича Лисянского, с которым он учился в морском корпусе.
Лисянский тоже отличился в морских сражениях со шведами и затем был послан в Англию. Так лее как и Крузенштерн, он несколько лет плавал по разным морям и океанам: обошел на английском корабле Африку, побывал в Индии и у берегов Америки. Он знал все, что должен знать капитан корабля, уходящего в далекое плавание, так нее хорошо, как и сам Крузенштерн.
Лисянекому сразу дали валшое поручение. Его послали в Англию, чтобы приобрести два надежных судна. Он выбрал в Лондоне два корабля в 450 и 350 тонн, построенные недавно, но уже испытанные в плаваниях, и привел их в Кронштадт.
Тем временем Крузенштерн заботливо подбирал участников экспедиции.
«Спокойный и веселый дух в таком путешествии столь же нужен, как и здоровье. А потому и не надлежит делать принуждения», писал Крузенштерн.
А капитан Лися некий собрал свою команду на палубе «Невы» в первый день плавания, чтобы высказать требования, которые все должны были запомнить. Он еще раз сказал, что плавание будет долгим, трудным и для успеха потребуется напряжение всех сил.
Поэтому даже матросы назначались в это плавание только в том случае, если шли охотно.
Все офицеры, начиная со старшего, опытного и деятельного лейтенанта Ратманова и кончая молодым, но знающим мичманом Фаддеем Боллинге -гаузеном, считали большой честыо для себя назначение в первое кругосветное плавание русских кораблей.
Выбирая людей, Крузенштерн говорил каждому о трудностях, которые придется пережить, и заранее требовал выполнения некоторых правил, обязательных в дальнем плавании.

Капитал Лисяневий.
– Соблюдайте всегда чистоту, от нее больше всего зависит здоровье в дальнем плавании. В полной чистоте надобно содержать и судно, и одежду, и свое тело. Живите дружно. Помните, что многие недели вам придется проводить вместе, в открытом море, не видя берегов. Не надоедайте друг другу ссорами —они больше всего ослабляют дух. А главное, наилучшим образом выполняйте любое приказание командира. В море иной раз малейшее промедление в исполнении приказа влечет гибель судна и людей. Строжайшее послушание никогда и никак не должно нарушаться, – сказал капитан Лисянекий.
В девять часов утра прозвучал сигнальный пушечный выстрел с фрегата «Надежда». На мачтах обоих кораблей взвились
паруса. Быстро подняли якоря. Слегка покачиваясь на небольших" волнах, «Надежда» и «Нева» направились к выходу в открытое море.
На мачтах иностранных судов, стоявших на Кронштадтском рейде, забелели паруса. Корабли снимались с якоря один за другим и следовали за «Надеждой» и «Невой», как белокрылая свита. Капитаны судов, мимо которых близко проходили оба фрегата, приподнимали шляпы и на разных языках выражали пожелание счастливого плавания. Все, кто плыл на «Неве» и «Надежде», стояли на палубах и смотрели на медленно удалявшийся берег.
От командиров до последнего матроса – у всех было торжественное, немного приподнятое и серьезное настроение, которое переживает человек, когда понимает, что в его жизни начинается новая глава.
п
Корабли ушли из Кронштадта в ясный, теплый, солнечный день. Посланник Резанов и два молодых блестящих гвардейских офицера., которые сопровождали его в качестве «кавалеров посольства», прохаживались по верхней палубе, с интересом поглядывая на работу матросов, быстро взбегавших по вантам к верхушкам мачт и .взбиравшихся на реи, чтобы закрепить, переменить или убрать какой-либо парус. Было приятно слышать новые, необычные звуки: легкий свист ветра в парусах, плеск воды о борт, мелодичный бой склянок, заменяющий бой часов( на кораблях. Казалось, надолго установилась прекрасная погода.
Но капитан Крузенштерн озабоченно поглядывал на барометр, который медленно, но неуклонно опускался. Вечером переменился и окреп ветер. Он дул теперь почти навстречу, и целую ночь пришлось лавировать. Поднимая и опуская паруса разной формы и величины и слегка поворачивая судно то в одну, то в другую сторону, удавалось использовать силу даже противного ветра: судно все-таки продвигалось вперед, хотя и шло почти в три раза медленнее, чем в первые часы плавания.
А утром небо заволокло облаками и ветер стал еще сильнее. На свинцово-сером море закачались белые гребни волн.
– Барашки забегали. – говорили матросы, поглядывая на море.
Участники посольства уже ие показывались на палубе. Корабли сильно качало, и люди, не привыкшие к морю, лежали по каютам, испытывая приступы морской болезни. А команда делала свое обычное трудное и опасное дело: на мерно опускавшихся и поднимавшихся верхушках мачт время от времени появлялись матросы, для того чтобы закрепить ослабевший парус, который начало трепать ветром, пли выполнить другой приказ.
На «Неве» один из лучших матросов сорвался с мачты и упал в море.
– Человек за бортом! —раздался крик на палубе.
С величайшей поспешностью спустили шлюпку. Матрос, палая с большой высоты, видимо сильно ударился о воду и скоро потерял сознание. Несмотря на то что он считался хорошим пловцом, спасти его не удалось.
Это несчастье, случившееся в первые дни, было как будто своего рода предупреждением: не только напряженная, но и точная работа, смелость и в то же время внимательная осторожность требовались от каждого моряка на парусном судне в дальнем плавании.
Десять дней шли корабли от Кронштадта до Копенгагена. За это время ветер менялся несколько раз, а около самого Копенгагена вдруг прекратился совсем. Корабли беспомощно остановились. Только на другой день им удалось войти в гавань датской столицы.
В Копенгагене пришлось простоять долго. Здесь надо было принять некоторые товары, закупленные Российско-Американской компанией за границей для русских поселений на Тихом океане. Пришлось вновь потратить много времени, чтобы пересолить запасы мяса, начавшего портиться, а потом противные ветры мешали выйти в море.
Эта задержка была очень досадна. Но зато здесь удалось увидеть много нового.
Вслед за «Надеждой» и «Невой» в Копенгаген пришли из
Кантона два больших корабля Азиатско-Датской компании. На их примере можно было увидеть, как много дает торговля с Китаем и Индией и каким гибельным может стать плавание, если нет заботы о здоровье команды. Только один из этих кораблей привез 25 тысяч пудов чая разных сортов, 3 тысячи пудов кофе, тысячу пудов хины, китайские шелковые ткани, фарфор. Но из ста матросов пятьдесят погибли от разных болезней во время длительной стоянки у острова Ява.
Русские моряки с интересом осматривали Копенгаген и его окрестности. Улицы были узки, но опрятны. По их сторонам стояли каменные дома в два-три этажа. Среди них было много старинных зданий. А дороги, которые вели к городу, были широки, вымощены и обсажены кудрявыми буковый деревьями. Крестьянские домики, каменные и деревянные, но оштукатуренные и выбеленные, с красными черепичными крышами, стояли среди фруктовых садов и полей.
Капитаны Крузенштерн и Лиеяпекпй осмотрели Копенгагенскую обсерваторию, директор которой согласился
I ПЛАВАЙ КОРАБЛЕЙ „НАДЕЖДА

КАРТА КРУГОСВЕТНОГО ПЛАВАЙ КАПИТАНОВ И. Ф. КРУЗЕНШТЕРНА и 10. Ф. ЛИСЯЫСК0Г0 в 1803—1600 гг. Особенности нарты дД представление о географических знаниях и названиях начала XIX века.
■ " Путь корабля „HajCMja' tpy света .................
– Путь корабля„Належла“тремя плаваний от
Л В 1803-1806 ГА. в 1313 г..
оемя разлучения с кораблем „Налам е 1304 -1305 и
проверить хронометры и некоторые другие корабельные приборы. В городе оказался очень богатый архив, где были собраны всевозможные морские карты и описания путешествий. Моряки могли сравнивать здесь свои карты с другими и наводить справки для предстоящего плавания. V
В Копенгагене «Надежду» и «Неву» поджидали трое иностранных ученых: астроном Горнер, приглашенный, чтобы с его помощью можно было особенно точно делать вычисления долготы и широты, и два естествоиспытателя: ботаник Тилезиус и зоолог Дангсдорф. Тилезиус был не только натуралист, но и очень хороший рисовальщик.
Среди участников плавания был живописец Курляндцев, командированный Российской Академией художеств. Однако второй художник мог быть также очень полезен. Фотография еще не была изобретена, и приходилось зарисовывать малоизвестные места, жителей неизученных островов, растения и животных далеких стран.
В середине сентября «Надежда» и «Нева» отошли от датских берегов.
Можно было опасаться, что в туманные осенние ночи во время штормов, часто бывающих в это время, корабли разлучатся друг с другом. Капитан Крузенштерн предложил Лисянскому в этом случае итти прямо в английский порт Фальмут, чтобы встретиться там с «Надеждой». Это был последний европейский порт, куда должны были зайти корабли, уходя в кругосветное плавание.
Пролив между Данией и Норвегией, Скагеррак, имел плохую славу у моряков. Здесь особенно опасны были сильные ветры, потому что волны могли бросить судно на скалистый берег Норвегии или на отмели, которых много около северо-западной части Ютландского полуострова. И на этот раз Скагеррак встретил корабли жесточайшим штормом.
Волны ударяли со страшной силой о борт кораблей. «Надежда» и «Нева» то взлетали на белые гребни огромных свинцовозеленых волн, то падали вниз, как -будто проваливаясь в глубокие ухабы. Вода не раз перекатывалась через палубы кораблей, унося все, что не было прикреплено накрепко.
Нужно было во что бы то ни стало направлять корабль так, чтобы он шел вразрез волнам, иначе море опрокинуло бы его на бок. И бывали минуты, когда палуба наклонялась так низко, что нельзя было не бояться за судьбу судна.
«Корабль накреняло столько, что я никогда того прежде па других кораблях не видывал», писал Крузенштерн.
А приказчик Шемелии, который вел дневник во время плавания, признавался, что переживал смертельный страх.
«Шум от ударов волн, разбивающихся о стонавшие и скрипевшие стены страдающего корабля, соединяясь со свистом вихрей в снастях, обнаженных от парусов, составлял музыку, оглушающую и наводящую трепет», писал Шемелин.
Этот шторм, как потом выяснилось, бушевал и в Северном море и в Ла-Манше. Он погубил немало кораблей у немещсих. французских и английских берегов.
Ночью во время шторма «Надежда» и «Нева» разлучились. На другой день, когда ветер несколько стих и можно было уйти вперед, хотя продолжалась сильная качка, капитан Лнсянский повел «Неву» в Фальмут. Он пришел туда первый. А через два дня в порт вошла и «Надежда».
Оказалось, что удары волн несколько повредили корабль. В бортах появилась течь, и пришлось затратить шесть дней, чтобы проконопатить судно заново. Тем временем можно было хорошо осмотреть Фальмут -и немного познакомиться с его жизнью.
Это был один из лучших портов на юго-западном берегу Англии. На первый взгляд он был неказист. Невысокая гора, подошедшая близко к морю, оставила мало места для города, и он вытянулся одной улицей у самой воды. Но гавань, точно врезанная между скалами, была достаточно глубока и просторна: «Нева» застала в ней пятнадцать торговых кораблей и один военный английский фрегат.
«В Англии почитается выгоднейшею мест удобностью пристань для мореплавания», записал плывший на «Неве» приказчик Коробицын, который, так же как и его товарищ Шемелин, должен был вести дневник и примечать особенности тех мест, где пришлось побывать.
Небольшие каменные дома стояли, точно прижавшись друг к другу, и казались грязновато-серыми, потому что отапливались каменным углем, оставлявшим копоть. В них жили по большей части семьи моряков и рыбаков. А в нижних этажах многих домов помещались магазины и лавки е товарами, рассчитанными главным образом на команды кораблей, заходивших в Фальмут по пути в Португалию, Испанию и Америку.
Шемелин и Коробицын с интересом отметили, что товары здесь выложены под стеклом, так что каждый покупатель может их хорошо видеть. На «Неве» и «Надежде» говорили, что в Англии не принято запрашивать лишнее, и потому офицеры, делая покупки в Фальмуте, считали неприличным торговаться с продавцами.
Шемелин, несмотря на это, попробовал поторговаться, совсем как на родине, дав половину запрошенной цены. И к немалому его торжеству, английский лавочник так же сбавил цену после торга, как это сделал бы и русский купец. Шемелин вернулся на корабль очень довольный своим открытием и не без гордости сделал о нем запись в путевом дневнике.
Пятого октября корабли, запасшись провизией и пресной водой, вышли из Фальмута. Когда наступил вечер, увидели огонь Лизардского маяка, последнего на пути в беспредельный простор океана. Яркий свет постепенно превратился в мерцающую звездочку, затем исчез совсем. Все офицеры «Надежды» и «Невы» и другие участники плавания стояли на палубе и смотрели туда, где еще недавно виднелся огонь маяка, стараясь разглядеть его отблеск на горизонте.
Это была последняя точка на европейском берегу, которую видели, уходя в плавание к югу. И даже сам капитан Крузен– • штерн смотрел на нее с некоторой грустью, думая о долгой разлуке с семьей: в продолжение многих месяцев больше нельзя было получать вестей о близких и давать знать о себе.
«Одна только лестная надежда, что важное предприятие будет совершено щастливо, что я некоторым образом буду участвовать в распространении славы моего отечества, ободряла сокрушенный дух мой, подавала крепость и восстанавливала душевное мое спокойствие», писал он потом.
Но никто не мог заметить настроение капитана. Так же, как всегда, твердо и уверенно звучали слова команды. Крузенштерн знал хорошо, что тот, кто хочет, чтобы ему подчинялись, никогда не должен проявлять нерешительность или слабость, и умел сохранять самообладание в трудные минуты.
Несколько дней дул свежий попутный ветер, и корабли быстро шли на юго-запад. Только море и небо были видны вокруг. Но через пять дней после выхода в океан вдруг прилетело множество маленьких зеленовато-желтых птичек овсянок, несколько трясогузок оранжевого с черным цвета и небольшая серая сова. Совершенно обессиленные, они опускались на мачты и на палубу корабля.
«Овсяночки были столь смирны, что допускали себя брать руками», записал в дневнике Шемелин.
– Эти птички могли залететь так далеко от земли, наверно, только потому, что их унесло от африканских берегов сильной бурей, – объяснил натуралист Лангсдорф.
На другой день на корабле уже не было ни одной птички. Иовидпмому, часть переловили корабельные коты, а остальные улетели, немного отдохнув.
Дни походили один на другой, и потому особенный интерес вызывало все, что нарушало однообразие. С любопытством смотрели на дельфинов, которые как будто кувыркались в волнах: то показывалась из волн черная горбатая спина, то голова, то хвост, похожий на рыбий.
Подолгу всматривались в водоросли, плывущие на поверхности моря, или в парус, появившийся на горизонте.
По вечерам наблюдали свечение моря. Чем дальше плыли на юг, тем оно становилось ярче. Временами за кормой корабля бежала как будто загоравшаяся струя, а вода у бортов отливала зеленоватым огнем. При легком волнении все море покрывалось колеблющимися сияющими лентами, точно в причудливой иллюминации.
Натуралисты брали пробы воды, а потом днем исследовали ее под микроскопом. В ней оказывалось множество мельчайших, невидимых простым глазом животных. Они светились ночыо, если вода ударялась о что-нибудь твердое или волновалась.
В начале октября, когда «Надежда» и «Нева» вышли из Фальмута, было прохладно и сыро. Капитан Лисянский даже приказал ставить время от времени жаровни там, где спят матросы, чтобы воздух был суше. Он знал по опыту, что сырость в жилых помещениях на корабле бывает особенно вредной для здоровья.
Чем дальше шли к югу, тем теплее становились солнечные лучи, прозрачнее делался воздух и синее казалась морская даль. Уже через несколько дней после выхода из Фальмута капитаны приказали команде убрать большую часть теплой одежды в сундуки. Корабли направлялись к тропикам, и на смену осени должна была скоро притти не зима, а жаркая весна и за нею солнечное лето.
Крузенштерн предполагал зайти на знаменитый своими виноградниками и вином остров Мадейру, чтобы запастись там фруктами и свежей растительной пищей, нужной в дальнем плавании. По ветры дули от берегов Африки, и капитан переменил решение. «Надежда» и «Нева» направились дальше, к Канарским островам.






