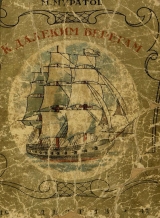
Текст книги "К далеким берегам"
Автор книги: Михаил Муратов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Наступила, уже середина августа. Надо было торопиться, чтобы, сделав небольшое путешествие по Алтайскому краю, до начала зимы спуститься по реке Томи к городу Томску. Оттуда можно было санным путем ехать в Иркутск.
Академики и их спутники, немного отдохнув в Усть-Каменогорске, выехали в Колывань.
Об этом маленьком алтайском городке они слышали еще на Урале. Владелец многих уральских рудников и заводов Акинфий Демидов разрабатывал и руды, скрытые в горах Алтая. На Воскресенской горе, вблизи Колывани, находились медные рудники, принадлежавшие Демидову.
Медь, серебро и золото были и в других соседних местах. На пути между Усть-Каменогорском и Колываныо было тоже несколько небольших рудников, в которых добывали руду кустарным способом, не углубляясь далеко под землю. Гмелин осматривал их, собирая сведения о горных богатствах Алтая.
Жители рассказывали, что часто находят руду там, где видны следы работ, которые когда-то вели неизвестные обитатели Алтая задолго до того, как сюда пришли русские люди.
ры и некоторые другие металлические предметы и золотые украшения, найденные в могилах.
Миллер слышал, что в местах старинных погребений здесь находят медные, серебряные н золотые вещи. Он сам начал раскопки, но не нашел ничего интересного. Оказалось, что большие и богатые гробницы уже разрыты. Местные жители расплавляли золотые и серебряные вещи, которые там находили, и продавали слитки на вес.
«Мне удалось, однако, купить на вес золотого всадника на коне, с нарочитым искусством сделанного, и доставить его в кунсткамеру», рассказывал впоследствии Миллер.
Миллер приобрел для кунсткаме-

Koniibiit воин.
Золотая статуэтка из старинных погребений, приобретенная ока у.
Миллером в 1734 году.

Крашенинников рассматривал их с интересом. Не сохранилась даже память о том, к какому народу принадлежали люди, сумевшие отыскать в горах руду, нашедшие способ выплавлять золото, радовавшиеся красоте сделанных иМи вещей. Однако, тщательно изучая находки, можно было узнать кое-что о жизни и быте этих неведомых мастеров.
В конце августа Крашенинников вместе с Гмелиным и Миллером выехали из Колывани, продолжая путь на восток по Алтайскому краю. По дороге несколько раз проезжали через недавно ,, . „„„ выстроенные маленькие поселки.
Серебряная статуэтка из а а– г
ринпых сибирских погребении. В КОТОРЫХ Встречали ЛЮДвЙ, При-

Писаный камень на реке Томь,
Рисунок, сохранившийся среди бумаг акал. Миллера.
сланных Демидовым с Урала, чтобы разрабатывать руды, скрытые в недрах гор.
В середине сентября добрались до городка Кузнецка, расположенного на берегу речки Томь. Этот город не случайно получил свое имя. Еще до прихода русских татары плавили здесь железо в маленьких печках и ковали из него различные изделия.
Академики провели здесь две недели, совершив несколько поездок, чтобы познакомиться с бытом коренных обитателей края.
Из Кузнецка отплыли вниз по реке, направляясь в старый сибирский город Томск, построенный еще при царе Федоре Иоанновиче. Здесь рассчитывали отдохнуть после летних и осенних странствий и привести в порядок собранные материалы. По пути сделали еще одну остановку.
На высоком, крутом берегу Томи возвышалась крутая скала, в десять сажен вышиной, известная в тех местах под названием
«Писаный камень». Это имя было дано ей не напрасно: загадочные рисунки, высеченные на ней неведомо когда, виднелись издалека.
Гмелин н Миллер с несколькими спутниками высадились на берег и потратили немало времени, чтобы осмотреть скалу. На высоте нескольких сажен она была покрыта разными изображениями: ясно были видны фигуры людей, оленей, серн, козлов и рыбы, похожей на налима.
Непонятно было, что это такое: письмена или рисунки первобытного художника. Для того чтобы их сделать, потребовалась долгая работа. Неизвестно было, с какой целью она проделана,
– Я не знаю, что с этим делать. Но то, что скрыто сейчас от нас, может быть станет понятным когда-нибудь в будущем, –сказал Миллер и велел живописцу точно зарисовать скалу.
Потом, уже зимой, проезжая через Енисейск, услыхали еще о такой же скале – на Енисее. Академики послали Крашенинникова с рабочими людьми осмотреть это место и проложить к нему дорогу в снегах, а затем побывали там сами. Здесь рисунки были сделаны какой-то несмываемой краской, причем преобладали человеческие фигуры. Объяснить их значение так и не удалось.

В Томске кончилось путешествие по Западной Сибири, давшее так много материалов.
В начале марта 1735 года академики и их спутники прибыли в Иркутск. Здесь они стали собирать сведения, необходимые, чтобы выработать план исследований в Восточной Сибири предстоящим летом. А Крашенинников мог подвести итоги тому, что город Томск_
УЗНал С Тех пор, как ВЫ– с миниатюры из «Краткой сибирской летописи» ехал из Петербурга. mi года.
1S3

масштаб: 'Q° so ? iqo
™°«“-
СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУТИ ГМЕЛИНА, МИЛЛЕРА И КРАШЕНИННИКОВА ОТ ТОБОЛЬСКА ДО ТОМСКА.
За эти полтора года пришлось проехать, по подсчету Гмелп-на, девять тысяч семьсот верст. Крашенинников увидел Волгу if сибирские реки, Уральские и Алтайские горы, привольные степи по берегам Иртыша и высокие, густые леса, через которые шла дорога на Иркутск. Он познакомился с жизнью разных народов —а от чувашей и черемисов в Поволжье до алтайских телеутов.
Но еще важнее было другое. Крашенинников узнал, что наука заключается не в заучивании и повторении. Он понял, что пожелтевшие документы, извлеченные из архивов, и предметы, найденные в старинных могилах, могут многое рассказать о прошлом человечества.
Перед Крашенинниковым раскрылся мир растений и животных. Крашенинников научился видеть и наблюдать в природе то, чего раньше не сумел бы даже заметить.
IV
Иркутск считался одним из самых важных и богатых сибирских городов; он был построен на берегу большой реки Ангары, в шестидесяти верстах от Байкала. Все купцы, направлявшиеся за Байкал для торговли с Китаем, проезжали через этот город..
Вице-губернатору, жившему в Иркутске, подчинялась вся Восточная Сибирь: Забайкалье до китайских границ, Якутский край и Камчатка. И хотя он был обязан выполнять указы, которые получал от сибирского губернатора из Тобольска, однако на деле являлся почти полным хозяином Восточной Сибири.
Гмелин и Миллер узнали от вицеггубернатора, что капитан-командор Беринг живет в Якутске и не скоро отправится на Камчатку.
– Еще и половину провианта и прочих'грузов для экспедиции не переправили в Охотск. А пока там корабли построят да в плавание выйдут, не один год пройдет, – сказал вице-губернатор.
Академики решили, что незачем спешить в Якутск, если нельзя даже приблизительно сказать, когда выедет на Камчатку Беринг, которого они должны туда сопровождать.
«Мы узнали об этом не без облегчения, надеясь, что сможем провести время с большим удовольствием и пользой, чем в Якутске», рассказывал впоследствии Миллер.
Емелин знал, что в Забайкалье, где летом не жарко, но достаточно тепло и довольно много осадков, растительность должна быть гораздо богаче, чем в холодном Якутском крае. К тому же за Байкалом находились Нерчинские-и Аргунские рудники, которые полезно было осмотреть.
А Миллер думал о том, что архивы забайкальских острогов могут дать ему много сведений, нужных для «Истории Сибири». Он говорил также, что путешествие к китайской границе было бы очень полезно для задуманной им «Географии Сибири» и позволило бы собрать материалы о русско-китайской торговле.
Крашенинников вскоре узнал, что план дальнейшего путешествия составлен.
Было решено ехать в Селенгинский острог, считавшийся в то время главным в западной части Забайкалья. Оттуда надо было съездить к китайской границе, в торговую слободу Кяхту. А затем следовало направиться в Читу, чтобы плыть в Нерчинск по Ингоде и по Шилке, дающей начало Амуру. Осмотрев Нерчинск, можно было сделать еще несколько поездок и вернуться в Иркутск к началу осени.
В двадцатых числах марта академики и их спутники выехали на берег Байкала.
– Байкал замерзает позже всех сибирских рек – около Рождества. Зато лед на нем держится до мая, – говорили иркутские старожилы.
На Байкале действительно стоял толстый и крепкий лед. Переезд через озеро прошел без всяких осложнений. А когда доехали до другого берега, увидели, что из-под снега уже показалась вялая, желтоватая прошлогодняя трава.
С трудом переправившись через Селенгу, на которой уже начал подтаивать и трескаться лед, добрались до Селенгинска. Он выглядел так же, как все сибирские остроги: так же был обнесен бревенчатыми стенами с деревянными башнями на всех четырех углах и над воротами; и так же эти укрепления уже потеряли значение—буряты, кочевавшие вблизи Селенгинска,
понемногу сжились . с русской властью, и городу не угрожало нападение.

Забайкальская бурятка.
С гравюры XVIII века.
Старенький селенгин-ский воевода, дослужившийся до чина бригадира, строил тридцать лет назад, при Петре Великом, Омск и другие укрепления на реке Иртыше. Он охотно поделился с Миллером воспоминаниями. А потом укапал проводника по Забайкалью, бывалого охотника, не раз ходившего за соболями по берегам Амура в пределы Китайской земли и спускавшегося по отрогам Станового хребта до устья реки Витим, впадающей в Лену. Воевода дал и переводчика, знающего бурятский язык.
Гмелин и Миллер не стали задерживаться в Се-ленгинске. У лее в ближайшие дни они поехали за семьдесят верст к старому тайше, как называли буряты своих князей. Тайша выехал к ним навстречу со свитой из всадников, вооруженных луками и на скаку пускавших стрелы высоко к небу в честь гостей.
Крашенинников увидел круглые бурятские юрты из белого войлока, большие стада овец и табуны лошадей. Буряты угощали гостей кирпичным чаем, сваренным с молоком, маслом и солыо, а их лама отвечал на вопросы о вере и показывал завернутых в шелковые лоскутки бурханов – медные и серебряные изваяния божества. .
Академики постарались достать для кунсткамеры бурятскую одежду. Они знакомились е бурятскими и тунгусскими шаманами, вызывавшими злых и добрых духов, и сделали много этнографических наблюдений.

Миллер и Гмелин съездили в Кяхту, до которой от Селенгинска было сравнительно недалеко. Оказалось, что эта слобода, широко известная в Сибири,, находится в голой степи и совсем невелика. В Кяхте-был гостиный двор для приезжих русских купцов. А в ста двадцати саженях за пограничным столбом начинался китайский поселок с улицами, по обеим сторонам которых стояли лавки. Китайцы привозили сюда шелковые ткани, чай, фарфор, табак п даже бумажные цветы. Русские купцы продавали им муку и меха.
В Кяхте пробыли недолго, торопясь вернуться в Селенгинск. Оттуда выехали на восток, направляясь в Нерчинск. Крашенинников увидел забайкальские степи. Они мало походили на беспредельную, широкую, ровную степь, расстилавшуюся по пути на Алтай по обоим берегам Иртыша.
В Забайкалье и степь нередко была холмиста или лежала в долине, по сторонам которой видны были небольшие горы, поросшие лесом.
Трава была невысокая, но зато летом вся покрывалась цветами. Тут росли те же цветы, которые Крашенинников еще в детские годы обычно видел под Москвой: белая с золотой сердцеви-
1S8
Ф
вой ромашка, желтые одуванчики, еще не успевшие покрыться .пушинками, похожими на маленькие летучие белые зонтики. Но .много было и других, гораздо более ярких цветов: на склонах холмов росли стройные саранки с сиреневыми, в коричневых кра-.иинках душистыми цветами, а у рек распускались большие красные лилии и стояли на высоких ножках жарки, прозванные так за свой огненный цвет.
Как и прошлым летом, Гмелин часто находил никем неописанные растения и показывал их Крашенинникову.
Перевалив через невысокий лесистый Яблоновый хребет, названный так, по мнению Гмелина, потому, что здесь было много мелких камней, круглых, как яблоки, увидали речку Ингоду.
К Ингоде подъехали там, где в нее впадает речка Чита. Здесь •стоял маленький острожек в двенадцать изб, который называли то Чита, то Плотбище, потому что в этом месте делали плоты, чтобы плыть вниз по Ингоде в Нерчинск.
– У меня нет охоты плыть без защиты от дождя и ветра, – сказал Гмелин, увидав плоты.
На Ингоде встречались мелкие места, каменные гряды, перекаты, через которые было очень трудно переплыть па лодке с грузом, однако свободно проплывал плот.
Оказалось, что на плот можно погрузить дорожные кареты .Гмелина и Миллера, закрывавшиеся в непогоду со всех сторон.
«Мы так приспособились затем к плаванию на плотах, что я считаю рассказы о его неудобствах пустой болтовней», писал йотом Гмелин.
Крашенинникову, как и другим спутникам академиков, прилилось плыть под открытым небом, но он не жаловался на это. Перед ним проходили новые привольные и красивые места. По сбоим берегам стояли прекрасные леса с лужайками, на которых росла сочная, яркозеленая трава. И только очень редко встречались небольшие русские поселки из нескольких изб: край еще «был почти совсем не заселен.
Незаметно доплыли до устья реки Онон, сливающейся с Ин-годой и дающей вместе с нею начало реке Шилке. Отсюда уже было недолго плыть до того места, где впадает в Шилку речка Перча, у устья которой стоял старинный Нерчинский острог.

Город Нерчинск.
С голландской гравюры начала XYIII века.
Раньше в Нерчинск приходили по Амуру и Шилке караваны с китайскими товарами. Затем торговля с Китаем пошла по другая путям. Но острог сохранил некоторое значение благодаря свинцовым и серебряным рудникам, находившимся поблизости.
В Нерчинске сохранились старинные указы, грамоты и черновики тех донесений, которые посылались отсюда управителями острога. Миллер с радостью увидел, что здесь много интересного для истории края, и начал разбирать архив.
А Гмелин с Крашенинниковым и еще несколькими спутниками поехал на Аргунские серебряные рудники, до которых считалось около двухсот верст. Там, вблизи реки Аргуни, у ручья Серебрянки еще много лет назад находили руду со свинцом и серебром.
Этой рудой были богаты невысокие горы в окрестностях Серебрянки. И когда еще при Петре Великом здесь начали работу русские рудоискатели, они нашли следы старинных разработок-. Но серебряная руда залегала здесь гнездами, и нередко после первой неудачи, натолкнувшись на породу, в которой не было металла, люди бросали работу, вместо того чтобы продолжать ее до конца.
Гмелину пригодилось некоторое знакомство с горным делом, полученное на Урале. С помощью рудокопа, взятого из Екатеринбурга, он осмотрел ряд заброшенных рудников и убедился, что здесь стоит возобновить поиски серебра.
На Аргунских рудниках Гмелин дождался Миллера, который приехал сюда, разобрав нерчинский архив.
Приближалась уже середина июля. Гмелин и Миллер желали сделать еще длительную поездку по степям вдоль реки Борзи, в восточной части Забайкалья, прежде чем возвращаться в Иркутск. Между тем было еще одно небольшое, но нелегкое дело, которое хотелось выполнить.
В Нерчинске и на Дргуни Гмелин слышал, что где-то в окрестностях реки Онона, в труднопроходимой горной местности, бьет из земли теплый ключ. Тунгусы верили в целебные свойства этой воды и приходили туда лечиться. Гмелин говорил, что в его распоряжении слишком мало времени для поездки к теплому ключу, но надо все же попытаться получить точные сведения об этом источнике.
– Теплые и даже горячие источники есть в разных странах: в Исландии, Японии и на Азорских островах. Протекая в глубине земли, горячая вода растворяет частицы разных минералов. Стало быть, и теплая вода всегда минеральна. А известно, что минеральные воды служат для исцеления многих болезней, – говорил Гмелин Крашенинникову.
Гмелин и Миллер надумали послать Крашенинникова, обследовать теплый источник.
«Сей студент своим особливым трудолюбием и прилежанием к науке несравненно своих товарищей превзошел», писали они о Крашенинникове в Академию наук.
С Крашенинниковым послали геодезиста Иванова, который должен был нанести на карту источник, проводника, переводчика, знающего тунгусский язык, солдата и рудокопа.
Двадцатого июля небольшой отряд выехал из Аргунского острога. Значительную часть пути пришлось сделать по горам, на которых рос смешанный лес. Преобладали сосны и ели,, но
часто встречались и другие деревья: березы, могучие лиственницы с нежной светлозеленой хвоей на широко раскинувшихся ветвях, кедры с синеватыми шишками, в которых только еще начали наливаться орехи.
Местами путь был очень утомителен: поперек тропки лежали свалившиеся деревья, надо было продираться сквозь заросли ольхи, перебираться через поросшие мхом большие камни. Но в конце концов благополучно добрались до небольшой горы, откуда вытекал, источник. Вода действительно была тепла, хотя и не так горяча, чтобы нужно было ее остужать, прежде чем купаться.
Тунгусы вырыли у источника две большие ямы для купанья. Они привозили сюда больных и брали с собой ламу, который был у них лекарем и давал советы, как лечиться целебной водой.
Крашенинников внимательно осмотрел местность и взял пробу минеральной воды, а геодезист определил долготу и широту. Потом направились дальше лесами в Читу, где должны были дожидаться Гмелина и Миллера,
В Чите Крашенинников сразу принялся за работу: он написал рапорт о своей поездке и составил на латинском языке оии-■санпе теплого источника.
1'мелин и Миллер остались довольны Крашенинниковым.
– Студент выполнил все так, как было поручено, – говори–ли они потом.
Во второй половине сентября академики вернулись в Иркутск, чтобы там перезимовать. Не теряя времени, они стали разбирать коллекции и приводить в порядок свои записи.
Незаметно наступил январь 1736 года. Нужно было обдумать план дальнейшего путешествия. Капитан-командор Берипг все -еще жил в Якутске. Академики решили ехать туда не спеша: ;плыть летом вниз по Лене, делая остановки для географических .и ботанических наблюдений.
Байкал должен был при этом путешествии остаться в стороне. Но это озеро, протянувшееся на несколько сот верст в длину среди гор, обступивших его со всех сторон, было совсем еще .никем не обследовано. Особенно мало было известно о восточных ^берегах Байкала, к северу от реки Селенги.
Миллер знал, что на реке Баргузин, впадающий в Байкал, казаки построили еще в XVII веке острог, чтобы собирать ясак с бурят и тунгусов. Там могли сохраниться документы о том, как покорялся этот край.
А до Гмелина дошли вести, что у самого Байкала, в нескольких десятках верст южнее устья Баргузина, есть горячий источник, водой которого лечатся буряты.
Миллер и Гмелин решили послать Крашенинникова, в Баргу-зинский острог и его окрестности.
– Ежели вернетесь в Иркутск, нас уже не застанете. Мы скоро поедем осмотреть Илимский острог и другие места Иркутской провинции. Оттуда проедем на Лену, в УетьгКут, где дощаники строят, дабы плыть в Якутск. А потому вы, осмотрев после Баргузинского острога горячие воды, поезжайте прямо на верхнюю Лену, в Верхоленский острог. А когда лед пройдет, спускайтесь по Лене в Усть-Кут, где и соединитесь с нами. Путь далекий и трудный, зато проедете по таким местам, о коих достоверных известий нет, – сказал Гмелин на прощанье Кра-шенинн икову.
Крашенинников и геодезист Иванов выехали из Иркутска во второй половине января, когда уже стали заметно прибывать дни, но еще не кончился зимний мороз.
Проехав через Байкал, они направились в Итанчинекий острог, стоявший на реке Селенге. Оттуда шла дорога в Баргу-зипекий острог. Нужно было проехать больше двухсот пятидесяти верст, то переваливая через невысокие хребты, то проезжал около берега Байкала.
Надев кафтан, подбитый овчиной, а на него доху из собачьих шкур, натянув на ноги бурятские унты, сшитые мехом внутрь, и надвинув на лицо шапку с наушниками из беличьего меха, Крашенинников целые' дни проводил в санях, почти не страдая от холода.
По обеим сторонам дороги стоял густой, по большей части сосновый лее.
Только изредка встречались маленькие русские поселки из нескольких изб, в которых жили крестьяне, промышлявшие охотой. Почти в каждой избе, в которую случалось входить Крашенинникову, у порога лежала шкурка медвезконка, постланная, чтобы вытирать ноги. А на широких лавках у стен лежали большие медвежьи шкуры, на которых было тепло и мягко спать. Медведи так часто встречались в лесу, что охота на них была совсем обычным делом.
Много было в лесах и других зверей. Здесь водились лоси – сохатые, лисицы и рыси, волки и зайцы. А белок было столько, что они постоянно появлялись на ветках деревьев, стоявших у самой дороги, и, прикрывшись пушистым хвостиком, с любопытством смотрели на проезжавшие мимо сани.
Глухари, куропатки и рябчики почти не боялись людей. Весной и летом утки, гуси и лебеди плавали стайками на всех лесных озерах. В горных речках, протекавших вблизи поселков, в изобилии водилась разная рыба.
Баргузинский острог тоже стоял среди лесов, у реки, в которой водилось много рыбы – от нежных, сравнительно небольших хариусов до тяжелых осетров и тайменей.
В остроге было несколько десятков изб, где жили служилые казаки, собиравшие ясак с бурят, кочевавших недалеко от острога, и тунгусов, бродивших в тайге.
Крашенинников в короткое время узнал много о Баргузин-ском крае. Он просмотрел архивные дела, хранившиеся в остроге, и переписал некоторые документы, как это делал Миллер. По спискам плательщиков ясака Крашенинников попытался установить число тунгусов «баргузинского ведомства» и записал свои выводы.
Из Баргузинского острога Крашенинников выехал на Байкал. Он проехал около семидесяти верст вблизи байкальского берега и добрался до того места, где у подножья песчаного холма, поросшего сосновым лесом, бил из земли горячий ключ.
Крашенинников сунул в него руку и сразу отдернул, едва не вскрикнув: вода оказалась так горяча, что нельзя было вытерпеть. Термометр показал, что в ней значительно больше 40 градусов. Она сильно пахла серой и была неприятна на вкус. У источника были вырыты ямы, в которых летом принимали ванны буряты, а иногда и русские из Баргузинского острога.
– Когда выкупаешься, чувствуешь истому и выступает пот. О потом и болезнь выходит, – говорили больные.

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУТИ ГМЕЛИНА, МИЛЛЕРА И КРАШЕНИННИКОВА ПО ЗАБАЙКАЛЬЮ И ПО р. ЛЕНЕ.
Пунктиром обозпачеп маршрут самостоятельных поездок Крашенинникова. Сплошной линией обозначен путь Крашенинникова с академиками Гмелиным н Миллером.
И хотя рассказы о действии горячих вод бывали преувеличены, не приходилось сомневаться в том, что ревматизм и некоторые другие болезни здесь часто действительно в большей пли меньшей степени исцеляются.
От горячих вод было меньше двух верст до Байкала, С его берегов виднелась далеко на горизонте длинная синеватая полоска с изрезанным выступами верхним краем – гористый остров Ольхон.
Когда Крашенинников и Иванов добрались до Ольхона, он показался им унылым и пустынным островом. На Ольхоне было очень мало леса, а земля по большей части камениста, хотя и встречались места, пригодные для пастбищ.
За Ольхоном, на другом берегу Байкала, начиналась Косая степь, по которой кочевали буряты. Через нее Крашенинников и Иванов проехали на берег Лены, где стоял Верхоленский острог. Здесь, ожидая, пока вскроется река, Крашенинников смог подвести итоги поездки.
Он кратко описал весь путь до Баргузинского острога и оттуда до Верхоленека, Сведения о горячем источнике Крашенинников изложил в отдельной рукописи на латинском языке, как полагалось для научных описаний.
В мае, когда Лена окончательно очистилась от льда, Крашенинников и Иванов отплыли из Верхоленека в Усть-Кут. Здесь уже жили Гмелнн и Миллер и заканчивались последние приготовления к летнему плаванию в Якутск.
Академики внимательно выслушали рассказ Крашенинникова и одобрили его рукописи. Уезжая из Петербурга в экспедицию, они взяли студентов лишь для мелкой черновой работы.
– Будут переписывать для меня в архивах указы да челобитные, а для вас набивать соломой чучела зверей и птиц, – говорил Миллер Гмелину.
Почти все студенты действительно не пошли дальше таких поручений. А Крашенинников, любознательный и настойчивый, незаметно учился и как будто вырастал с каждым месяцем путешествия. Ему все еще нехватало многих научных знаний. Но он уже доказал, что может основательно делать наблюдения и самостоятельно справляться с работой, недоступной его товарищам.
Когда началось плавание по Лене, Гмелин стал еще больше привлекать Крашенинникова к своей работе. Составляя список растений, которые растут на берегах Лены, Гмелин собирал их с Крашенинниковым, а потом показывал, как следует их определять.
' ' ? Осгропь. >
Од t некой

Верхолснский острог.
миниатюры из
«Краткой сибир-
i
летописи».
Когда доплыли по Лене до того места, где впадает в нее Витим, Гмелин решил подняться на лодке по этой реке и ее притоку Нижней Маме, чтобы осмотреть залежи слюды, которую здесь добывали в глухой гористой местности, заросшей густым лесом. Он взял с собой Крашенинникова и поручил ему осмотреть одно из месторождений слюды.
Потом, когда сделали остановку в Олекминеком остроге, Гмелин послал Крашенинникова осмотреть соленый источник у ручья Каитендей. Путь туда шел вверх по берегу реки Вилюя тайгой, через которую было нелегко пробираться даже с помощью проводника, взятого в Олекмин-с-ком остроге. Но Крашенинников точно выполнил поручение, описав источник и залежи соли невдалеке от него.
В сентябре, когда начали уже дуть холодные осенние ветры, приплыли в Якутск.
Беринг все еще был в Якутске. Но большую часть провианта и материалов уже завезли в Охотск, и капитан Шпанберг начал там строить корабли для плавания по Тихому океану.
Академики провели зиму в Якутске. Гмелин, как обычно, обрабатывал собранные летом коллекции растений, а Миллер изучал архив Якутского воеводства, где нашел много документов, важных для истории Сибири.
Когда пришла весна 1737 года, Миллер и Гмелин должны были решить, куда ехать дальше.
Капитан-командор уезжал в Охотск. По первоначальным планам, академики должны были сопровождать его туда, а затем переправиться на Камчатку. Но шел уже четвертый год, с тех пор как они покинули Петербург. За это время было собрано столько материалов, что их хватило бы на несколько книг о природе, географии и истории Сибири.
Гмелин и Миллер рассчитывали на обратном пути продолжать наблюдения, сделав несколько дополнительных поездок в сторону от обычной дороги. Поэтому обратное путешествие должно было продлиться не меньше, чем путь вперед. А между тем путешествие на Камчатку могло занять еще около двух лет. К тому же путь в Охотск был очень тяжел, а жизнь на Камчатке была связана со многими лишениями.
«Нам пришлось бы там отказаться от наших привычек и всяких удобств», писал впоследствии Гмелин.
И сам собой наметился выход: Гмелин и Миллер решили послать на Камчатку Крашенинникова.
г
В середине августа 1737 года в Охотск приехали верхом пять человек : студент Крашенинников, переписчик Аргунов, находившийся в его распоряжении, солдат и два якутских служилых казака, посланные с вьючными лошадьми.
Охотск стал в это время людным местом. Старый острог, в котором десять лет назад стояло всего одиннадцать изб, был заброшен. Вдоль моря на низком песчаном берегу вытянулись в линию три десятка домов, изб и складов с запасами экспедиции. Капитан-командор и подчиненные ему морские офицеры уже прибыли в Охотск. Плотники, кузнецы и матросы работали на постройке кораблей. А на воде покачивались суда-ветераны: боты «Фортуна» и «Святой Гавриил», построенные во время первой экспедиции Беринга.
Крашенинников поместился в одном из домов, где жили уча-

Охотск.
С гравюры из книги С. П. Крашенинникова
«Описание земли Камчатки», СПБ. 1755.
стники экспедиции невысокого ранга, и стал узнавать, когда и как можно направиться на Камчатку. Оказалось, что в начале октября туда пойдет бот «Фортуна», чтобы отвезти назад служилых, привозивших ясак, собранный на Камчатке, и доставить муку, соль и разные припасы для камчатских острогов.
Крашенинников не стал терять время в Охотске. Он начал наблюдать погоду: измерял температуру воздуха в разные часы и количество дождевой воды, записывал показания барометра и отмечал направление ветра, как это обычно делал Гмелин.
В Охотске Крашенинников достал списки тунгусов-ламутов, плативших ясак. Из этих списков он извлек сведения о том, сколько ламутских родов кочует в Охотском крае и какое число людей насчитывает каждый род.
– Весьма было бы полезно получить для кунсткамеры ламутскую одежду, – говорил Крашенинников.
Он постарался достать меховые ламутские одежды, украшенные полосками разноцветного меха.
СтарЬжилы Охотского острога рассказывали, какие звери, рыбы и птицы водятся в окрестностях. Крашенинников составил список животных края и сам описал трех рыб. Он привел в порядок дневник, который вел шесть недель в пути от Якутска до Охотска, и составил описание этого пути.
Первого октября Крашенинников отправил это описание и собранные в Охотске материалы в Якутск, чтобы оттуда их переслали Гмелину и Миллеру. А через три дня Крашенинников отплыл на Камчатку.
– На Камчатке хлеб только зажиточные люди едят, да и то по праздникам. А в будни едят вяленую рыбу, юколу, вместо хлеба, – рассказывали Крашенинникову еще в Якутске.
Действительно, доставлять муку на Камчатку было так далеко и трудно, что она стоила там очень дорого. Поэтому академики, посылая туда Крашенинникова, устроили так, что он получил в Якутске по твердой казенной цене запас муки на два года.
Крашенинникову выдали вперед жалованье, которое он получал по сто рублей в год. Часть этих денег он употребил на покупку разного провианта для жизни на Камчатке. Отплывая из Охотска, он взял с собой эти запасы.
Старый бот «Фортуна» только первые десять часов благополучно плыл по Охотскому морю. Затем обнаружилась течь. Как ни старались откачивать воду, она прибывала с каждым часом.
«Такое учинилось нещастье, что судно вода одолела и уже в шпагат забиваться стала. Все, что было на палубах, также и из судна груз около четырехсот пудов, в море сметали и так едва спасались», вспоминал потом Крашенинников.
В море бросили не только мешки с мукой, которую вез Крашенинников, но п сундучок с его одеждой и бельем.
– Осталась у меня одна только рубашка, – сказал Крашенинников.
Десять дней плыли по морю, пока показалось устье камчатской реки Большой, куда должно было войти судно. Но мытарства не кончились: волны выбросили судно на песчаную косу, через которую перекатывалась вода во время прилива.
Только через пять дней из Болынерецкого острога, стоявшего в тридцати верстах от устья, прислали к судну баты, как называл ись лодки камчадалов.






