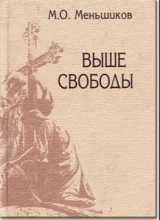
Текст книги "Выше свободы"
Автор книги: Михаил Меньшиков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
"Богоотступники истребятся". Таков закон, действующий от создания мира. Человек и общество, и весь род людской живы лишь пока они в согласии с законом вечным. При выпадении из него, вольном или невольном, удел наш смерть.
Сумеет ли царствующая на земле раса уберечься от культурной гибели? Сумеет ли она с несомненно ложного пути вернуться на путь истинный? Сумеет ли она подавить в себе манию величия и неукротимой жадности? – Едва ли.
Я, по крайней мере, в это не верю. Я слышал из уст великого нравоучителя, что мы на заре великого пробуждения, что идет век светлый и не далее как следующее поколение осуществит мечты пророков. Стоит, говорил он, понять ложь – и она исчезнет, народы перекуют мечи на орала и пр. Я не верю в это безусловно. Я не вижу в приближающихся молодых поколениях новой породы людей. Это порода старая и, может быть, старее нас. Они непременно повторят все человеческие безумства, хотя бы истина им и была открыта. Они разовьют инерцию наших ошибок и нашего сознания. Они все более и более будут сливаться в стихию, в безбрежную и бесформенную человеческую толпу, в которую постепенно перерождается древнее общество.
XV
Мне кажется, XIX век много подвинул вперед этот недавно начавшийся процесс общественного омертвения. Как превосходно разъяснил еще Токвиль, революция ничуть не остановила, а усилила ту централизацию, то оплотнение, которое началось в западном обществе целые века тому назад. Революция сбросила старые формы государственности потому, что под ними выросло новое общество – не более, а менее свободное, чем когда-то встарь. Король, аристократия, духовенство – все это уже не укладывалось в идею новой власти, власти не отдельных лиц, а массы, которая, постепенно уплотнившись, обнаружила свойства минеральной массы: неодолимый для отдельных частей вес и полное поглощение элементов в общем центре тяжести. Если древнее общество представляло из себя рассыпанную толпу, где, как на ярмарке, каждый мог пробраться куда угодно и входить в любые отношения со всеми, то новое общество оказалось сжатой толпой, которая, раз вы попали в нее, лишает вас свободы: вы можете двигаться только туда, куда все, хотя бы это движение влекло вас к пропасти. Прежний принцип – неравенство – разграничивал жизнь отдельных тканей; города, сословия, общины, цехи жили отдельной жизнью и не участвовали непосредственно в общей судьбе государства. Разрозненность давала простор индивидуальности, способствовала раскрытию всех возможностей. Новый принцип, общественное равенство, кажущееся столь справедливым, внесло на самом деле общее рабство; как в густой толпе, все оказались в равных условиях, и все подчинились собирательной огромной воле – воле толпы. Прежде обширные общественные группы были привилегированными, т.е. свободными от многих давлений общества. Теперь все уравнены в общем гнете, причем самые широкие права гражданина не дают ему ничего, кроме обязанности подчиняться общей воле. Все монархии Запада – замаскированные республики, a res publica3 отдает каждого во власть публики, существа собирательного, многоголового, но в сущности безглавого, так как единство воли и единство сознания сведено в нем к арифметическому большинству. В новом обществе на Западе дана свобода мнения, дана потому, что там теперь это уже вполне безопасно: общественная власть чувствует себя безмерно сильной пред всяким меньшинством. Вы, гражданин, можете подать свой голос, – он тотчас же, как атом в массе, тонет в публике; решение будет зависеть не от вас, а от нее. Какие бы безумства большинство ни делало – вы обязаны их разделять. Даже преступления общества вы должны поддерживать и служить им. Иной честный немец вовсе не сочувствует проповеди Евангелия "mit gepanzernter Faust"4, но должен оплачивать, путем прямых и косвенных налогов, все похождения соотчичей в Африке и Китае. Постепенно, именно в нашем веке, под предлогом установления равенства, в европейском обществе исчезло много драгоценных видов свободы, ограждавшихся привилегиями. Например, еще все помнят старую исчезнувшую теперь свободу от военной службы. Кто не хотел войны, мог нанять за себя рекрута, а в иных странах брали на войну, как и теперь в Англии, только желающих. Но и это прекрасное неравенство уничтожено. Под смутным внушением массы, в которую превратилось общество, сочли справедливым и военную службу сделать общей повинностью, не справляясь с индивидуальными влечениями. Ни в какой другой области не выразилось так ясно перерождение общества. Все повинности и налоги стараются теперь сделать возможно равномерными, чтобы, как молекула в куске железа, гражданин испытывал безусловно одинаковое со всеми натяжение. На самом деле, разве мы все имеем одинаковую нужду в том, что оплачиваем? Вы в течение сорока лет, например, ни разу не обратились к суду или полиции, а ваш сосед беспокоил их сорок раз. Тем не менее, вы оплачивали содержание этих учреждений в такой же мере, как ваш сосед. Вы ни разу не воспользовались ни музеями, ни академиями, но платите на содержание их столько же, сколько те, кто ими пользуется весь век. Этот принцип кругового обеспечения дает огромную силу обществу, но личность, может быть, выигрывая материально, лишается им всей своей свободы. Личная жизнь человека делается стихийной, бессознательной; он– как частичка в массе – не знает, участвует ли он в подвиге, или подчас в преступлении; он чисто механически увеличивает собою вес толпы, ее импульсивные движения.
XVI
Если бы толпа по природе своей была существом высшим, нежели человек, то служение ей было бы благородной жертвой. Но – как давно раскрыли вдумчивые наблюдатели – толпа имеет психологию низшего типа. Если это существо, то существо неуравновешенное, маниакальное, способное иногда на хорошие порывы, но гораздо чаще – на безумства. Толпа порядочных людей иногда ведет себя, как негодяй, и вместо того, чтобы обеспечить общую безопасность, толпа наталкивает на преступления. Часто, по словам Сигеле, ни судьи, ни сам преступник не подозревают, что он всего только несчастный, потерпевший крушение в социальной, внезапно разразившейся буре. Как механическая масса, толпа способна на движения мертвые, внезапно охватывающие ее и исчезающие. Душа толпы – страсть, и на разумное решение она не способна. Истина – плод обыкновенно одинокого гения, обретающего ее в глубоком сосредоточении духа. Толпа, напротив, – вся – рассеяние, вся поверхностность. Она сосредоточивается лишь в ощущении, и тогда порывы ее неудержимы. Это свойство толпы загубило древние демократии. Как только община разрасталась, делалась многолюдной, психология ее понижалась; народ делался взбалмошным простаком, каким его изображает Аристофан, – орудием в руках любого проходимца. Новым демократиям угрожает та же опасность. Психология народных собраний, митингов, парламентов и печати (которая тот же парламент, только на бумаге) – далека от той степени благородства и достоинства, которые можно встретить в отдельных людях. И поведение, и мысль даже такой организованной коллегии, как английский парламент, не могут служить образцами для частных людей. То, что называется великодушием, бескорыстием, терпимостью – явления здесь почти неизвестные, и наоборот эта высокая толпа из "лордов и джентльменов" – способна подчиняться самым низким чувствам, как доказывает война с бурами.
Психология толпы не имела бы значения, если бы толпа не предъявляла своих державных прав. К сожалению, XIX век выдвинул толпу как власть и подчинил ее психике отдельную личность. С необычайным развитием средств сообщения, дорог, почты, телеграфа, печати – с крушением натурального хозяйства и заменою его денежным, жизнь общества постепенно принимает толповой, стихийный характер. Постепенно все население, до глубин народных вовлекается в чудовищный спорт политики и биржи. Постепенно "мир" – высшее благо естественной общественности – заменяется всеобщею "борьбою". Если в организованном обществе, как в организме, все клетки тела всегда на своих местах, то в толпе они удерживаются лишь внешним давлением. Борьба с последним составляет предмет стачек, бойкотов, обструкций и множества других форм бескровных междоусобий, входящих все более и более в обычай. На этом кипении человеческих страстей иные основывают все надежды. Из свободной борьбы, видите ли, непременно должен выйти победителем новый, более справедливый порядок. Почему? Какое жалкое предубеждение! Борьба по самому существу не есть источник ни разума, ни справедливости. Борьба есть состязание страсти, в ней лишь то считается мудрым и честным, что ведет к победе. В жизни толпы одновременно устанавливается столько критериев разумного и доброго, сколько партий. В конце концов взволнованная таким образом жизнь представляет беспрерывное крушение общественности, социальный хаос. Как в азартной игре, такое состояние общества дает возможность иногда ничтожным людям вдруг приобретать огромный вес, обогащает их капиталом и властью, но зато повергает и значительных людей в ничтожество. После Гладстона тотчас возможен Чемберлен, после Гамбетты – Буланже. Совершенно не заметно нравственного прогресса толпы; в конце века она более груба и кровожадна, нежели в средине его. XX век застает великую либеральную партию в полном разгроме. На родине ее – Англии – она в развалинах, по всей линии торжествует джинго. Во Франции только трусость, обуявшая буржуазию, мешает окончательному торжеству националистов. В Германии, Австрии, Италии – всюду власть в руках партий, которые откровенно выставляют государственный эгоизм выше права. Даже Новый Свет, страна XX века, бредит империализмом и централизацией. И здесь толповая политика ведет к крушению свободы.
XVII
Мечтатели нашего столетия возлагают великие надежды на социализм, они указывают на быстрый рост этой партии в разных странах и на мирное завоевание ею власти. Но социализм в конечных целях есть окончательное подавление свободы, торжество массы над элементом ее, личностью. Социализм есть самая тяжкая, вполне омертвевшая форма государственности – государство без общества. Ведь "общество" в его свежем состоянии есть такое сожитие, где личности дан известный простор, социализм же этот простор стесняет до нуля. Конечно, в самом учении делаются всевозможные оговорки об обеспечении личности, но эти обеспечения ничтожны пред логикою самого принципа. Если всеми принято будет право общества управлять всею жизнью личности, инерция этого начала дойдет до своего предела – полного порабощения человека. В истории социализм, под другими именами, действовал и всегда приводил к всеобщему рабству. Стоит вспомнить древние или средневековые республики. К сожалению, принципы социализма имеют силу над умами и проникают под другим именем в самое миросозерцание народное. В странах, где нет вовсе социал-демократической партии, постепенно и безотчетно устанавливается государственный социализм, в виде вмешательства центральной администрации в самые интимные дела общества. Население все более и более делается склонным слагать на власть заботу о своем счастье, оно отказывается от всякой инициативы, предоставляя себе только исполнительную роль. Если прежде от государства требовали только защиты от врагов внешних и внутренних, то теперь требуют и материальной опеки; хотят, чтобы государство регулировало промышленность и торговлю, поддерживало бы те или другие сословия, нормировало бы потребности, обеспечивало бы достаток. Как древний plebs5 кончил тем, что требовал "хлеба и зрелищ", не умея или не желая добыть их сам, так и нынешнее общество: чувствуя, что оно умирает как организм, оно отдает государству все хозяйство, всю свою независимость. Как в век Платона, многие жаждут общности не только имуществ, но жен и детей, не подозревая, что в этой "общности" окончательная гибель "общественности", превращение общества в минеральную массу. Ничто так не угрожает личности человеческой и развитию человеческого типа вообще, как торжество этого учения. Его идеалы – о всеобщем труде и взаимопомощи, об отречении от эгоизма и пр. высоки и святы, но лишь пока достигаются добровольно. Раз человечество начнут принуждать к святости насильно, это будет худшим из рабств. Современное государство, при всех недостатках, несравненно мягче социализма: оно борется с человеческими грехами, но не настаивает на добродетелях, предоставляя их свободному творчеству душ. Успехи социализма, может быть, объясняются не чем иным, как упадком личности. Для обессиленных, обесцвеченных, измятых душ из всех состояний самое подходящее – рабство, и XX век, вероятно, для многих стран осуществит эту надежду. Когда от человека отойдет забота о самом себе, когда установится земное провидение в виде выборного или иного Олимпа земных богов, тогда человек окончательно превратится в машину. За определенное количество работы эту машину будут чистить, смазывать, давать топлива и т.п. Но малейшее уклонение машины от указанной ей роли встретит неодолимые преграды. Меня лично эта утопия не прельщает. Я родился и вырос в эпоху, когда человек еще в широкой степени был предоставлен самому себе. Будучи в некоторых отношениях рабом своего народа и получая за это некоторые выгоды, во всем остальном человек оставался свободным. Как устроитель своей судьбы, он являлся существом самодержавным и даже как бы божественным в отношении своей жизни. Непосредственно после Бога он во многом был первой властью над собою, и это придавало особенное достоинство самому имени "человек". Придавало жизненность, красоту и радость существованию. Необеспеченность такого человека, необходимость вечного промышления о себе были источником его энергии. Лишения, даже тяжкие, угнетали менее, чем гнетет полная обеспеченность при подневольном труде. Тип человеческий, при старом порядке, все же сохранялся и расцветал. Что ждет его при торжестве новых начал – вопрос крайне спорный.
XVIII
Истекающему веку пришлось горько убедиться в истине, что малейшая погрешность в целях жизни делает ничтожными огромные средства к ней. Великие силы, вызванные человеком из недр природы – пар, электричество, динамит и т.п., великие изобретенья, создавшие бесчисленный класс железных рабов – машины с их демоническою способностью к труду, – все это обещало для человечества новую эру, эру полного освобождения от зла. Но зло торжествует в конце века не менее, чем в его начале. Демонические силы, обещавшие безмерное богатство, сдержали обещание, но вместе с богатством одних классов принесли новую бедность для других. Машинное производство сильно понизило стоимость всех предметов, кроме предметов первой необходимости: их стоимость повысилась и все повышается, местами в прогрессии ужасающей. А так как огромное большинство народное всюду обеспечено лишь настолько, что покупает предметы лишь первой необходимости, то оно ничего не выиграло от понижения цен на роскошь и много проиграло от увеличения их на пищевые припасы. "Хотя на соверен богатый человек купит теперь гораздо больше, чем пятьдесят лет тому назад, но бедный человек купит на него гораздо меньше", – говорит один английский исследователь (Д.Гобсон). Одна квартирная плата увеличилась в последнее полустолетие на 150%, страшно вздорожало топливо, мясо, овощи, молоко и т.п. Машины, как древние рабы, обогащают только своих хозяев – класс малочисленный, огромное же большинство народное лишено этими машинами своих древних заработков. Новый ткацкий станок выгнал на улицу сотни тысяч женщин и девушек и создал пышный расцвет проституции в этом веке. Железные рабы, из которых каждый упразднил десятки и сотни человеческих рук, обрекли миллионы рабочего населения на изгнание из родной страны; от чудесных машин, как от чумы, приходилось бежать за океан, в пустыни и леса. Пока земли были не заняты капиталом, пока эмиграция была возможна, – народ еще спасался от машинной культуры, но на земле осталось уже немного места для новой колонизации. Куда деваться "лишним рукам"? Это один из проклятых вопросов, которые XIX-ое столетие оставляет в наследие XX-му. Вдумываясь в эту центральную загадку, ясно видишь, что омертвение общественное стеснило не только свободу человека, но и труд его. Так называемые "первобытные" условия (натуральное хозяйство, кустарные промыслы) давали большее обеспечение большинству. Не было возможности внезапных обогащений; какой-нибудь торговец селедками не разживался в миллионера, не появлялось бесчисленных "королей" – железных, сахарных, нефтяных, каменноугольных, но всякий бедняк находил себе работу и кусок хлеба. Уходящий век, стремясь к равенству среди людей, дал несомненно самые чудовищные примеры неравенства в распределении благ земных. Бедняки делаются беднее, богачи – богаче; идет великий экономический раскол, и народам континентальным, которым "некуда бежать", как, напр., индусам или отчасти русским, приходится особенно круто от этого страшного общественного перелома.
XIX
Что век грядущий нам готовит? Я коснулся здесь мимолетно лишь некоторых моментов столетия – жизнь, как вечность, разнообразна, необъятна. Не хочется мрачных пророчеств. Человечество изранено великими ранами бедности, невежества, рабства, пьянства, разврата, душа его измята безумием и отчаянием. Но чувствуется, что жизнь выше всего этого и в корне своем неистребима. Пусть выродятся целые народы, вымрут страны и материки: где-нибудь пробьются свежие отпрыски, которые начнут новую жизнь. Колоссальное богатство духа, обнаруженное белой породой, не может же исчезнуть бесследно. Эта сила, проявленная извне, может войти внутрь и вступить в серьезную борьбу с гибельными условиями. Животных спасает инстинкт, предчувствие, заставляющее бежать перед начинающимся наводнением или пожаром. Человечество должен спасти разум – может быть, тот же спящий теперь инстинкт жизни, более высокий, чем у животных. Я не думаю, что этот разум проснется под внушениями науки, литературы, искусств. Эти внушения сами – продукт возникшего уже разума, и не всегда самый свежий. Чаще всего голос науки и искусств скован преданиями, наслоение которых постепенно до того усиливает раз принятое мнение, что с ним не в состоянии бороться более свежая мысль. Как ни велики подвиги умственного творчества в нашем веке, все же не отсюда, не из книг нам явится откровение. Мне кажется, спасительный переворот, если суждено нам пережить его, произойдет – как всегда – таинственно и незримо, в глубине душ, подобно зреющему плоду. После страстного возбуждения этого века, столь увлекательного, может быть, вдруг захочется покоя. То, что казалось смертью заживо, покажется блаженством. После воспаленной жадности – все эти несметные богатства покажутся скучными, роскошь – суетною, победа над ближними – неблагородною. Что-то изменится, как в природе в дни солнцеповорота, и души человеческие потянутся к иному миру, и радость "мира сего" покажется презренной. Почему не повториться движениям первых веков нашей эры? Конец XIX века во многом напоминает ту эпоху. Богатый, пышный, роскошный, кровожадный, исступленный мир может вдруг потерять свою прелесть, и снова людей живого духа потянет вон из городов, вон из толпы, к вечной тишине природы, к уединению, к свободе. Тогда среди развалин деревень, среди заглохших полей снова раздадутся счастливые молитвы вновь обретенному Отцу миров. Предчувствие такого возрождения ощущалось уже в конце нашего века. Может быть, XX век разовьет дальше это движение. Иного спасительного пути я не вижу.
Прощаясь с прекрасным и безумным веком, вспоминая с болью его ошибки и преступленья, – вспомним с благодарностью о тех великих, гений которых дает нашему веку бессмертие. Помянем в своем сердце бесчисленные безвестные существования, из которых каждое обнимало собою вечность. Помянем своих дедов и отцов, вынесших на своих плечах весь гнет столетия. Помянем свою ушедшую молодость с ее очарованьями и скажем: благословенна жизнь...
1900
О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ И НАРОДНОЙ ГОРДОСТИ
ЦЕНЗ ПОМАЗАНИЯ
В эти дни Россия невольно оборачивается на свое прошлое. Какая даль, какой простор! На сверхтысячелетнем протяжении времени приметны три главные этапа, три как бы новых эры истории. К летописной дате призвания Варягов прибавьте приблизительно 3 '/2 века, получится начало 13-го столетия, появление татар. Прибавьте еще 3 1/2 века – получится конец 16-го столетия, крушение династии Рюриковичей. Прибавьте еще 3 '/2 века – получится наше время, которое история назовет гораздо более знаменательным и серьезным, чем кажется.
Добровольное призвание власти – вот что характеризует нашу историю, повторяясь от глубины веков. Древнейший летописец бесхитростно записал причину возникновения государственности: земля велика и богата, а наряду в ней нет. "Наряду", то есть организованности, планомерного порядка. До нас не дошли подробности великой доисторической смуты, заставившей новгородцев пойти на такую рискованную меру, как призвание чужестранной власти. Надо думать, что анархия была продолжительна и наконец показалась нестерпимой даже для первобытных племен, которых торговля на великом пути из варяг в греки несколько цивилизовала. Но если поверить норманнской теории, самое призвание князей предполагает две вещи: во-первых, хорошее знакомство новгородцев и союзных с ними племен с преимуществами варяжской власти (возможно, что те же Варяги-Русь не раз нанимались новгородцами и прежде и были достаточно испытаны, прежде чем поступить на постоянную службу славянским общинам); во-вторых, призвание князей предполагает уверенность народа в безопасности от них. Учреждение монархии не уничтожало древненародного участия в правлении. Оставалось, как и было, народное вече и совет лучших людей, то есть зачаточные палаты парламента. Призвание князей было актом единения народа с властью, а не разъединения. Одно великое начало было оплодотворено другим великим, и в результате мы видим блистательное рождение первой русской империи – новгородско-киевской. Монархия в удельный период существенно ограничивает народовластие, непрерывно организуя народную стихию путем суда, администрации и внешней обороны. Народовластие, со своей стороны, существенно ограничивает монархию, удерживая ее посредством присяги и увольнения в закономерных границах. Последствием явилось появление целого ряда великих государей, развивших древнерусскую цивилизацию (к эпохе Ярослава Мудрого) на степень не низшую, а в некоторых отношениях даже высшую, чем на Западе.
К глубокому сожалению, география наша с искони веков заедала историю, и в этом заключается основная драма нашего племени. Слишком огромная, слишком суровая наша страна служила западней для многих племен. Постепенно втягиваясь в океан дремучих лесов и болот, в океан открытых отовсюду степных пустынь, эти племена часто затеривались там, изнемогали в борьбе с природой, дичали и пропадали. Если приморские народы рано развивали цивилизацию и стойко поддерживали высокий уровень культуры, то глубоко континентальные племена обречены на обратный процесс. Вот почему феодальная наша (удельная) система не удалась. Она оказалась не способной отстоять Русь от азиатских кочевников с одной стороны и от ближайших западных соседей – с другой. За первые три с половиной века варяжское единодержавие пришло в расстройство: уделы постепенно отбились от имперской власти великого князя, установившееся единение монарха и народа сменилось постепенно разъединением, и Русь подпала под татарское и литовское иго.
Восстановление России начинается в лице кроткого и вместе мужественного князя Александра Невского, сумевшего на развалинах царства привлечь к себе любовь народную, то есть возродить нравственное единение народа и власти. Великим плюсом, связывавшим этот основной двучлен, явилась церковь. Православный крест соединял высшие и низшие наши сословия до неразрывной связи. Крестным целованием обязывались друг другу и власть, и народ для взаимного, одинаково священного служения. Последствием этого морального единения, скрепленного отчаянием, было постепенное возвеличение князей московских, постепенное накопление мощи, развившейся до Куликовской битвы и, наконец, – до самодержавия Ивана Великого. Русь Восточная, великорусская, сбросила с себя монгольское ярмо и соединила многие разошедшиеся земли Владимира Святого. Но в процессе этом, тяжком и многотрудном, опять постепенно истратилась интимная связь между монархом и народом. Как французские феодалы, пока они сидели в деревенских замках, возвеличивали Францию и короля, а как только потянулись ко двору скомпрометировали в глазах народных и самих себя, и монархию, – так случилось еще раньше в Московской Руси. "Княжата", потомки удельных князей, набились в Москву и составили сословие чисто придворное, отделившее царя от народа. Потеряв собственную власть и получив значение лишь в меру близости к царю, бояре, подобно французской аристократии, довели культ монархии до разрыва ее с народной почвой. Установилось средостение, разделявшее народ и власть. Неслыханное раболепие не препятствовало измене, – не было бы низких интриг и жестоких казней, если бы совершенно не было крамолы. Умные самодержцы московские чувствовали, что валяющиеся в ногах у них княжата и бояре насыщены всеми добродетелями и пороками челяди. Были, конечно, благородные бояре, служившие царю и народу не за страх, а за совесть, – ими земля держалась, – но они тонули в преобладающем большинстве знатных выходцев из разных краев, интерес которых был не в том, чтобы сблизить монарха с народом, а в том, чтобы разъединить их. По принципу: "разделяй и властвуй", коварная московская бюрократия успела вклиниться между землей и троном до полного (моментами) разъединения царя с народом. Ужасы эпохи Грозного следует считать прямым предвестием анархии. Хотя тирания царя ложилась преимущественно на бояр, подозреваемых в измене, – но разгром торговых городов и неистовства опричнины были обращены одинаково и на все другие сословия. Между Иваном IV и Михаилом Федоровичем Россия агонизировала.
Никогда власть монарха не казалась столь высокой, но никогда она не отделялась в такой степени от стихии народной. Начался совершенно безотчетный, как в химических реакциях, процесс разложения государства и безотчетное же сопротивление этому распаду со стороны всего живого, что оставалось в народе. Прошло несколько мимолетных династий, завядших в завязи: Годунов, Дмитрий (или "Лжедмитрий"), Шуйский, Владислав... Кому только не присягало расстроенное сердце России, кому только не соглашалось отдать власть над собой! Даже на том самом учредительном соборе, который избрал на царство молодого Романова, были сторонники не только Владислава и Сигизмунда, но и шведского царевича Филиппа и даже австрийского Габсбурга Максимилиана...
В числе многих, я имел вчера истинное наслаждение выслушать блестящую лекцию нашего знаменитого историка С.Ф. Платонова. Коротко и сжато он ответил на самый интересный, самый волнующий вопрос нашей истории XVII века: почему в 1613 году на московский престол был избран именно Романов? Старая Русь была богата великими родами, гораздо более знатными, нежели Романовы. Потомки Рюрика и Гедимина кичились своим происхождением. Прекращение одной ветви Рюриковичей, казалось бы, естественно передавало монархическую власть другой ветви, следующей по старшинству. Таких ветвей были десятки, если не сотни. Боярство московское в разгар смуты остановилось было на Шуйском, – но тотчас же оказалось, что одного авторитета породы мало. Необходим был более глубокий, более таинственный и священный авторитет – авторитет нравственный, который и представляет то единение царя и народа, что утверждает династию. "Княжат" – Рюриковичей и Гедиминовичей – было сколько угодно, все они знали друг друга насквозь, все были ознакомлены с взаимными кознями еще в эпоху Грозного и Годунова. "Княжата" не внушали друг другу достаточного уважения, и живой пример был налицо. Только что возвели на престол Василия Шуйского, как начались те же около него интриги, опалы, гонения, казни. Хотя монарх и ограниченный, избранный с "записью", Василий оказался явно плохим царем. Такими же обещали быть и другие Рюриковичи и Гедиминовичи, или почти такими же. Отделившая царя от народа среда боярская сама испугалась,
так сказать, переразвития самодержавия. Вся смута и все поиски нового царя в Польше, Швеции, Австрии и т.п. были заведены с целью ограничения чрезмерного произвола, ставшего уже нестерпимым. Но чувствовалось, однако, что вовсе не в ограничении главный вопрос власти, а в возможности искреннего и сердечного уважения ее.
Романовы потому и соединили в себе народное единодушие, что этот род боярский оказался наиболее нравственно заслуженным. Вот основной ценз новой династии, раскрывшийся лишь недавно, благодаря новейшим историческим изысканиям. Собственно, избран был на царство не Михаил; слишком молодой и болезненный, он казался слишком хрупким для многотрудного царского подвига. Избран был наиболее любимый, наиболее чтимый род боярский, а так как в этот роде не было уже живых представителей, кроме Михаила, способных занять престол, то пришлось остановиться на этом представителе. Отец Михаила, спасшийся от Годунова под клобуком монашеским, в силу монашества, не мог быть царем; притом он находился в плену. Дядя Михаила лежал в параличе, и больше никого Романовых не было. Но имелось налицо нечто большее: живая и благодарная в народе память о Романовых. Эту память народ вменил отроку Михаилу, как достаточное право на царство. Безупречная репутация, передаваемая из рода в род, оказалась могущественнее самых изощренных интриг Рюриковичей, Гедиминовичей, татарских и польских выходцев. Ближайшим собирателем этого великого нравственного фонда для новой династии был дед Михаила, Никита Романов. Профессор С.Ф. Платонов утверждает, что это был "громадный политический талант", умевший выходить с честью из самых трудных задач той эпохи. Благородный и мягкий, чуждавшийся придворных козней, Никита Романов имел очевидное для всех хорошее влияние на Ивана Грозного, как и первая жена Грозного – Анастасия, рожденная Романова. Эти два прекрасных человеческих типа, мужской и женский, – Никита и Настасья, должны были глубоко врезаться в воображение народное, если перешли даже в песни.
Само собою разумеется, что бояре Романовы при Грозном никогда не представляли себе и тени возможности когда-нибудь воссесть на престол Москвы. Если они стояли верно за государство и простой народ, то потому только, что это соответствовало их благородному характеру, не более. Но народ впоследствии всего более оценил этот характер и признал его наиболее царственным. Мне пришлось слышать от одного знатока истории, что Романовы потому были популярны в народе, что в ряду поколений, переженившись с Рюриковичами, они унаследовали множество вотчин в разных краях России. Но, стало быть, во всех вотчинах они были теми же кроткими, справедливыми и заслуживающими любви народной. Избрание Михаила, намеченное еще 7 февраля 1613 года, профессор Платонов объясняет, между прочим, тем, что в Москве стояло все еще преобладающее по силе казацкое ополчение, а казаки донские высказались за Михаила. Это тоже подтверждение доброй славы о Романовых, бежавшей, очевидно, до границ русского племени. Кто такие были казаки? Это были беглецы из Московской Руси, самая энергичная часть простонародья, которой гнет московский казался нестерпимым. Убегая в южные степи, записываясь в вольницу республиканского склада, беглое простонародье, однако, помнило, что из всех бояр тогдашних, помыкавших народом, хорошо говорят только о Романовых. Голос донского атамана имел решающее значение, притом вполне осмысленное, ибо казаки успели в Тушине лично познакомиться с Филаретом, отцом Михаила. Наверное, они слышали его рассказы о гонениях Годунова, о лютых муках его рода, – эти рассказы запали в храброе казацкое сердце. Но собор, избравший Михаила, не хотел довериться себе и разослал гонцов в разные города спросить – люб ли земщине новый царь. И когда уже после этой проверки выяснилось полное народное единодушие, оно было принято всеми как голос Божий. И в самом деле, не чудо ли это вообще, что в огромной земле нашей, истерзанной распрями, замученной раздором, – вдруг все остановились на одном роде, на одном имени? Такие чудеса вызываются лишь особою, потомственною заслугою целого ряда поколений, и именно нравственною заслугой.







