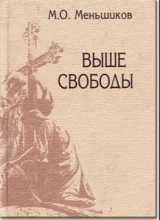
Текст книги "Выше свободы"
Автор книги: Михаил Меньшиков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
"Почему же вы, в самом деле, не огородите дороги?" – спрашиваю знакомого крестьянина. "Где ж тут ее огородить? – отвечает. – Она длинная, полоса-то. Сколько кольев пойдет, сколько жердей. Откуль их взять. Да и некогда нам!.."
Как у всех неудачников, у нынешних мужиков такая складка: они всегда правы. Ни в чем себя не повинят, – во всем виноваты какие-то злые люди бары, богатей, начальство. Чем они виноваты – мужик ясно не представляет себе, но у него безотчетное чувство, что виноват не он. Что ж, может быть, в каком-то важном отношении мужик прав. В конце концов, виноваты бары, богатей, начальство. Если бы высший класс был на высоте своей роли, он не выпустил бы из рук своих культурной власти над народом, не перестал бы быть двигателем народной силы и организатором ее. У Манилова изгороди были разрушены и в крепостное время, но Собакевич не терпел такого безобразия. В дождливую погоду, когда убирать хлеб нельзя, мужики у Собакевича рубили в лесу колья и жерди, возили щебень на дороги, рыли канавы. Глядишь, дорогое время не было потеряно, и дождливая погода давала свой хороший вклад в хозяйство. В лице выродившихся Маниловых, Тентетниковых, Обломовых, Ноздревых от народа отошла в 1861 году вредная сила, но в лице Собакевичей, Костанжогло, Штольцев отошла сила очень полезная. В крепостное время если не сам помещик, то иной раз староста, обыкновенно – самый талантливый мужик – решал за всю деревню, что ей делать в затяжной дождь и что в вёдро. Все силы крестьянские бывали использованы, а не гибли в теперешней хмурой лени.
Прежде народ – даже доведенный до рабства – пел, – пел, потому что хорошо работал и был вследствие работы силен и свеж. Нынче и у нас старые песни забыты. Народ разучился петь. Поют гнусные частушки, а из больших песен мне назвали прославленную Горьким арестантскую песню ("Солнце всходит и заходит"). Над озерами, среди лесов и гор, уже нет-нет да и раздастся: "Вставай, подымайся, народ!"
* * *
Человека хоронят не потому, что он человек, а потому, что он перестал быть человеком. Крепостное право отменено не оттого, что оно было крепостным правом, а оттого, что оно перестало быть им, и в степени непоправимой. В 1861 году это был труп, теперь это – смрадное место, где на месте тления не сложилось еще никакой жизни.
На крепостную эпоху справедливо смотреть, как на эпоху консерватизма. Благородный период этой эпохи именно и был таким. Аристократию следует понимать как постепенное усовершенствование, накопление силы и красоты. Капитал невозможен без бережения – вот происхождение консерватизма. Достижение, тщательная охрана, благородное использование – три определяющие момента аристократического склада общества, которое в старину было аристократическим сверху донизу. Прошлое, настоящее и будущее культурной жизни сливалось в этих трех направлениях. К сожалению, феодализм наш, расстроенный татарами и сложившийся затем слишком поздно, окончился слишком рано. Достижение оказалось слишком легким; помещикам после Петра Великого дали без достаточных услуг чрезмерно много. Этим было подорвано консервативное начало – охрана достигнутого. Шальное богатство впрок не идет. Одновременно с безоглядочной раздачей государственных имуществ начинается мотовство помещиков, распущенный, пьяный, бездельный образ их жизни. Мотовство – вещь абсолютно противоположная консерватизму. Использование доставшихся даром средств при мотовстве не могло быть благородным. Только труженик, собственность которого есть его душа, воплощенная в предметы, знает цену ей. Только честный труженик может тратить собственность благородно. Дворянское мотовство уже в крепостное время развратило народ соблазнами, приучило к небрежному, циническому отношению к труду.
Если есть еще наивные люди, думающее до сих пор, что народ наш консервативен, то это смешная ошибка, не более. Может быть, народ был когда-то консервативен, сто лет назад, – но теперь этого нет, и это "нет" следует учитывать во всем его значении. Нынешний крестьянин – кроме разве глубоких стариков – почти равнодушен к Богу, почти безразличен к государству, почти свободен от чувства патриотизма и национальности, почти обездушен во всем, что когда-то составляло дух народный. Говорю "почти", чтобы отметить не полное отсутствие старых инстинктов, а лишь опасный упадок их. В старину, в патриархальные времена, крестьянин – как собака к будке – страшно привязывался к своему двору, к своей избе, к родной семье. Оторвать парня от дому бывало так же для него больно, как оторвать от тела живой орган. Куда бы ни забрасывала человека судьба, он мечтал, как о высшем счастье, о возможности попасть домой. Теперь не то. Теперь деревня разбредается, расползается по городам, разлезается, как гнилая ветошь. Парней и даже девок ничем не удержишь дома. Дома начинают тосковать, как прежде тосковали на чужой стороне. Города русские, не выполнив своей культурной миссии – просветить деревню, – начинают действовать антикультурно, развращая деревню. Как мошек на огонь, крестьянскую молодежь тянет на легкие хлеба, на городские промыслы, на веселую жизнь фабрик, трактиров, публичных домов. Нужды нет, что в городах крестьяне чаще всего попадают в унизительные условия прислуги и что хлеб городской оказывается иногда вовсе не легким. Крестьян, отбившихся от жизни, тянет попытать счастья в неопределенном, анархическом труде. Деревни полны легенд: такой-то вышел в купцы, такой-то обольстил купеческую вдову, такой-то получает в городе, сколько и во сне не снилось. Крестьянин знает, что ему придется пройти в городе огонь, и воду, и медные трубы, но отчасти именно эта скитальческая жизнь, полная приключений, и тянет испытать ее. В крови русского крестьянина много кочевых инстинктов. Шататься, бродить, бродяжить – любезное дело, особенно пока не стар. Молодая деревня тем охотнее бежит с разоренной родины, из невылазной грязи, из неудачнического, доведенного местами до идиотизма, хозяйства. Города наши затопляются полчищами безработных. Это люди хуже, чем не имеющие работы. Чаще всего они – не умеющие работать, бежавшие из деревни от своего неуменья, от странной лени, от неохоты жить, от неспособности ухватиться за что-нибудь и зацепиться. Вероятно, значительную часть громадной переселенческой волны составляют эти же "неприспособившиеся". Как ни быстро спивается с круга и погибает их полчище, оно представляет главную угрозу государству. Отбившемуся от земли крестьянству нет нужды читать анархические прокламации. Без всякой пропаганды эти люди уже анархисты. Как опавшие с дерева листья, они поневоле мечутся по земле, составляя сор ее. Быстрый рост бродячего пролетариата представляет язву не одной России. Продукт нашей перезревшей цивилизации, он подготовляет катастрофу её.
"Не все же крестьяне бегут в города", – заметит читатель. Совершенно верно, отвечу я. Скажу более: из тех, что бегут в города, многие не порывают связей с деревней. Многие высылают в деревню заработанные гроши, и местами еще большой вопрос, кто кормит кого: деревня ли город или город деревню. Все так теперь извратилось и перепуталось, как в китайском калейдоскопе. Если я не ошибаюсь, однако, город все-таки больше высасывает из деревни, чем дает ей. Начиная с людей. Все талантливые молодые люди, из дворянских семей и из крестьянских, уходят обыкновенно из деревни навсегда. Трудно подсчитать, до какой степени это разоряет глушь. Выходит все равно как если бы на огороде вы тщательно выпалывали самые удачные экземпляры овощей, а оставляли бы самые неудачные да сорную траву. Получилась бы не культура, а антикультура. Городская цивилизация обирает мужика, начиная с лучших его детей. Деревенская раса мельчает – не только вследствие недоедания, но и вследствие отбора лучших, что идут в города. Городское крестьянство тоже не Бог весть что, но все же это гвардия народная, и нельзя предположить, чтобы земля не страдала от ухода с нее всего, что крупно.
Проехав десятка два деревень, я нашел во многих из них перемену. Там, где невдалеке прошла железная дорога, мужики сильно поправились, главным образом от извоза. Это отразилось прежде всего на постройках. Появилось много светлых, обшитых тесом изб, хорошо крытых соломой "под лопату". Есть крытые "лучинкой" (по-моему – щегольской, но самый нелепый тип кровли, приспособленный как бы нарочно для пожара). Встречаются, и очень часто, избы в два, даже в три сруба, настоящее дома, хоть бы уездному городу впору. Окна – крупные, светлые, цветочки на окнах, занавесочки. Крайне редко, но встречаются уже полусадики, фруктовые садишки и огороды. По расспросам, вообще крестьяне чувствуют наклон к комфорту, черта и хорошая, и плохая,
смотря по тому, представляет ли она следствие соблазна или потребности. Роскошь, как известно, и разоряет, и понуждает к труду. Лет тридцать назад крестьяне нашей местности, еще не вышедшие из курных изб и лучинного освещения, набросились на новую одежду: ситцы, шелка, плис, сапоги, пиджаки и проч. Ситцевая мануфактура сильно разорила тогда крестьянство, убила тысячелетний бабий промысел – домотканое белье и платье. Теперь, не знаю отчего – оттого ли, что крестьяне разорились или мода прошла, но одеваются беднее. В первый Спас я был на погосте шелковиков у баб что-то уже не видно. Последние остатки древнерусских костюмов (сарафаны, повойники и проч.) совсем исчезли. У всех женщин кофточки и юбки; у мужчин, даже у стариков, пиджаки. Совсем чухонщина, а не Россия. Стало быть, так у нас на роду написано: ведь и в старину у нас одежда была не своя, а татарская (сарафан, кафтан, армяк, зипун и проч.). Вместе с движением строить хорошие избы, чему в самом деле способствуют пожары, замечается большая требовательность в еде. Конечно, бедный крестьянин сидит на картофеле да на спитом чае, куда крошит хлеб, – но пушного хлеба, обычного в старину, уже не едят. Потребностью становится пеклеванный хлеб. Чуть побогаче, нынешний крестьянин любит поесть. Опять же это и хороший признак, и дурной, смотря по его происхождению.
До сих пор я ничего не сказал о пьянстве в деревне, хотя достаточно было бы как следует осветить эту сторону, чтобы трагедия деревни стала ясной. О пьянстве что же писать? Пришлось бы повторяться. Пьют по-прежнему, по-скотски пьют, погано и безобразно. Первого июля – большой ли, кажется, праздник? Всего лишь Маккавеи какие-то, еврейские генералы, которых нам чтить, казалось бы, решительно не за что. Притом будень день, суббота. Тем не менее по проселочным дорогам брели шатающиеся пьяные. Гнусно видеть, как выписывает мыслете иной старик, и тут же идет его дочка, внучата. Проезжаю станцию недавно построенной железной дороги. Пьяные валяются, как трупы, у вокзала и по улицам. "Смотрите, не раздавите человека!" – кричит женщина моему кучеру. А "человек" уткнулся носом в засохшую грязь, и тут же его рвота. Немного дальше молодой парень тащит двух пьяных стариков – один из них плешивый, другой в шляпе-котелке. В воздухе от всех троих висит самая зловонная ругань. Это, заметьте, на станции вновь открытой железной дороги, которую ждали сорок лет, тосковали о ней, мечтали. Она врезалась наконец во мхи и болота с своим паром и электричеством – и вот какое встречает культурное человечество!
Омерзительное пьянство народное – самое яркое доказательство отсутствия у нас – и уже с давних пор – внимательной власти. Чиновническому правительству, по-видимому, все равно – гибнет народ от пьянства или не гибнет, вырождается он или не вырождается. В каждой крупной деревне теперь непременно открыта "казенная винная лавка" нумер такой-то, да сверх того всюду пошли пивные лавки. Жадный до водки – пьют ее иные уже не рюмками, а чайными стаканами, – народ наш оказался крайне жадным и до пива. "Корова столько не выпьет воды, сколько мужик пива", – говорили мне в одной деревне. Пьют уже не бутылками, а ящиками, по дюжине, по две дюжины бутылок на брата... Кроме казенных кабаков в каждой деревне в двух-трех местах есть тайная продажа водки. Она всего на четыре копейки дороже казенной, считая бутылку. Русское пьянство народное вступает, по-видимому, в период какого-то особого психоза. Оказывается, у нас в большом распространении, кроме водки, так называемая ликва. Это уже не спирт, а какой-то эфир, рюмка которого, как мне говорили, стоит семь копеек. Пахнет ликва гофманскими каплями, от нее дух захватывает и как будто насквозь пронизывает человека. Прельщает в ликве то, что нужно, в противоположность пиву, немного ее, чтобы человеку совсем обалдеть. Торгуют ликвою тайно. Привозят ее главным образом жиды из Варшавы, из Лифляндии. В большом употреблении и другая отрава, привозимая евреями тоже тайно, – именно, сахарин. Крестьяне сыплют сахарин прямо в самовар и пьют эту ядовитую сладость без конца. Проявляй у нас более внимания к народной жизни правительство, агенты его, вероятно, давно бы подметили эти операции гг. евреев с ликвой и сахарином, и мне не пришлось бы писать об отравах, вошедших уже в обычай.
Любопытно, до какой степени евреи опутывают труд народный даже в губерниях по эту сторону "черты оседлости". У одного деревенского сапожника вижу две пачки шпилек – деревянных гвоздиков, которыми подбивают подошвы.
Несмотря на обилие леса, которого здесь девать некуда, сапожных шпилек местные люди не умеют делать. Приходится покупать их в чухонщине, с немецких фабрик. "Есть, – жаловался мне сапожник, – шпильки еврейского приготовления, но представьте себе – оказываются ольховые вместо березовых! Ломаются, и подошвы отлетают". И тут, стало быть, начиная с подошв христианских, еврей дает себя знать. Особенно тяжела еврейская лапа для трудящихся крестьян, покупающих землю. Облюбовал, например, крестьянин пустошку или усадебку у прокутившегося барина. Надо, скажем, восемь тысяч заплатить, а скоплено всего две тысячи. Приходится обращаться в банк, просить денег под залог земли. Еще до учреждения Крестьянского банка еврейские банки начали свои операции по этой части и успели забрать громадное количество земель. Наголодавшись на наделе, крестьянин думает, что стоит ему купить полсотни десятин – и он барин. На деле выходит не то. Начать сразу интенсивную культуру мужик не может: нет ни оборотного капитала, ни инвентаря, ни подходящих знаний. А трехполье едва-едва выгоняет ему проценты в банк, причем каждый год обыкновенно мужик платит пени, не будучи в состоянии поспеть в срок. Чуть запутался мужик, пеня нарастает. Идут годы, десятилетия, а мужик все платит, да платит евреям и никак расплатиться с ними не может. Нужды нет, что еврей отгорожен чертой оседлости. Он и оттуда достает зазевавшегося русака – будь то мужик или барин...
О деревне хотелось бы говорить без конца: ведь это тело России, ее плоть и кровь. Но что ж говорить? "И погромче нас были витии", да что толку. Чувствуешь громадный стихийный процесс, остановить который едва ли вообще в человеческих силах. Была консервативная пора, когда все складывалось так, что людям хотелось достигать, накапливать и сохранять. Сто тысяч трудовых дворянских хозяйств точно гвоздями приколачивали культуру к полудикой земле и оберегали ее богатства. Хорошие помещики очень берегли свое добро, берегли леса от порубок, озера и реки от истощенья, берегли землю от выпашки, берегли народ от пьянства и беспутства. В этом и состоял тогда консерватизм. Теперь огромные некогда леса погублены евреями. Озера и реки опустошены. Поля повыпаханы. Народ опустился и опаршивел простите за выражение, оно сельскохозяйственное.
Как паршивеет и вырождается скот на плохом корму, так и народ. В результате падения крепостного права через 50 лет после его отмены вы видите ограбленную природу и опустошенного человека. Одичание деревни идет, мне кажется, большими шагами. Как его остановить – придумать трудно. Правительство собирается вводить всеобщее обязательное обучение и финансировать народный труд. Но за эту поездку в деревню я еще раз убедился, что ни школа, ни капитал не возрождают крестьянина при теперешнем его душевном складе. Школа не спасает народ ни от пьянства, ни от лени, ни от невежества: она только обостряет социальное недовольство и плодит претензии. Капитал для нынешнего крестьянина (за редким исключением) ни к чему. Видел я и нескольких кулаков, то есть крестьян с деньгами. Только и умеют, что пивную открыть либо лавочку, где хищничают вовсю. Денег много, а то же остается хамство, почти та же грязь и никакой попытки вложить деньги в культуру, в организованное производство. Богатый мужик осуществляет лишь то, о чем мечтает бедный: вволю водки, селедки, чай, пуховик, баба, хорошая пара лошадей на выезд – и больше ничего. Растущий капитал пускается в дальнейший рост, а хозяин, оплывающий жиром, сидит на лавке в калошах на босую ногу, зевает да ждет мух в свою паутину. Таков богатый мужик – за редкими, повторяю, исключениями. Если бы все мужики вдруг разбогатели, Россия все равно была бы пропащей страной. Не в хлебе едином нуждается Россия!
1909
АНАРХИЯ И ЦИНИЗМ
Революция русская прошла – и если бы дело на этом остановилось, мы имели бы прекрасный порядок вещей, упрочившийся во всем культурном свете. "Прекрасный порядок" конечно относительно: у людей с более ангельскими характерами, у людей иного века мыслима жизнь еще более идеальная, и наконец, почему не настать когда-нибудь царству Божию, где волк, по мечте Исайи, ляжет с ягненком, а лев станет есть солому? Но пока не совершится медленное перерождение душ, это "царство правды" – одна мечта, и самые счастливые народы считают огромным счастьем добиться хотя бы "царства права", т.е. хотя бы сравнительной справедливости. Революция всюду установила это "царство права" – конституционный порядок. Просвещеннейшие народы гордятся им, как самым драгоценным приобретением цивилизации. Но после каждой революции всегда наступает некоторый период анархии, с которою приходится бороться – уже не старому, а новому порядку. Так было в древнем Риме при переходе к империи, так было во Франции в конце XVIII века и даже у нас при смене династий. Таким образом та анархия, которую мы сейчас переживаем, совершенно естественна и закономерна. Это неизбежная болезнь роста. Ее нужно пережить. С нею нужно бороться всеми силами, ибо как недосмотр за выздоравливающим больным – она сразу может лишить нас всех неизмеримых выгод революции и может (как было в Польше) стоить самой жизни.
Анархию я беру не как философское учение, а в ходячем смысле слова. Это – беспорядок, неустроенность, беззаконность, безвластие. И мне кажется, в этом виде анархия всего страшнее в России. Именно у нас – по ужасной нашей некультурности – беспорядок всего возможнее. Вспомните девиз нашей истории: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет". Ни у одного народа история не начинается с анархии, как у нас. И анархия эта продолжается, строго говоря, на протяжении всей истории. Разве удельная система была не анархична? Разве собирание Руси и жестокая тирания Москвы не были насквозь анархичны? Как summum jus – summa injuria20, террор законной власти вносил не порядок в страну, а беспорядок, отчего трон Рюрика и рухнул. Анархия продолжается при первых Романовых, и даже богатырь-реформатор не мог обуздать ее. Петербургский период, пожалуй, анархичнее московского – и так до последних дней. Прошедшая революция есть великая попытка справиться наконец с нашей бытовой анархией, положить конец тысячелетней смуте, наладить жизнь свободную, достойную огромного народа. Но само собой, новый порядок вещей еще не успел оказать никакого действия: оно еще впереди. Людям вдумчивым следует пристально вглядеться в анархию, проследить ее источники. Глубочайший из этих источников есть характер народный, воспитанный в смуте. Народ наш велик и обилен, но порядка в нем нет – нет порядка в его нервах, в его совести, в его рассудке, в его душе. Позвольте мне сделать слабую попытку заглянуть в эту темную пропасть – в глубину народной психологии, в историю народных нервов.
Бисмарк, говорят, носил железное кольцо с русскою надписью: "ничего!". Этим словом он определял таинственную силу самого страшного – восточного соседа Германии. Однажды, когда Бисмарк был послом в Петербурге, он заблудился на охоте и нанял мужика довезти его до станции. Дело было зимой, завернула вьюга, дорогу замело и князь считал себя погибшим. На все его опасения мужичок отвечал бодро: "ничего!" и знай хлестал клячонку. К изумлению великого дипломата, они действительно наконец выехали из дебрей, и он заказал себе кольцо на память. В этом "ничего!" Бисмарку чуялось необыкновенное, сверхчеловеческое упорство русского племени, его способность все презреть, все вынести и в конце концов – все преодолеть. Не знаю, анекдот это или правда, но этот девиз "ничего!" и в самом деле похож на лозунг нашего племени. Что в нем есть некая стихийная сила – это бесспорно, но в нем же и стихийная слабость и, может быть, все объяснение нашей горькой судьбы. "Все перенесем" – это точно, но чего это нам стоит вот вопрос. И не лучше ли было бы иной раз кое-чего не переносить?
"Ничего" – это нигилистическое "nihil", это отрицание, тогда как лозунгом творчества должно быть утверждение, твердое "да!", создающее жизнь. "Ничего" – это принцип анархии в обществе, принцип цинизма в отдельной личности. Вглядитесь в среднего, собирательного русского человека, в этого слабого, распущенного, неряшливого, добродушного и одновременно жестокого, всевыносящего человека. Не сама ли анархия глядит из его кое-как сделанной физиономии? Не воплощенный ли цинизм – его растраченная и бесформенная душа?
Философия характера
И слово и понятие цинизма я заимствую из нравственной философии. Предо мною три великих разновидности человеческого духа, выработавшиеся еще в глубокой древности. Стоики, циники, эпикурейцы. Это как бы три основные расы в области душ, три цвета кожи, подобно белому, желтому и черному, разные сочетания которых дают другие оттенки. Только эти три морально-философских школы окрепли, только они сделались популярными, остальные (напр., пифагорейцы, эклектики и пр.) остались в тени. Может быть, эти три философии характеризуют главные темпераменты человеческого духа: то, что прежде называлось холериками, флегматиками, сангвиниками. Конечно, сами нравственные типы существовали с неисследимой древности, но в эпоху чудного эллинского расцвета они были выяснены и названы. Не вдаваясь в подробности, ибо тема громадна, прошу вспомнить представителей названных философий – Диогена, Зенона, Эпикура. Вспомним благороднейших – и забудем низких. Проследите же разницу между их миросозерцаниями, но только не научно (ибо запутаетесь в противоречиях), а художественно, т.е. так, как сложилось впечатление об этих великих школах на протяжении двух тысяч лет.
Все три философии – подобно колодцам в пустыне – старались проникнуть до самых чистых родников природы, до вечно текучей, утоляющей "воды живой". Ученики великого деда нравственной философии – Сократа, его духовные внуки, все трое – Диоген (через Антисфена), Зенон (через Эвклида Мегарского) и Эпикур (через Аристина) – носят родовые черты благородного предка, но у каждого физиономия иная – родственная и различная вместе. Все трое, заметьте, как и Сократ, были глубокие бедняки, и притом добровольные. Все трое ополчались на современное изысканно-культурное общество, и каждый из них, вместе с нашим Сковородою, мог бы написать на своем могильном камне: "Мир ловил меня, но не поймал". Из них отец эпикурейцев, имя которых осталось нарицательным для жуиров, жил в небольшом саду, ел хлеб и пил воду из ручья. Все его дневное содержание, по его словам, стоило "меньше аса". Это не мешало ему вести прямо блаженные беседы с учениками и написать триста томов (к сожалению, утраченных) "без одной цитаты", как говорит один биограф. Какой степенью восхищения Эпикур пользовался даже через двести лет – вспомните отзыв Лукреция (в "Природе Вещей": "Эпикур, умом превзошедший весь род человеческий, затмив всех, как эфирное солнце, всходя, затмевает звезды").
Что касается Зенона, то нравственное его величие было таково, что "в разговоре с царями не он, а они испытывали смущение". Не усвоив язвительной иронии Сократа, он не удостоился чаши с ядом. При жизни он был награжден золотым венцом и статуей, а когда в возрасте за сто лет он понял, что недостойно быть в рабстве у дряхлости, и лишил себя жизни, – он удостоен был почетного погребения.
Оба – и Эпикур, и Зенон – учили благородному счастью, достоинству, чистоте жизни, презрению страстей и той мудрости, которая выше судьбы. В сущности обе школы изомерны (выражаясь языком химии): у них один состав и лишь различная красота оттенков. Как правая и левая перчатки, эти школы не тождественны, но похожи. Не такова третья знаменитая школа – цинизм, учивший презрению к жизни. Цинизм можно назвать карикатурою стоицизма и эпикурейства, взятых вместе. Как карикатура, цинизм вызывал внимание, как мудрость жизни – глубокое презрение у современников, начиная с Антисфена. Вот портрет основателя школы. Он "отказался от всех удовольствий и удобств жизни, добровольно осудил себя на бедность и терпел всевозможные невзгоды... Он носил самые грубые одежды, бороды никогда не чесал, держал себя очень грязно, и диета его граничила с голоданием..." "Наряженный в лохмотья, он обращался к прохожим с презрительными речами и оскорблял их неприличными жестами". Так как все это было крайне оригинально в веке обожания красоты и изящества, то возбуждало шум. Но шум сменился негодованием, и Антисфен умер, покинутый всеми. Озлобленный философ-собака отрицал всякую культуру, общество, человечество; он отрицал просвещение (даже грамотность), осмеивал брак и признавал свою философию только потому, что она дает возможность не жить с людьми. Верный ученик его – Диогендовел цинизм учителя до последней крайности. "Он проповедовал, что чем больше человек приближается к самоубийству, тем больше приближается к добродетели... Высшим наслаждением его было оскорбление общественных приличий публичным совершением всех жизненных отправлений". Приглашенный однажды в гости, Диоген плюнул хозяину в бороду; он не нашел, видите ли, в доме более нечистого места. Друзья как-то упросили его принести жертву Диане. Он отправился в храм и, поймав на голове вошь, раздавил ее на алтаре богини. "Сумасшедший Сократ", как его прозвали, учил вражде – и с человечеством, и с самим собой. Все высокие чувства – любовь, дружбу, патриотизм – он называл безумством. Учил, что нет ничего ни хорошего ни дурного: даже разбойничество, прелюбодеяние, святотатство, по его мнению, преступны только потому, что так принято думать. Благодарность, милосердие, жалость – все это он считал болезненной слабостью, недостойной философа. Наслаждений он не отрицал, но и не учил искать их; к страданиям питал презрение и учил, что смерть так же желательна, как жизнь. "Отличительная черта цинизма – эгоизм и жестокость, презрение к другим и забота только о себе", – говорит Дрэпер. К этому следовало бы прибавить тщеславие. "Антисфен! – сказал Сократ, – твоя гордость сквозит сквозь дыры твоего рубища!"
Итак, вот три основных человеческих типа, три великих характера, три души: Зенон, Эпикур, Диоген. Вглядитесь в них.
Европейские расы
Возьмите француза, англичанина и русского и прикиньте их к портрету Диогена, Зенона, Эпикура, По первому впечатлению, которое, говорят, всего правдивей, мне кажется, француз более эпикуреец по своей природе, как англичанин – стоик. Русский же человек смахивает, мне кажется, в изрядной степени на циника. Его характер – конечно, не доведенный до крайности, но все-таки цинизм. Беря более широко, из трех великих рас, населяющих Европу, латинская раса – эпикурейцы, германская – стоики, славяне – циники. Само собой, речь идет только о преобладающем оттенке. Все три характера присущи всем расам: всюду есть циники, стоики, эпикурейцы, – вопрос в том, где какого типа больше. Даже в каждом отдельном человеке одновременно живут эти три характера, но один из них господствует.
Что при всем сходстве есть все-таки и различие между расами, это, кажется, бесспорно. Откуда это различие? Может быть, в значительной степени оно зависело от географических условий. На южных островах, омываемых голубым Средиземным морем, среди благословенной, чисто райской природы, не знающей крайностей ни холода, ни жара, с незапамятной древности отложилась раса, склонная к чувственным наслаждениям, к красоте, изяществу, симпатии, к обожанию всего величавого, трогательного и прелестного, что дает мир земной, столь нарядный и ласковый, как там. Основная суть организма раздражимая протоплазма – из века в век получала здесь ощущения пленительные, гармонические, сплетавшиеся в дух художественный, в чувство благородной меры. Отсюда дивные по красоте культуры эллинская и латинская, отсюда вечная их поучительность для человечества. Испания и Италия, хотя и наводненные когда-то германцами, до сих пор сохранили право считаться родиной высокого эпикуреизма. К ним следует причислить и главную наследницу античной древности – Францию: латинский дух ее до сих пор полон мечтой о земном, доступном, прекрасном счастье, которое среди теплых морей и гор так доступно и так близко.
Несколько севернее расположилась германская раса, в климате более мрачном и суровом. Здесь искони жизнь требовала мужества, настойчивости, тяжелого труда, преследования далеких целей. В охоте, мореплавании, в войнах с соседями сложился серьезный и строгий характер германских племен. Внешняя теснота сближала людей, создавала инстинкты родства и дружбы. Менее благоприятная, но все же разнообразная и прекрасная природа давала внушения величавые. Из хвойных лесов, в сумраке которых ютились древние капища, развился готический стиль, из древних замков на вершинах гор – благородная широта мысли. Близкое соседство с эпикурейскими полуостровами, постоянная связь с Италией удерживала стоицизм германцев от цинического варварства.
Несравненно более сурова природа восточной Европы. Она континентальна: летом очень жарко, зимой очень холодно. Чувство меры в самой природы сменяется крайностями. Одновременно земля лишена здесь той волшебной картинности, того поразительного богатства линий, форм и красок, как на горном Западе. Природа в России, особенно в древние времена, в эпоху неизмеримых лесов и болот, давала меньше бодрящих впечатлений, меньше поучала и, угнетая, навевала грусть. Отсюда заунывная, похожая на стон, русская песня. Необъятное пространство восточной равнины заставляло русское племя растекаться и изнемогать в борьбе за жизнь. В то время как скученное население Запада, союзом сил быстро овладевало природой и, сосредоточившись, создавало культуру, – наши колонизаторы быстро рассеивались и быстро дичали, уже силою одного ненасытного, поглощавшего их пространства. Первобытность, бедность, грубость, вечная обида на суровую природу, хоть и любимую, но все же жестокую – все это слагало характер с наклонностью к цинизму. Стоило ли серьезно бороться с этими каторжными трясинами, непроездными лесами, с их зверьем и мошкарой, которые доводили до отчаяния? В подобных условиях благородная раса – как сейчас русские на севере Сибири – идет к вырождению, поневоле отказывается от прогресса, поневоле вводит в основу своей психологии циническое "как-нибудь". Допущенное сначала, может быть, скрепя сердце "кое-как" постепенно входит в привычку и наконец в инстинкты расы. Потребность к лучшему – как всякая иная – есть продукт накопления; она создает прогрессивные народы. Но иногда потребность эта, вместо накопления, растрачивается, и одичавшему народу просто не хочется лучшего. Теряется яркое представление о прекрасном и погасает возбуждаемая им воля. Народ опускается до жалкого переживания, до потребности отвязаться чем-нибудь от своей души – хоть на время. Отсюда беспросыпное пьянство и грубый разврат всех вырождающихся рас.







