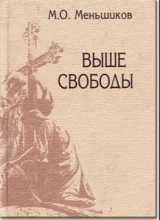
Текст книги "Выше свободы"
Автор книги: Михаил Меньшиков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
Из мер, которые все должны быть приняты и ни одна не упущена, самою действенною угрозой бунту явилась бы именно постоянная армия. Власть государственная, как бы она ни называлась, – даже республиканская, даже социалистическая, нуждается в инструменте, без которого она – как скрипач без скрипки – ничто. Невозможно себе представить общество без закона, невозможно вообразить закон без повелительной силы, обеспечивающей его исполнение. Такою силою во всех государствах до сих пор являлась армия. Измененная в своей древней системе демократизированная армия всюду деморализировалась. В результате сама государственность разных стран начинает испытывать то самое, что испытывают здания с плохим фундаментом. Не во всех странах одинаково, но во многих чувствуются признаки какой-то беды, беды внутренней, грозной, которая еще не наступила, но когда наступит, то напомнит худшие времена истории. В результате загадочной эры прогресса, великих изобретений и открытий, в результате великих свобод и выступления на сцену пучин народных является всюду страшное падение авторитета, упадок культа, крушение обычаев и установлений, и в конце концов теряется сцепление общества, то химическое сродство, которым элементы государственности удерживались от распада. Из твердого состояния общества переходят как будто в жидкое, дальнейшей эволюцией которого угрожает быть рассеяние в пар. Стремительный подъем народных слоев от прежней суровой стихийной жизни – к жизни искусственной, капиталистической влечет за собой анархию, против которой европейские общества еще не придумали действенных средств. Может быть, они будут придуманы и дело не так плохо, но, во всяком случае, нужно же их придумывать, эти средства, надо вовремя готовиться к самой страшной в человечестве опасности крушению человеческого общества.
Ничего нет возмутительнее благодушного спокойствия буржуа, которые, привыкнув стричь купоны, серьезно думают, что это продлится до скончания века. Несколько поколений мира глубоко обмещанили наше военное сословие дворянство, о чиновниках и купцах и говорить нечего. Добытый тяжкими жертвами предков мир – внутренний и внешний – мы получили даром, и нам кажется, что он вообще дается даром и чтобы оберечь его, не нужно никаких усилий. Но это столь же гибельное, сколько глупое заблуждение. За него придется заплатить, может быть, такою непоправимой жертвою, каково самое бытие народное. Не время убаюкивать себя надеждами, что все уляжется. Ничего не уляжется – по крайней мере, на нашей памяти. Анархия еще в начале. Если немедленно не принять героических мер – гибель народная неизбежна.
Прежде всего нужна точка опоры, и власть обязана счесть этою точкой самое себя. Власть не исполнит долга чести, долга великой клятвы перед родиной, если не укрепит себя в центре общества, как некий Гибралтар, неприступный и неодолимый для мятежа. Но Гибралтар составляет не один начальник его, хотя бы храбрый, Гибралтар составляют его несокрушимые, как кора земная, стены. Власть прежде всего должна огородиться неподвижными рядами войск, дружиною храбрых и верных, готовых не на словах только, а и на самом деле "положить живот свой за веру и отечество". Под "верой" в древней– формуле нашего героизма понимается, конечно, не церковный лишь обряд, а вся народная идеология, все миросозерцание – тот строй духа, что завещан нам предками вместе с кровью. Именно за этот истинный дух народный, за его идеалы, за все прекрасное и дорогое, что мы любим под нашим солнцем, – герои должны стать живою стеной, которую можно разрушить, но не сдвинуть.
Нашей национальной власти нужна постоянная армия – небольшая, но отборная, превосходная, стоящая на бессменной страже отечества. Неужели вы не видите, что без такой силы нет и власти? Берегитесь упускать время! Не все еще замечают призрачность колоссальной армии, ежегодно набираемой и ежегодно распускаемой. Не все еще понимают военное ничтожество полчищ, наскоро собранных, наспех кое-чему обученных, лишенных дисциплины, анархизированных еще дома, распропагандированных на фабрике и в казармах, полчищ, уже теперь буйных, с которыми чрезвычайно трудно справиться. На днях в замечательной статье г. Эль-Эс ("Бумажная сила") сообщается ужасный факт, что офицеры повально бегут из армии, что даже "в тех округах, куда вакансии разбираются лучшими при выпусках из военных училищ, есть полки, где вместо 74 офицеров по штату – налицо 12". Но ведь это же ужас, которому нет меры! Остается, значит, местами в армии менее 1/6 части офицерского состава. Но ведь это значит, что армии у нас уже нет, что остались одни развалины ее! Офицерство – душа войск, их движущая сила. Эта сила уже в шесть раз понижена против нормы – и мы все еще толкуем о надежности армии! Мы все еще приписываем армии ее государственную роль!
Г. Эль-Эс – сам блестящей боевой офицер – указывает ряд причин повального бегства офицеров: "Бегут от службы, тяжкой в настоящем, беспросветной в будущем, бегут от безнадежного застоя старых порядков, от произвола и незаслуженных обид, от чиновничьей, не офицерской работы". Я позволю себе прибавить к этим причинам бегства еще одну. Офицеры бегут потому, что большинство их в душе – не офицеры. А не офицеры они потому, что в армии давно возобладал штатский принцип и сама армия обмещанилась до невероятной степени. Офицеры бегут по той же причине, что бегут и солдаты. Солдаты через три года службы дезертируют, так сказать, по приказу начальства, – но и офицеров выталкивает из армии тот же закон непостоянства, переменного состава. В самом деле, есть ли нравственная возможность оставаться в корпорации, которая расползается постоянно, которая только числится существующей, но которой на самом деле нет? Спросите любого хорошего, действительно военного офицера – хорошо ли он чувствует себя между нестройными рядами озорных деревенских парней, кое-как собранных, кое-как оболваненных, не имеющих времени отвыкнуть от "воли" и привыкнуть к своему солдатскому делу? Действительно военные люди скажут: "Нет! Мы никогда не чувствуем себя на своем месте. Мы не в армии, мы – в милиции, которая так поставлена, что никогда не может быть армией". Прослужите десять, двадцать лет – вы так и умрете среди сырого, полуштатского материала, среди рекрут, а не солдат. Какое, спрашивается, удовольствие людям даже действительного призвания оставаться в плохих войсках? Оцените психологию охотника, вынужденного целые годы вращаться в обществе детей, играющих в охоту. Но если офицерам – любителям военного дела – тошно в современной армии (и не только у нас, а всюду), то что может удержать в армии огромное большинство тех переодетых в офицерские мундиры штатских юношей, что выпускают наши будто бы военные, на самом деле давно сделавшиеся штатскими училища?
Я писал недавно о том, какой погром в военную школу внесен либеральными военными министрами. Они изо всех сил старались кадет воспитывать как гимназистов. Понасажали штатских воспитателей и учителей, назначили директоров, презирающих военное дело и влюбленных в светский лоск, в светскую ученость – и получили несколько поколений офицерства, невежественного в военном деле и совершенно равнодушного к нему. Они пошли в армию, эти милые молодые люди, но лишь чтобы сделать карьеру, – а как только оказалось, что война не есть мир, а что-то совсем особое и беспокойное, – они толпою повалили вон из армии. Офицерское разложение армии еще раз показывает, до какой степени мы стоим над пропастью с этой опасной штукой – новой эгалитарной армией, "числом поболее, ценою подешевле".
Единственное, что может спасти армию – ас нею власть и нацию, – это переход к старому типу войск. Нужно принятый принцип сменить обратным, вот и все. Если пожертвовали качеством войск ради количества, то теперь следует пожертвовать несколько количеством ради качества. На всю миллионную армию в мирное время никогда не хватит хороших офицеров и хороших унтеров, никогда! Об этом и мечтать нечего. При краткосрочной службе вы никогда не будете иметь хороших солдат. Этого не допускает природа вещей, и противоестественный опыт "вооруженных народов" показывает это достаточно ярко, Все профессии должны быть постоянными, или они не профессии вовсе. Вводя в самый принцип армии глубокий дилетантизм, вы вносите в нее внутреннее расстройство. Не японцы нас побили, а несчастная наша подражательность, отречение от великих начал собственной же военной культуры. Как совершенно справедливо говорит г. Эль-Эс, в маньчжурской войне "бездарность меньшая победила большую" – очень, очень немного нужно было стойкости у нашей власти, чтобы победа была на нашей стороне, ибо миллионная японская армия, собранная по такой же прелестной системе, что и наша, под конец войны начала расползаться по швам. Отступив друг от друга без окончательного, решающего боя, миллионные армии доказали тем, что обе побеждены. Обеим оказался не под силу тот финальный акт, ради которого армии существуют, – разгром врага. А если так, то что же это за армия? Именно так вели бы себя миллионные милиции, если бы им пришлось воевать.
И от внутренних врагов, и от внешних нация должна иметь постоянную оборону. Нужна небольшая, но превосходная армия, как особое сословие людей, посвятивших себя этому делу, закрепощенных ему. Еврейские газеты вопят, что постоянная армия была бы опасна для самой власти и в доказательство напоминают преторианцев и янычар. Очевидно, за отсутствием серьезных аргументов, приходится пускать в ход "металл и жупел". Если бы постоянная армия, о которой я говорю, была опасна для власти, г-да евреи, конечно, с восторгом поддержали бы мою тему. Если они кричат против нее, то именно потому, что постоянную армию смешать с преторианцами и янычарами никак нельзя. В эпоху глубокого упадка власти трон делается игрушкой не только войск, но каких хотите стихий. Царедворцы, духовенство, самая родня монарха часто поднимает мятеж. В низвержении власти всего реже участвовала постоянная армия. Переворот бывал обыкновенно делом дворцовой стражи, подкупленной или вовлеченной в бунт. Но почему же старая несменяемая гвардия менее надежна, чем вчерашние фабричные рабочие или деревенские громилы, одетые в солдатский мундир? При окончательном бессилии власти, конечно, никакое войско ее не защитит, – но говоря о преторианцах и янычарах, следовало бы припомнить и великие услуги, которые ими принесены власти. Они не только свергали монархов, но и возводили на трон и оберегали истинных властителей как действительные герои. Пока Рим и Турция имели свои железные легионы – знамена их были грозными. Именно с чудовищным по жестокости истреблением янычар Турция вычеркнула себя из списка великих держав. Идея корпуса янычар была великолепной, и пока власть управляла этим удивительным аппаратом – он служил ей. Но чем виноват благородный инструмент в руках профана, который, не умея играть, полагает, что лучше всего сломать инструмент? Ранее янычар наши стрельцы были втянуты в мятеж и подвергались той же участи. Но, казнив стрельцов, Петр собрал новые, еще более многочисленные полки постоянной армии, которую догадался продержать в школе великой войны. Именно эта армия явилась становым хребтом России. На нее опирался внутренний порядок и внешние успехи. Без армии Петра Великого, где служили без отставки, до самой старости, – не было бы у нас не только теперешней территории, не было бы не только Финляндии, Прибалтийского края, Польши, Белоруссии, Бессарабии, Крыма, Новороссии, Кавказа, Туркестана и Восточной Сибири, – без армии даже если бы не расхитили Россию соседи, то она давно погибла бы от пугачевщины. Армия нисколько не мешает самым широким внутренним реформам, именно она всем им дает смысл и осуществление. Без хорошо поставленной армии никакой парламент, никакая форма правления не пойдут дальше благих намерений, а уж кажется, этим-то товаром мы богаты. Как для кристаллизации аморфной смеси иногда необходим хоть небольшой, но твердый кристалл, – так в разгулявшейся анархии государственной необходима стойкая линия, к которой, как к оси, могли бы подстраиваться элементы порядка. Такою осью может быть только реальная власть, реальная сила, а не какая-то непрерывно расплывающаяся в пространстве и вновь собирающаяся фантасмагория.
1907
РАЗГОВОР О СВОБОДЕ
– Вы член партии народной свободы. Пожалуйста, объясните, что вы разумеете под народной свободой.
Спрашивал пожилой человек поношенной наружности, с тем усталым, несколько разочарованным выражением, какое кладет жизнь на вдумчивых людей. Отвечал господин помоложе, в золотых очках и в дорожной шапочке, похожей на пузырь со льдом. Место действия – купе скорого поезда, время – ночь, южная, теплая, темная, с таинственными зарницами по горизонту.
– Что я разумею под народной свободой? – переспросил господин в очках, несколько замявшись. – Знаете, ничего нет труднее объяснять, как вещи всем понятные, самоочевидные...
– Однако я просил бы объяснить, если вообще мы ведем серьезный спор. Не договорившись об отправных точках, нельзя к чему-нибудь прийти.
– Извольте, попробую. Народная свобода... как вам сказать? Это то же, что свобода личная. Это – право самоопределения, право распоряжения своей судьбой, право подчинения своей воле, а не чужой.
– Вы такое право считаете благом, не так ли?
– Совершенно верно. И вот почему. Подчиняясь чужой воле, вы даете жизнь чужой воле, а свою как бы обрекаете на смерть. Не вы живете в ваших поступках, а кто-то, чьи желания вы исполняете. По Шопенгауэру истинная сущность жизни есть воля, и до сих пор ведь никому не удалось опровергнуть этот взгляд. Стало быть, покушение на чью-нибудь волю есть покушение не на какой-нибудь пустяк, а на нечто самое священное, что есть у человека, – на его жизнь.
– Так что, по-вашему, чужая воля всегда хуже своей?
– Безусловно. Чужая воля уже потому хуже, что она чужая. Затем, она потому хуже, что, будучи чужою, она чужда вашим интересам и равнодушна к ним. В среднем каждый человек гораздо осведомленнее о своих делах, чем кто-либо чужой, гораздо осведомленнее о внутренних, интимных своих потребностях, гораздо заинтересованнее в своих делах, а потому гораздо внимательнее к ним. Как бы ни был умен и доброжелателен к вам повелитель, он психологически не может так втянуться в ваше дело, как вы сами, и потому наделает больше ошибок, чем вы. Такова ближайшая ценность свободы.
– Значит, есть и более отдаленные ценности ее?
– Есть. Например, влияние свободы на прогресс. Свобода как бы откупоривает вашу природу. Свобода дает выход силам, о которых в рабском состоянии вы даже не подозреваете. Раз вы существо подневольное, вы даете только то, что у вас требуют, причем у вас часто требуют того, чего в вас нет, и не догадываются о том, чем вы богаты. Свобода раскрывает всякую индивидуальность личную и народную, она дает всякому существу полноту развития. Только свободные организмы прогрессируют, точнее, только их прогресс принимает здоровые, естественные формы. Только свобода возвращает все живое к самому себе. Ни личность, ни народ не знают, что это такое. Устраните стеснение, устраните помехи – и вы увидите творение человека законченным. Чего же вам еще больше? Разве одних этих благ не достаточно, чтобы добиваться свободы, как жизни, – хотя бы с риском потерять ее?
– Вы говорите хорошо, – заметил задумчивый пассажир. – То, что вы сказали, напоминает мне мою далекую молодость. Впрочем, я и теперь охотно соглашусь с вами: свобода – священна. Свобода – жизнь. Но вы позволите внести в вашу формулу поправки?
– Пожалуйста. Я не могу себе представить, какие тут возможны поправки, но тем интереснее их послушать.
– Поправки следующие. Во-первых, нельзя ставить такую дилемму: или чужая воля или своя. На бумаге и в теории как будто только и возможны эти два случая, но в действительности совсем не то. В действительности свое и чужое перепутаны часто до неразделимости. То, что вы называете своей волей, в огромном большинстве случаев есть чужая воля. Она внушена вам не только обществом, но часто совершенно чуждым, иноземным обществом, – часто даже не существующим...
– Это как же так?
– Очень просто. Вы носите ваш пиджак, галстук, манишку, шляпу, запонки не так, как продиктовала вам ваша воля, а как повелительно указывает парижский или лондонский вкус. И это до мелочей, до невидимых частей белья, до скрытых пуговиц, до кончика носка, спрятанного в ботинке.
– Ну, да – это мода.
– Мода, то есть не ваша, а чужая воля, и вы ей подчиняетесь почти охотно. Мало того, что вы жертвуете собственным вкусом относительно кончика носка или каблука, – вы жертвуете покроем своей бороды и усов, фасоном прически. Если бы не было больно кромсать лицо, все мы носили бы лица по общей моде. Впрочем, дикари татуируют лица и сплющивают даже черепа, все под давлением общего, то есть чуждого каждому вкуса.
– Общего – значит, не чужого, а отчасти и своего.
– Нет, именно чужого, который делается своим не раньше, чем его усвоят. Заметьте: никакой закон не предписывает моды. Нарушение ее не влечет за собою никаких наказаний. Стало быть, тут полная свобода исполнить или не исполнить. И все – за ничтожными исключениями оригинальничающих людей – пользуются здесь свободой на один манер: систематически отказываются от свободы. Почему же, скажите, если свобода действительно есть благо, люди столь упорно отказываются от нее?
Господин в очках несколько замялся и поморгал глазами.
– Я думаю, – сказал он не совсем уверенно, – это объясняется другой человеческой потребностью: равенством.
– Хорошо-с. Запомните, что вы сказали. Ради равенства или чего другого, но люди поголовно отказываются от вещи самой священной, какая есть в жизни, – от своей воли в области своей наружности. Наружность человека есть его внешнее "я". Подчиняясь моде, мы легко отказываемся от своего внешнего "я". Не так ли?
Борьба внушений
– По-видимому, так, – отвечал господин в очках.
– Но мы отказываемся не только от внешнего "я", но с тою же поспешностью и от внутреннего "я", уверяю вас. Разве не существует моды на настроения и миросозерцания? Разве такие поветрия, как, например, сантиментализм, романтизм, реализм, натурализм, нигилизм, декадентство и пр. – не охватывают сразу многие страны одной и той же цивилизации? Правда, как моды туалета перемешаны и провинция долго донашивает то, что в столицах уже брошено, так и в умственной области: отрицающие друг друга идеи имеют одновременно своих поклонников. Часто в одной и той же семье ее члены думают разно. Различие это, однако, если всмотреться, не индивидуальное. Это различие мод, пока еще не успевших вытеснить одна другую. Я консерватор, вы – радикал, но оба мы душевно одеты по чужим покроям, у обоих нас убеждения внушены.
– Вы, мне кажется, очень уж преувеличиваете роль внушений, – сказал господин в очках.
– Скорее – преуменьшаю. Существуют, конечно, исключительные люди, которые в свои мысли влагают немножко своего, еще небывалого и индивидуального. Существуют же изобретатели машин. Почему не быть изобретателям идей? Но новейшая психология склонна думать, что и в изобретении машин, и в изобретении идей элемент оригинального совсем ничтожен. Два процента гения и 98 процентов потения – помните слова Эдисона о самом себе. Ничего нет нового под солнцем, все возможное было, а чего не было, то оно всегда возможно. В наше время коллективных усилий и накопления общей воли существующее и возможное сблизились как никогда. Прежде изобретения были продуктом нечаянной мысли, вспыхивающей, может быть, как зарница отдаленной работы предков. По прекрасному сравнению Платона, мысли не являются, а пробуждаются в нас. Они припоминаются, как забытые, но прирожденные свойства души. Стало быть, кто знает: Эдисону ли принадлежат его любопытные изобретения? Не подсказаны ли они ему живущею в нем душою его предков? И в осуществлении этих идей не сотрудничает ли с ним вся история, весь человеческий род?
– Допустим. Но к чему вы клоните?
– Я клоню к тому, что даже в столь тонкой области, как гениальное творчество, личности почти нет, а стало быть, нет и свободы. Посредственные люди вроде Бобчинского и Добчинского очень спорят, кто из них первый сказал: "э!" – но вот такой олимпиец, как Гёте, многократно признавался, что он ничего или почти ничего не сказал такого, что не было бы в человечестве сказано раньше – и не раз сказано. Но оставим высшее творчество гениям, будем говорить о подавляющей массе. Она, как вы согласитесь, лишена гениальности. Она, сказать по правде, лишена даже средней меры таланта. Об оригинальности идей у девяти десятых человеческого рода смешно даже говорить. Вернее было бы говорить об одной тысячной, об одной стотысячной части публики, проявляющей хоть тень независимости суждений. Но что же это значит? Не значит ли это то, что и в умственной области, как в области вкуса, мы отказываемся от свободы и стремимся усвоить чей угодно и какой угодно разум, только не свой? Как я сказал, внушающая воля может быть давно мертвой. Есть верующие, для которых слова Магомета, Моисея, Будды, звучащие из-за тысяч лет, так же повелительны, как если бы они были произнесены сейчас над ухом. Даже более повелительны! Вожди Великой французской революции бредили идеями погасшей две тысячи лет перед тем Римской республики. Рубили головы и клали свои на плаху ради этих идей. Сотни миллионов китайцев устанавливают из рода в род такое отношение к предкам, которое продиктовал Конфуций, причем Конфуций заявлял, что он не сам сочинил, а лишь собрал учение древних. Кто были эти древние, казавшиеся древними уже 2500 лет тому назад? Они забыты, но их мысль, их настроение движут 400-миллионной массой теперешнего Китая. Скажите, где же ваша хваленая свобода? Не в мечте ли только она?
– То есть, вы хотите сказать, соответствует ли она природе человеческой?
– Именно. Куда ни взгляните, вы увидите не проявление свободы, а крайнее стремление – притом совершенно добровольное – к рабству.
– Добровольное ли?
– Непременно добровольное. Ибо можно ли заставить верить, любить, хотеть? Если мы хотим верить, как все, любить, как принято, и хотеть, что хотят другие, то, значит, существует всесильный закон природы, требующий этого и обусловливающий подчинением ему наше счастье. Принято – опять-таки благодаря моде – кричать, что человек существо свободное. Однако в чем же выражается эта свобода? Извне человек на тысячи ладов связан и стеснен, но даже изнутри, если вдуматься, он ищет не свободы, а именно этой связанности и стеснений.
– Это-то и есть свобода, – заметил с тоном некоторого риска господин в золотых очках. – Добровольное подчинение и есть свобода.
– Но тогда значит, и бухарцы свободны, и Дагомея – свободная страна. Они подчиняются тиранам, уверяю вас, не за страх только, а и за совесть. Можно ли назвать свободой условие, при котором я должен подчиняться порядкам, установленным за тысячу лет до моего рождения?
– Одни порядки нам приятны, другие – нет. Делаете же вы между ними разницу? Первые отвечают свободе, вторые – нет.
– Ну, стало быть, мы опять свели свободу к вкусу. Но если вкус-то самый внушен, унаследован, прирожден, то в чем же наше личное участие? Разве мы имеем свободу совсем ни на чем не остановиться?
Господин в золотых очках казался озадаченным.
– Я имею, – сказал он, – свободу выбрать, как в шляпном магазине, ту шляпу, что мне по голове, те идеи, те настроения, которые мне по голове! Предоставьте личности и народу это скромное право, и этим свобода будет осуществлена.
– Но это право всем и каждому уже предоставлено. Все думают, что "выбирают" мнения, а на самом деле все заражаются теми или иными мнениями совершенно как болезнями: один восприимчивее к кори, другой – к скарлатине и т.п. Это не значит, что человек выбирает свою болезнь. Вернее, она его выбирает...
– Для чего нужно предрасположение, не правда ли? Вот это предрасположение я и считаю личной волей, то есть чувством свободы. И у человека, и у народа есть известные предрасположения. Позвольте каждому заболеть той мыслью, какая ему нравится, осуществить тот порядок, который наиболее по душе.
– Извольте, – усмехнулся задумчивый пассажир. – Если весь объем свободы свести к предрасположению, то я согласен с вами. Но из всех предрасположений самое могущественное – это быть, как все. "Быть, как все" – подавляет всякие вариации вкуса, всякие поползновения к исключительности. Подражание – вот страшный закон, непрерывно кующий цепи против свободы. И, что замечательнее, никакие цепи не носятся людьми так легко, как эти...
– Послушать вас, – нерешительно возразил господин в золотых очках, свободы не только нет, но ее и не нужно. По-вашему, люди ищут рабства и счастливы только в рабстве...
– Я не подчеркивают так густо этой мысли и не ставлю точек над "i". Видите ли, это вопрос бесконечной важности, и нужны страшные усилия, чтобы хоть немного его уяснить. Скажу прямо, к чему привел меня долгий жизненный опыт. Он меня привел к тому же, к чему гений Пушкина привел его в молодые годы: "Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей". Вот результат моих "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет". Не будем слишком преуменьшать природу, будем брать людей, как они есть. Откинем гениев и злодеев, отбросим чудесные случаи удачи природы и жалкие ее промахи. Возьмем среднюю массу человеческую, то есть подавляющее большинство людского рода. Это именно материал, где закон подражания свирепствует без пощады. Именно средние люди наименее склонны к свободе. Это безличная инертная стихия, волны которой идут туда, куда толкает ветер. Средние люди ждут толчка, откуда бы он ни был, это их двигатель, импульс. Пусть у гениев и у злодеев имеются внутренние импульсы, которые, может быть, не что иное, как внушения рода. Но средние люди, как атомы, не имеют иных источников движения, как внешний толчок. Это их душа, основное условие их жизни. Если так, если их подчинение неизбежно, то является вопрос: способны ли они к свободе? Не будет ли она для них свободой бильярдного шара, пока его не тронул кий? И не является ли внешняя сила воскресением для них к жизни? И если внешняя сила действует по верной линии, которую определяет лишь острое зрение и твердая рука, то не является ли такой внешний толчок для большинства людей условием блага?
– То есть вы, по-видимому, предпочитаете для большинства людей подчинение чужой хорошей воле – своей плохой? Так я вас понял?
– Совершенно верно! Я держусь мнения – не нового, а скорее древнего, как история, что народы нуждаются в чужой воле, более совершенной, чем их собственная. Народы нуждаются в постоянном импульсе извне, более высоком, чем их собственная инертность. И только такой импульс путем повторения создает прогресс, культуру. Последняя, как вы верно сказали, есть раскупоривание человеческой природы. Но раскупоривание есть акт внешней силы: нужно, чтобы кто-то пришел и отворил тайник, выпустил душу на свободу... Нужна признанная народом власть, нужен вождь, нужен Мессия...
1909
ЧТО ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЯ
Эти дни я провожу в одном из уголков древней Греции, волею богов имеющем теперь русское уездное управление, городскую управу и все признаки нашей культуры. Просиживая длинные солнечные дни на высоте, над безбрежным морем, рассматривая многочисленные развалины старых башен и храмов, я невольно задумываюсь о далекой молодости человечества, о прекрасной и светлой – как у нас привыкли ее считать – эллинской цивилизации. Чем она поднялась тогда? Что дало расцвет ей? Что ее сгубило?
Уже 2300 лет назад этот "русский" теперь городок был сильной крепостью. Именно при осаде ее погиб босфорский царь с несколько странным для монарха именем – Сатир I. Ясно, что задолго до этого сатирического момента, может быть, со времен аргонавтов, благословенный край этот сделался греческим. Совершенно как в Элладе, здесь горы, рощи, воды были населены ореадами, дриадами, наядами; из чудных зеленовато-голубых волн, что бьют в подножье дачи, где я живу, тоже выходила когда-то Венера. Под мраморными колоннами на холмах тут тоже курились алтари Тучегонителю-Зевсу и всему хору вечно прекрасных, блаженных богов, что воплотили в себе юность арийской расы. Сверх того тут держался удивительный культ какой-то Деве. Но это меня отвлекает от темы. Я хотел бы пораздумать с читателем, отчего умер великий Пан? Отчего точно ветром сдуло древний роскошный расцвет человечества? Говорят: пришли варвары и смели в одну сорную кучу и богов с Олимпа, и героев с кудрявых берегов средиземного бассейна. Например, здесь прошли скифы, сарматы, гунны, готы, печенеги, половцы, турки. Бесчисленные орды человекоподобных обрушивались одною волною разрушения за другою, и в результате гениальная цивилизация погасла.
Что она тут действительно погасла и едва ли не навсегда, для этого достаточно рассказать мою сегодняшнюю прогулку на гору Митридат, где помешается крохотный музей древностей. Крутая, высокая гора, к склону которой прижался домик, где родился Айвазовский. Поэт этого берега родился чуть не столетие назад и давно умер, но у колыбели его возможны такие сцены.
– Что ж музей? Опять закрыт? Нет, это ведь черт же знает что такое! Написано на дверях: открыт от 10 утра до 6 вечера. Теперь половина 12-го. Под самой надписью "открыт" повесили замок. На что же это похоже?
– Подождем малость, – говорит кротко другой из толпы. – Авось придет сторож.
– Жди его! Он теперь в подвале сидит, – скептически замечает третий.
– А что ж он в подвале делает? – спрашивает наивно гимназистик.
– Известно что: водку дует. Пьяница, – что ж ему делать.
– Позвольте-с, – замечает кто-то, – в подвале он не может сидеть. Еще обедня не отошла. Подвал должен быть заперт!
– Да ён и заперт, – вставляет осведомленный парень. – По праздникам, действительно, нужно в подвал постучать, чтобы впустили. Впустят знакомую компанию – и запрут. Тебе не все ль равно пить, заперты двери аль нет. За запертыми даже лучше.
– Нет, вы войдите в мое положение, – волнуется господин, приехавший с большим фотографическим аппаратом. – Вы вот приезжие, а я даже здешний житель и который раз приезжаю, – никак не могу застать сторожа. Мне необходимо снять некоторые картины, и вот...
Кончилось тем, что господин сложил аппарат и поехал с сыном разыскивать подвал, где заседал сторож в служебные часы. Поехал бы к заведующему музеем – француз тут такой, но, говорят, тоже обожает Бахуса. В управу жаловаться, говорите вы? – пустое дело. Уже жаловались сколько раз, печатали даже в газете.







