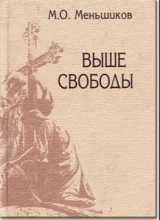
Текст книги "Выше свободы"
Автор книги: Михаил Меньшиков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Необычайно важно, чтобы первый парламент наш был во власти совести. Прежде всего от послов народных нужна верность отечеству. Надо, чтобы законодатели наши не сдавались, подобно генералам, и не отступали. Надо, чтобы государственные люди России научились наконец исполнять свой долг. Надо, чтобы вывелась наконец бесстыдная ложь, продажность, бездействие, предательство и хищение. Гибель нашего народа, как и всякого, единственно от упадка нравов. То, что называется честностью народной, есть крайняя твердыня нации и единственный источник сил. Отшедший порядок вещей размотал не только физическое богатство России, он растратил и нравственное ее богатство. Он развратил страну, растлил ее, осквернил и заразил всеми моральными заразами, какие возможны. Нужно спешить с ними бороться. Пусть выступят вперед честные люди, пусть объявятся праведники народные, люди совести и чести, – и, может быть, казни гнева Божия отойдут от нас...
1906
КОРАБЛЬ НА МЕЛИ
После бриллиантов самая редкая вещь на свете – это способность оценить их. Передаю не совсем точно эту верную мысль Лабрюйэра. Он говорит вообще о чувстве выбора, о чувстве вкуса. Какое, в самом деле, это редкостное качество! В нем одном почти весь секрет гениальности. Достаточно, например, государственному человеку обнаружить это свойство, и великое имя ему в истории обеспечено. Подберите себе действительно талантливых помощников, и они дадут вашему имени совокупный блеск свой, как некоторые группы отдаленных звезд дают впечатление одной яркой звезды. Что касается талантливых людей, то, право же, их гораздо больше на свете, чем бездарных знаменитостей. Таланты затерты в толпе, заслонены. Помните опыт с Санчо Пансой? Этого вульгарного труса, простого мужика из Ламанчи, герцог ради шутки сделал на малое время губернатором одного острова. Хотели посмеяться над шутом, которого весь темный ум состоял из народной мудрости, из пословиц и прибауток, которыми он замучивал благородного Дон-Кихота. Хотели похохотать – и что же? Пришлось подивиться очень разумным распоряжениям мужика-губернатора. Разумность их состояла просто в здравом смысле, в естественной простоте требований. Так как простонародье вечно копается в естестве природы, в ее невыдуманных законах, то даже темные люди приобретают подчас изумительную трезвость суждений. Наоборот, среди раззолоченных царедворцев, где церемонии заменяют ум, а этикет нравственность, даже незаурядные умы связаны до паралича: у них нет личного понимания вещей, так как для них обязательно общепринятое. Но общепринятое всегда потому и ложно, что оно обще, не индивидуально, не пригнано к данному случаю. Природа – большой барин; капризы ее неисчислимы; решительно необходимо отвечать на каждый из них отдельно, если хотите обратить их в пользу себе, а не во вред. Здесь именно гений прикасается к природе. Великие люди понимают вещи индивидуально, они замечают малейшие оттенки в неисчерпаемом разнообразии природы. Вникая в тонкие отличия, они всегда изобретают, открывают новое, до того неведомое. Ограниченные люди, наоборот, замечают лишь общие контуры, смотрят как сквозь туман. Оттого суждение их шаблонно, трафаретно и всегда одно и то же. Ясно, к кому более благоволит природа. Близорукий потому не пользуется ее благами, что не видит их. Зрячий их видит и пользуется. В этом вся разница.
О, какая жалость, что великие люди наши не только в огромном большинстве погибают в подонках народных, будучи затерты нищетой, невежеством, рабством, а даже, и выбившись кверху, остаются часто плохо использованными своей страною. Позвольте вернуться к Менделееву. Тяжелая потеря его в самом деле удар всей России. Все знают, что Менделеев был великий ученый, но это неправда: он был не только великий ученый, но и великий гражданин своей земли. К глубокому сожалению, он с этой стороны был не понят, не оценен. Хуже того – он был не замечен при жизни как гражданин и потому, может быть, и не был понят. Ибо что же тут трудного понять замечательного человека? Насколько трудно бывает иногда разгадать тупого резонера, настолько ясен гений, любимец богов. Менделеев во всем был чрезвычайно ясен, но просто не заметили его. Среди мошек и букашек бюрократической кунсткамеры у нас слона-то и не заметили. А Менделеев попади он в среду государственных деятелей – поистине был бы слоном между ними.
Кроме последней книги "К познанию России" прочтите или хотя бы раскройте в любом месте "Заветные мысли" Менделеева, или его брошюру "О народном просвещении России", или его "Проект училища наставников", или "Толковый тариф", или "Основы фабрично-заводской промышленности". Какая оригинальность и государственная глубина мысли! Поневоле вспоминаешь зачинателя нашего просвещения Ломоносова, его всеобъемлющий и тоже государственный ум, оттертый до шуваловской передней. Но Ломоносов был из нищей семьи и жил в довольно темную пору, и сам был во многом слабый человек. Менделеев же вышел из культурно-русского строя и овладел неизмеримо богатым опытом цивилизации. И в Европе, и в Америке он считался большим человеком и был бы гордостью любой страны. Спрашивается, как было не заметить эту огромную фигуру, как не приспособить для большой государственной работы?
Я уже говорил, что Менделеев, посвятив свою молодость науке, очень склонен был отдать зрелые годы иному служению, служению отечеству. Ученый эгоизм в нем рано уступил проснувшемуся гражданскому чувству, инстинкту патриота, увидевшему родину в опасности. Менделеев видимо хотел государственной службы, но, конечно, не переписывать бумаги. Большому кораблю не то что хочется большого плавания, а оно ему свойственно, оно обусловлено его осадкой и грузом. На мелких фарватерах большой корабль просто садится на мель. Именно такое впечатление большого государственного человека, севшего на мель, производят политические брошюры и книги Менделеева. Громадный корабль, врезавшийся в песок, неподвижный, засасываемый грунтом, причем груз драгоценных мыслей отдан на волю волн. Ну, не стыдно ли, в самом деле, что такой великий ученый, как Менделеев, был ничто в ведомстве просвещения, а какие-то графы Толстые, Дмитрий и Иван, ничем неотличимые и незамечательные, были министрами просвещения? Не стыдно ли читать: "Докладная записка заслуженного профессора Д. И. Менделеева, представленная 30 декабря 1905 г. его сиятельству министру народного просвещения графу И. И. Толстому"? Надо заметить, что Менделеев был немалое время учителем гимназий, кадетских корпусов, университетов и институтов, то есть педагог очень опытный, пропустивший через свое наблюдение тысячи учеников и студентов. Казалось бы, как не заметить такого педагога, одновременно доказавшего громадную трудоспособность и гениальную проницательность ума? "Но он был химик". Да. Что ж такое? Химия – в математическом обследовании ее – есть философия природы, и все же дает нечто уму, а не отнимает от него. Ну, а графы Толстые, которые не знали ни физики, ни химии, ни математики, как, по-видимому, вообще ничего не знали в точности, – почему же они, не бывшие педагогами вовсе, казались лучшими хозяевами учебного ведомства? Почему Менделееву был предпочтен Делянов, спустивший ведомство на нет? Или генерал Глазов, отличившийся лишь тем, что сдал русское просвещение революции, совершенно как сдали гг. Стессель и Небогатое японцам свои крепость и эскадру?
Стучался, и не отворили ему
"Но, может быть, Менделеев вовсе не хотел быть министром просвещения?" – скажете вы. Достоверно, конечно, я судить об этом не берусь. Однако не слыхать было, чтобы ему предлагали этот пост – и он отказался. Кое-какие основания заставляют думать, что он не отказался бы от министерского портфеля. Великий человек, конечно, не мог сам навязываться. Он не мог домогаться высокой роли с той восхитительной наивностью, какую обнаруживают великосветские петиметры23 или, например, кадеты. Придет самодовольный субъект с улицы и, опираясь на протекцию кузин-фрейлин или босяков левого блока, начинает "переговоры" о портфеле. Менделеев, конечно, был чужд мелкого тщеславия гг. Набоковых, Кузьминых-Караваевых или маленьких графов Толстых. Не звание ему было нужно, не отделка квартиры, не оклад, а большая государственная работа, "большое плавание". Раз он принял место в пробирной палате, почему ему было не принять место члена Государственного Совета, министра? Я не настаивают на том, что он мог бы быть только министром просвещения. Может быть, еще с большим призванием он оказался бы на месте министра промышленности и торговли, земледелия, государственных имуществ. У него была огромная склонность к живой, практической работе, и что касается промышленности – это была его политическая вера, основа его государственной философии. Нет сомнения, он был бы превосходным министром и в этих ведомствах, которые изучил добросовестно, не мечтая ни о каких портфелях. Но, судя по глубокой его заинтересованности в просветительных вопросах, он внес бы в столь расстроенное учебное ведомство не меньший государственный ум, не менее острое внимание. Менделеев дальше палаты мер и весов не пошел, то есть его попросту дальше не пустили. Как в царство небесное, на министерский наш Олимп у нас долгое время вел узкий путь, до того узкий, что сколько-нибудь крупная фигура застревала еще в начале карьеры. Проходили свободно узенькие, вылощенные господа, которых пустота позволяла сжиматься до размеров любой щели. Как было пройти по этой лестнице людям вроде Менделеева, Александра Энгельгардта, генерала Черняева и т.п.? Целое поколение крупных русских талантов, полных энергической предприимчивости, были остановлены в расцвете сил, сброшены с большой дороги, почти затоптаны толпою посредственностей, в конце концов торжественно проваливших Россию. Вот наше национальное несчастие!
Когда всматриваешься в дух отмирающего порядка, одинаково негодуешь на презрение к лучшим силам народным, и соглашаешься, что иначе и не могло быть, безусловно не могло. Бисмарк как-то выразился, что нигилистам нет места в организме русской государственности. Как, однако, он был не прав! Именно нигилистам-то и нашлось место, – я хочу сказать, людям ничтожным, все существо которых было сплошное "nihil"24. Даже в политическом смысле они являлись нигилистами, людьми, которым ничто не дорого, ничего не жаль. В самом деле, изо дня в день, в течение десятилетий говорить в ответ на самые страстные запросы – "как будет угодно его – ству", разве это не нигилизм? Разве это не непрерывная, "в исходящем порядке", измена всем жизненным народным нуждам? "Как прикажете", "согласно вашим предначертаниям" – в сущности, это крах государственный, банкротство власти, но именно этого-то и не замечали. Думали, что такое послушание, perinde ас cadaver25, и есть высокая государственная деятельность, между тем это было высокое бездействие, то есть отсутствие власти. Ну как же, скажите, ворвались бы в эту пустоту и бездействие такие вихри сил, как Менделеев, как Энгельгардт? Ведь это было бы землетрясение. Ветхие стены канцелярии попадали бы от одного трубного звука их могучих голосов. Менделеевы и им подобные тем невозможные люди, что они настоящие, живые люди. Одно появление их отрицает бумажные существования, сводит их к нулю. Менделеевы тем невозможны, что они прирожденные люди власти, тогда как правительство безотчетно подбиралось из канцелярских исполнителей. "Он говорил, как власть имеющий" – вот что отличало великого вероучителя, вот что отличает вообще людей избранных. Но разве был бы действительно избранный человек возможен в роли министра?
Менделеев вошел бы в благополучное правительство обремененный, как туча, электричеством мысли, он захотел бы не только высказаться, но высказаться с подавляющим обилием, с сокрушительною искренностью, – да что! Он потребовал бы, чего доброго, чтобы ему позволили от слов перейти к делу. Эти господа снизу, ученые, рабочие, сами, собственными руками возившиеся десятки лет с землей, с машинами, со школой и т.п. – они ужасно утомительны. Они сами не устают, но тормошат несносно, тормошат до усталости полубогов, что склонны отдохнуть, которым не до дрязг житейских. На верхах, на высоте Олимпа, постоянно слышатся успокоительные голоса. Если бы херувимы задались целью усыпить внимание Создателя к земной юдоли, – они не могли бы своими райскими голосами сделать это успешнее, чем их высокопревосходительства, укрепившиеся на своих маленьких тронах. И вдруг в этакую-то благодать ворвалась бы львиная фигура Менделеева, работника и патриота! По меньшей мере это был бы скандал. Вот почему великого сельского хозяина Энгельгардта не пустили дальше стен какой-то комиссии. Вот почему генерал Черняев остался не у дел, а Менделеев удостоился чести проверять аршины и торговые гири на Забалканском.
Что России нужно
Представьте Санчо Панса, которому – ради балагана – позволили бы погубернаторствовать в России. Внимательно вглядевшись в карту России, заметив, что это громадная, полуварварская, первобытная страна, он сказал бы: "Первая беда в том, что здешние мужики не умеют добыть себе хлеба. Стало быть, давайте сюда Энгельгардта или, там, Шатилова. Мертваго... Почтеннейшие, вот вам очень большие средства, причем каждая копейка потребует отчета. Вот вам очень большая власть, если хотите – диктаторская, только наладьте земледелие так, как вы наладили собственное хозяйство". Затем Санчо Панса заметил бы, что Россию разоряет Запад, высасывает ее как паук муху, и только тем, что у него есть машинная промышленность, а у нас нет. На каждом фабрикате мы теряем гораздо больше, чем он стоил бы, если бы выделывался из своего материала, своими руками. Тут Санчо-Панса, посоветовавшись с Менделеевым, наверное, решил бы испытать его ясную как день программу. Она состоит в том, что сейчас нам не до классицизма, не до "латинщины", как любил выражаться Менделеев, – а нужно все внимание устремить на природу, на способы добывать из нее богатство. Так как богатство заведомо не с неба падает, а выкапывается из земли, так будемте же обрабатывать не небо, а землю. У нас со времен гр. Д. Толстого просвещение было поставлено так, чтобы обрабатывать Олимп, то есть даже не русское, а чужое небо, давно сданное за штат. Заставляли малышей долбить Овидиевы превращения, не замечая, что родная природа изобилует куда более чудесными метаморфозами, да притом дающими хлеб, одежду, достаток, счастье. Колоссальная страна, до сих пор еще обитаемая скифами и сарматами, страна, где на обширнейшей в свете черноземной равнине едят часто хлеб из лебеды... Неисчислимые, скрытые в недрах богатства... Удивительные, дремлющие в грязных башках славянских способности... Что же нужно? Неужели греческие аористы и латинские герундии? Мне кажется, Санчо Панса высказался бы, будучи мужиком, решительно как Менделеев: за широкое распространение машин, за обучение обращаться с ними. Он потребовал бы для общества и для народа элементарных знаний. Что такое навоз, как сберегать пропадающую его силу, что такое фосфориты, что такое хорошая глина, что такое железо, деготь, сало, нефть, каменный уголь, химические краски. Как приготовить тысячи дешевых вещей, которые мы все покупаем втридорога. Как убедить землю, чтобы она вместо желудей давала пшеницу. Куда девать зимний томительный досуг десятков миллионов здоровых людей, разленивающихся, отвыкающих от работы, пускающихся в распутство от праздности, а главное, пожирающих, как саранча, все то, что заготовлено летом, без остатка. Вообще каким образом подойти к накоплению народного богатства, без которого невозможна никакая культура? Серьезно, мне кажется, Санчо Панса понял бы Менделеева сразу. Он оценил бы здравый смысл великого химика, его хозяйственную смекалку. Крестьяне недоверчивы к господам, но если разгадают в барине не шарлатана, – сейчас же готовы поучиться у него, готовы признать его знание. Простые люди – как великие люди: они скромны потому, что естественны.
Можете себе представить, какая могучая работа закипела бы под руками Менделеева, если бы он был призван к государственному труду в его молодые годы! С десяток таких богатырей, как Менделеев, которые непременно есть в стране и явились бы, – они могли бы еще тридцать лет назад поднять Россию, просветить, обогатить. Даже связанный в замысле, даже в роли эксперта и небольшого чиновника, Менделеев своими работами по части нефти вдвинул в Россию неисчислимое богатство, уже давшее государству многие сотни миллионов. Что же было бы, если бы ему вовремя дали власть и средства оглядеть русское хозяйство? Оглядеть с особенным интересом практического деятеля, оригинального и знающего толк во всем, оглядеть с тем вкусом, что вызывает молниеносные догадки и так называемые "счастливые идеи"? Платон, мечтая об идеальном государстве, изгнал из него артистов и поставил во главе его – мудрецов. Многие из наших министров, подготовивших упадок России, были поклонниками муз. Валуев писал романы, Тимашев лепил бюсты, Горчаков славился блестящим стилем, при посредстве которого Бисмарк водил его все время за нос. Были артисты остроумной болтовни, были мастера в реtits jeux26. Один министр получил бессмертное имя, дав рецепт сладкой каши. Люди милые, блестящие, любезные, целые десятилетия вели Россию неуклонно к пропасти – в то самое время, как мудрецы народные, – и какого размера! – Менделеевы и Толстые изнывали от кошмарного сознания, от бессилия, от невозможности что-нибудь сделать. Единственно, что им предоставлено было, – это писать брошюры, ворчать у себя за печкой.
1907
ДРУЖИНА ХРАБРЫХ
Когда, к изумлению всего света, некоторые части русской армии и флота подняли бунт, это невероятное явление пытались объяснить просто: в России идет революция, чего же вы хотите? Но вот в республиканской Франции, давно пережившей революцию, повторяется то же самое. Вспыхивает случайный мятеж виноделов, и пехотные полки отказываются повиноваться, а матросы на броненосце "Виктор Гюго" чуть было не повторили нелепую эпопею "Потемкина". В двух странах, столь далеких по истории и образу правления, совершается нечто странное и чрезвычайно сходное в области глубоко важной – в области духа народного.
Давно отмечены неблагоприятные условия, сближающие нас с Францией. Обе великие державы оскорблены в своей гордости народной. Обе побиты соседями, и обида эта не отомщена. Пока не восстановлена вера страны в свое могущество, нужно ждать печальных неурядиц. Все низкое, что есть во всяком народе, подымает голову. Скованные государственной дисциплиной рабские инстинкты начинают говорить громко. Внутренние враги, которые гнездятся в тканях всякого народа, действуют все с большей наглостью. Развивается пропаганда всевозможных отрицаний, неуважение к национальной вере, пренебрежение к родной культуре. Оплевываются старые знамена, проповедуется цинизм, восстание против всякого авторитета. Во Франции среди будто бы глубокого мира давно идет яростная борьба с церковью, с армией и национальностью, идет та же пропаганда отречения от своей истории, что у нас. В обеих странах главным орудием всякой пропаганды – печатью – давно овладели враги христианского общества, цель которых – расстроить Европу, чтобы превратить ее, так сказать, в Евре-опу. Одинаковые причины порождают те же последствия.
Было бы ошибкой думать, что только Франция и Россия захвачены разрушительным процессом. Германский мир, правда, покрепче кельто-славянского. Германия имела некогда счастье провести свою революцию на религиозной почве и укрепила этим дух народный до такой степени, что анархия над ним пока бессильна. Германия имела великую удачу на переломе миросозерцании, в середине прошлого века, запастись блестящими победами. Народная гордость ее надолго удовлетворена; как могучая пружина, она развертывается в явлениях жизненных и жизнестойких. Идея великого отечества попирает самую тень измены. Равнодушие к родине кажется черной неблагодарностью. Неповиновение державной власти – подлостью. Все это колоссальный нравственный капитал – куда поважнее пяти миллиардов, что оставил Германии Вильгельм I. Если немцы присваивают этому государю титул великого, то потому лишь, что чувствуют национальное величие, связанное с его скромным именем. Тем не менее даже исключительно счастливая Германия испытывает подтачивающее дух народный влияние анархии. О неповиновении войск и флота, конечно, нет и речи, но одна из самых могущественных партий в рейхстаге, опирающаяся на самый широкий круг избирателей, уже не встает в честь императора. В ее программе, как ultima ratio27 стоит грабеж одних классов другими.
Французские события заставляют еще раз вернуться к вопросу: существуют ли в Европе громадные армии, о которых говорит статистика? Что государства подавлены содержанием огромных полчищ – это бесспорно, но армии ли эти полчища? Насколько они удовлетворяют военным и государственным требованиям? Вопрос чрезвычайно острый – особенно у нас и во Франции, с которых военное разложение началось. А что, если эти необъятные толпы молодежи, плохо воспитанной, наскоро кое-чему обученной, зараженной общею распущенностью, только даром едят народный хлеб? Что, если в минуту национальной опасности армия первая изменит своему отечеству? Надо вдуматься в это серьезно. Высшие военачальники во всех странах – люди старые; они родились в строгие времена, когда феодальная дисциплина насквозь проникала народ. Генералы непосредственно знакомились с солдатами полстолетия назад, когда были прапорщиками, и понятие о солдатах у них архаическое. Им доселе молодой парень из деревни кажется добрым малым, вымуштрованным суровой семейной властью и внушениями веры. Подучить, как прежде, такого парня маршировке и стрельбе – вот вам и солдат. Но это представление неверное, глубоко вредное. За полстолетия мир решительно переродился. Нынешний материал для армии совсем не тот, что прежде. Вся подготовительная дисциплина исчезла: сплошь исчезло крепостное уважение к барину-офицеру, исчезла привычка повиновения старшим, страх пред властью. Подрастающая молодежь в Европе не знает ни розги, ни палки, ни тех суровых средств, которыми тысячи лет дрессировался человек-зверь. Политический гуманизм имел свои хорошие и свои отвратительные стороны. Еще так недавно дети государей и старой знати воспитывались гораздо строже, чем теперь воспитываются дети черни. К темным народным слоям сразу была применена рыцарская прерогатива – личная неприкосновенность. Ждали подъема народного достоинства, и, может быть, благородные элементы в народе действительно возвысились, но элементы, от природы низкие, почувствовали то самое, что укрощенный зверь, когда с него снята узда. С возвращением к естественным условиям и зверь, и звероподобный человек быстро дичают. Они теряют культурную сдержку, становятся теми "естественными людьми", остатки которых еще водятся в глуши далеких материков. Среди нынешней народной молодежи встречается, конечно, еще большой процент культурных людей. Есть прирожденно благородные, но наряду с ними с каждым десятилетием все резче выступает элемент дичающий и даже одичавший. Озорники дома, охальники, головорезы, эти "естественные" молодые люди не только не приобретают привычки к повиновению в родной семье, но приобретают обратную привычку – держать в страхе своих стариков, плевать на них, а подчас и поколачивать. С этой новой привычкой "естественный" молодой человек, пройдя подготовительную школу деревенского разгула, идет на фабрику либо кочует по городским "легким хлебам", от трактира к трактиру. Наконец его призывают к отбыванию священного долга перед отечеством, ставят под знамена. Как вы думаете, чудесное приобретение делает армия в лице такого молодого человека?
От опытных генералов я слышал, что в два-три года, если налечь на обученье, можно приготовить хорошего солдата. Я с этим безусловно не согласен чисто по психологическим основаниям. В два-три года нельзя приготовить никакого специалиста. Вы его едва научите теории за столь короткое время, а когда же практика? Практика же, более необходимая, чем теория, требует не только большого, но непрерывного времени. Кто хочет быть хорошим сапожником, тому нельзя поучиться этому делу три года и бросить его. Нужно шить сапоги всю жизнь. Есть прирожденные артисты военного дела; они усваивают его очень быстро. Но даже артисту стоит лишь бросить свое искусство, чтобы разучиться ему. В какой хотите области труда поставьте это условие – научившись ремеслу, бросить его, – и всюду это условие покажется безумным. А в самом важном после хлебопашества труде народном – в военном деле – это безумное условие введено в закон. Я вовсе не уверен, чтобы даже из даровитого рекрута можно в три года сделать хорошего солдата. Чисто технически это очень трудно. Даровитых же так немного. Нужно ли прибавлять, что далеко не одно техническое обучение делает солдата? Трехлетний новобранец будет держать ружье, но кто поручится, что уменье выпустить пулю он не использует против своего же ротного командира?
Правительства должны знать, что кроме кипучей пропаганды в деревне, где молодежь народная захватывается анархией на корню, кроме усиленной агитации в казармах есть еще одна сторона революционированной армии. Все разрушительные партии стараются провести в войска своих единомышленников просто чтобы обучить революционную молодежь военному искусству. На казенный счет, под видом правительственной армии, революция обучает свои собственные батальоны. Пред вами стоит бравый солдат, унтер-офицер, фельдфебель. Он исправнее других, но кто знает его замыслы? Чей, собственно, он солдат ваш или врагов ваших?
Если говорить о государственной армии, то пора бросить крайне легкомысленный взгляд, будто все обязаны быть солдатами и все могут быть ими. Это глубочайший абсурд, который стоил нам проигранной войны и потери мировой нашей роли. Японская война была, в сущности, первая, которую вела наша армия на началах общей воинской повинности. В последнюю восточную войну новая система еще не успела пустить корня, и дух армии был еще старый. Уже и тогда, было отмечено, что "армия не та", и тогда случились эпизоды, о которых стыдно вспомнить. Но во всем блеске нелепость новой системы сказалась именно в Маньчжурии, куда из трехмиллионного обученного полчища пришлось послать сброд, оказавшийся часто ниже всякой критики. Бородатые запасные, омужичившиеся в деревне, обабившиеся, распустившиеся, разучившиеся воинскому делу до неумения держать ружье, – они шли не в бой, а на убой, и если увлекали молодых солдат, то скорее "наутёк". В силу того же глупого принципа – всякий, мол, годен стоять во фронте, – в действующую армий посылали части, где иной раз до 40% было евреев, где чуть не весь офицерский состав были поляки. В результате евреи устраивали искусственную панику в войсках, а в службе России разделились так: треть бежала, две трети сдавались в плен. Были отдельные случаи героизма среди евреев и поляков, но общая роль инородцев была крайне пагубна, как расскажут когда-нибудь неофициальные мемуары лиц, вернувшихся с войны.
"Что же делать?" – вы спросите. Как я уже не раз писал, следует отречься от гибельного предрассудка демократизации армии. Если нельзя сразу, то необходимо хоть постепенно, но настойчиво переходить к старой, разумной системе, к системе постоянной армии, армии не количества, а качества. Обучайте военному искусству весь народ, но не смотрите на это как на армию. Начните обучение строю и выправке с народных школ, отмените все льготы, требуйте, чтобы каждый гражданин – как в Японии и отчасти в Германии – был бы подготовлен защищать отечество. Но серьезную военную силу набирайте лишь из способных людей и нравственно подходящих, причем основным условием следует ставить то, чтобы они посвятили себя службе не на время, а навсегда. Только такая, постоянная армия, с долговременною привычкой к дисциплине и к идее долга, может быть оплотом государства. Армия берется, конечно, из народа, но она не должна быть народом, или она обращается в милицию, в вооруженное сборище, опасное более для своего отечества, чем для врага. Вся сила армии – в героизме, в преданности своим знаменам, в безусловном повиновении Верховной власти. Но эти качества на земле не валяются – их нужно поискать да поискать. В народе они есть, но в скрытом состоянии, – раскрываются они лишь в особом сословии, как и другие качества народные. Необходимо, чтобы армия была особым сословием, то есть классом постоянным, а не сбродом, который распускают, едва собрав. Распущенность армии – органическое ее свойство, вытекающее из основной идеи – роспуска. Само правительство, распуская армию физически, распускает ее морально. Само правительство, назвав военное дело "повинностью", теряет здравый взгляд в этом вопросе. Пора вернуться к убеждению древних, что это вовсе не повинность только, а прежде всего – призвание и что только та армия хороша, которая хочет быть армией и остается ею навсегда. Какого вы хотите воинского духа, когда солдат знает, что он гость в полку, что вся его долгая жизнь будет посвящена какому хотите делу, только не военному? Воинский дух, как всякое увлечение, накапливается – и для этого нужно время. Лишь то делается священным в глазах наших, чему – как некоему богу мы приносим самое великое жертвоприношение – свою жизнь. Всякое случайное дело есть чужое дело – только постоянное занятие может быть освоимо. Кому же придет охота втягиваться на два, на три года в профессию, чтобы ее бросить?
Не то беда, что современные армии велики, а то, что они не армии вовсе. Переодетые в солдатские мундиры деревенские парни парадируют кое-как в мирное время, заставляя трепетать сердца кухарок, – но попробуйте двинуть их на исполнение долга – они разбегутся, как солдаты 117 полка, или забунтуют. Для спасения государств, угрожаемых более изнутри, чем извне, необходимы хоть не большие, но постоянные армии, необходим строгий отбор людей, по призванию и таланту. Только талант удерживает человека иной раз на скромном и неблагодарном ремесле.
Дружинами храбрых начинались все государства. Только дружины храбрых могут спасти современные общества от распада.
* * *
Как многое что я пишу, моя статья о необходимости постоянной армии удостоилась гвалта со стороны еврейской печати. Еще бы! Постоянная армия это для смуты нож острый, это вопрос посерьезнее парламентского; в сущности, это – центральный вопрос, в котором скрыто "быть или не быть" современному обществу. Парламент, безусловно, необходим для контроля власти, для хозяйственного подсчета, для соображения законов. Но постоянная армия необходима для самого существования власти, для осуществления ее решений. Пока еще государственность наша только трещит и колеблется. Пока еще теперешняя краткосрочная армия донашивает старые элементы постоянствадисциплину, послушание. Но времена меняются с калейдоскопическою быстротой. Пройдет пять, много десять, лет – и во что обратится армия, охваченная пропагандой бунта? Или вы думаете, что этого никогда не будет? Но почему ж, однако? Раз засвидетельствовано появление чумы сразу в сотне пунктов, необходимы крайне решительные меры, чтобы иметь право утверждать, что вы оборвали заразу. Где же эти меры? Их что-то не видно, да и возможно ли тут что-нибудь действительно решительное – вопрос.







