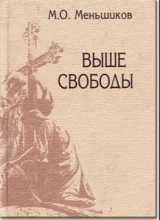
Текст книги "Выше свободы"
Автор книги: Михаил Меньшиков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
"Когда монарх считался как бы вассалом Господа, а отец – вассалом монарха, то и сыну приходилось быть в благоговейном подчинении и к монарху, и к отцу своему. Каждый новый человек в обществе являлся новой клеткой организма, знающей, что ей делать, и исчерпывающей полноту своих сил производительно".
Практически речь идет не только о биологическом единстве и здоровье нации, хотя и проблеме физического здоровья Меньшиков всегда уделял большое внимание. Речь скорее о том, что современные социологи называют "идентификационными полями", "системами ценностных или социальных ориентации". Но эти поля, эти ориентационные системы понимались русским мыслителем – и это выгодно отличает его от современных политологов – как вещь, насквозь органичная. Это особенно наглядно при анализе соотношения власти и народа – проблемы, так мучающей и сегодняшних политиков и аналитиков.
"Народ беспомощен вне власти, но и власть, как оказывается, бессильна без народа, – формулирует Меньшиков в одном из "Писем к ближним". – О действительном единении этих двух условий – государства и народа – народ мечтает как о спасительной самозащите". Снова мы видим, что весь анализ строится в терминах естественных защитных реакций живого национального организма.
"Нет власти", "паралич власти" – постоянный предреволюционный лейтмотив политических прогнозов "Нового Времени". "Дело близится к тому, предупреждал Меньшиков в статье, которая так и называлась "Нет власти", и консерваторов, и либералов, – что и бессильное правительство, и бессильное общество со всем багажом речей, деклараций, программ, политических статей рискуют наконец быть смытыми поднимающеюся снизу грязной анархией. [Писано за четыре года до "Великой Октябрьской". – Н.Л., М.П.] Если сейчас "нет власти", то необходимо сделать, чтобы она была. С организации власти надо начинать, если ее нет, а не с чего иного. Если подвыпивший кучер, допустим, свалился с козел – смешно философствовать о предоставлении инициативы лошадям".
И обобщающий философский вывод: "Я думаю, власть по своей природе ничем незаменима. Как все необходимое, она непременно должна быть на своем месте, иначе пиши пропало!"
Никак не удержаться от обильного цитирования в статье о столь блистательном стилисте. Да и дело требует. Лучше Меньшикова о его воззрениях, пожалуй, никто не скажет.
Вот он говорит о необходимости "естественного стиля" в государственной жизни России, о вполне реальном восстановлении Патриаршества и сугубо романтическом – древнего Боярства (статья к романовскому юбилею "Милость народу"): "Бюрократия имелась у нас и в Московскую эпоху, но и выше нее стояла группа, которая составляла, так сказать, живой Кремль монархии с такими башнями, какими возвышались Романовы, Курбские, Воротынские, Трубецкие, Шуйские, Пожарские. Если весь народ отстаивал Россию от великой Смуты, то предводительство в этом подвиге принадлежало патриаршеству и боярству. Восстановление древнего органического стиля нашей государственности было бы "возвращением домой" после героического похода Петра Великого на чужую сторону. Это возвращение к родной земле, к ее корням, к ее красоте и ее заветам – было бы встречено народом как сказочная мечта"53.
Меньшиков понимал – "погибающее государство не спасут ни пышные парламентские фразы, ни триумфы, ни салюты. Единственно, что производительный, культурный труд". И ради пропаганды такого труда он не жалел ни сил, ни времени. Михаил Осипович убеждал: погибнет крестьянский двор – погибнет государство. Ведь крестьянский двор – это маленькая Россия, микрокосм, имеющий те же основные признаки, что и государство. И это наиболее естественный стиль ведения всякого хозяйства.
Итак, власть должна быть на своем месте и соответствовать своему месту. Национальная элита должна быть на своем месте. Семья, как источник авторитета, должна быть на своем месте. Это и есть естественный, от Бога заведенный порядок вещей, органическая для человека и общества иерархия ценностей. Возглавлять, осенять благословением эту иерархию ценностей и авторитетов призвана церковь. Неорганичность, невыдержанность "стиля" в самой Церкви ведет и к ее упадку, и тогда приходится ставить вопрос: что восстанавливать прежде – нацию или христианство.
"Христианство прививалось, – подчеркивает Меньшиков, – всегда лишь одним способом. Приходили апостолы, увлекали своей проповедью небольшое число последователей, строили крохотные церковки. Но эти церковки были огромны внутренним объемом веры, которая быстро – как река в половодье выступала из берегов. Вот естественный и разумный способ насаждения христианства. У нас же хотят наоборот: сначала создать храмы, а потом будто бы сами собой откуда-то явятся и верующие. Боюсь, что этот расчет ошибочен".
Обратим внимание, писатель и в сфере сугубо духовной требует в первую очередь (не он – природа, дело требуют) "естественного стиля". Более того, здесь, в религии, в Церкви, он может быть нужнее, чем где-либо. То, что огромные холодные храмы Москвы и Петербурга стояли еще и при батюшке-царе пустыми, что они не были "намелены", "надышаны" верующим народом, – это, увы, как ни прискорбно, факт. И сегодня, в условиях восстановления интереса к христианству – далеко еще не "восстановления христианства" – полезно, думаем, прислушаться к суждению проницательного, хотя и не очень церковного, современника. Раздумья о Вере, о Боге увлекали Меньшикова в безграничность макро– и микрокосмоса. Свои мысли он фиксировал, порой, в поэтической форме, но стихов не публиковал. Мы приведем одно из стихотворений, сохранившихся в семейном архиве:
Конечно, – я ничто в сравненьи с Миром,
Но ведь и он ничто в сравнении со мной.
Кто кажется ничтожней в отдаленьи?
Я ль на Земле, невидимый, бесследный,
Иль он, сведенный к еле видным точкам?
Гляжу на свод небесный... Вот Арктур,
Вот Вега – вечный океан огня,
Вот Сириус таинственный, безмерный,
Но необъятность их не больше искры
Ничтожно малой. Отступи подальше
На сотни миллионов новых верст,
И ты светил великих не увидишь.
Они сольются все в неясное мерцанье
Той звездной пыли, что зовется
Потоком Млечным. А еще подальше
Исчезнет из очей и это привиденье.
Пусть миллиарды лет
Такие искорки горят в небесной тверди,
Но и они погаснут. Вся неисчислимость
Веков в сравненьи с Вечностью – мгновенье.
Так в чем же должен видеть я величье мира?
Покорен он, как я, жестокому закону
Бытия, сплетенного с небытием.
Мир, как и я: он есть – и нет его.
По-видимому мир – мое же повторенье.
Он тех же волн, как я, безмерный океан
И ничего нет вне души моей такого,
Что не было бы в ней самой. Ничтожен я,
Но я сознательно стою пред вечным Небом.
Я знаю многое в его существованья,
О нем я мыслю. А оно..? О, Боже!
Тип нации – тип национализма
Сколько наций, столько национализмов... Ведь что такое национализм? Это, в самом общем случае, способ смотреть на мир глазами своей нации, своих отцов и пращуров. Глаза у каждого разные. Потому будут неизбежно разными и "национальные глаза". Есть в мире национализм немецкого, французского, британского типа... Есть национализм японский, есть еврейский... Строго говоря, если приглядеться, ни один из национальных типов национализма не дан нам в реальной истории в чистом, беспримесном и бескомпромиссном виде. Как нет в природе химически чистых веществ (кроме, кажется, метеоритного железа), нет и жестко выделенных раз навсегда идеальных типов национализма. В одной и той же нации, у русских, например, могут существовать, соседствовать и взаимодействовать политически и мировоззренчески национализм немецкого, еврейского, любого другого типа. В конкретной истории русского национализма можно выделить группы и направления, связанные более или менее с тем или иным типом национального самовыражения. Славянофилы, евразийцы, национал-коммунисты...
Хуже того, и у одного человека день на день не приходится. Как писал Достоевский, "может, я только по понедельникам и вторникам дурак, а в среду и умнее тебя буду". Так и с национализмом. В среду он может у меня быть другой тональности и напряженности, чем "национализм во вторник". Конечно, всегда остается некий доминантный, определяющий, так сказать, колорит. Попробуем присмотреться, разумеется на точных цитатах, каков был тип меньшиковского национализма.
Во-первых, всегда подчеркивал писатель, это национализм принципиально не агрессивный. "Есть у нас воинствующие национализмы, но они не русские, а инородческие, – пишет он в статье
"Дело нации" в 1914 году. – Наш, русский национализм, как я понимаю его, вовсе не воинствующий, а только оборонительный, и путать это никак не следует. Мы, русские, долго спали, убаюканные своим могуществом и славой, но ударил один гром небесный за другим, и мы проснулись и увидели себя в осаде – и извне, и изнутри"54.
Во-вторых, предполагается возможность органичных и неорганичных решений национального вопроса для тех или иных многонациональных, взаимодействующих сред.
"Я имею право говорить о русском чувстве, наблюдая собственное сердце. Мне лично всегда было противным угнетение инородцев, насильственная их русификация, подавление их национальности... Я уже много раз писал, что считаю вполне справедливым, чтобы каждый вполне определившийся народ... имел на своих исторических территориях все права, какие сам пожелает, вплоть хотя бы до полного отделения". Но совсем другое дело – и этого многие не хотят понимать доныне, – когда тот или иной "малый народ" захватывает "хозяйские права на нашей исторической территории". "Мы вовсе не хотим быть, – жестко и справедливо формулирует Меньшиков, – подстилкой для целого ряда маленьких национальностей, желающих на нашем теле располагаться и захватывать над нами власть. Мы не хотим чужого, но наша Русская Земля – должна быть нашей".
Диагноз дается Меньшиковым почти с медицинской точностью и в медицинских терминах. "Инородное вселение является инфекцией; размножение микроплемен ведет гигантское племя [русских. – Н. Л., М. П.] к государственной смерти". Говорить и помнить об этом, с точки зрения здорового национализма, – "это вовсе не воинственность, а инстинкт самосохранения".
Третья, может быть самая выразительная, черта в меньшиковской философии – специфичное понимание национальных взаимодействий внутри русской нации. В своих излюбленных эстетических категориях писатель не раз повторял, что главное для жизни и самосознания народа – не политический национализм (платформы и программы партий), а культурный – возрождение народного творчества в жизнеспособных традиционных формах.
Так, посетив концерт модой певицы Собиновой, автор – не без нарочитой заостренности – заявляет, что певица "сделала для национальной идеи больше, чем вся наша Национальная партия, ибо она (певица) заставила тысячи и тысячи людей, и своих, и чужих, полюбить Россию, почувствовать душу русскую".
И за этим пассажем следует совсем уже интересный поворот в раскрытии меньшиковского понимания русской "национальной силы": "А веду я речь к изумительному для меня открытию. Эта чудная русская артистка, вобравшая в себя все чары и тайны русской души народной, оказывается... датчанкой! Да-с, полукровкой датчанкой, родною внучкой великого Андерсена, сказками которого мы упивались в детстве. Как вам это нравится? Всего лишь в одно поколение так переродиться в России, сразу принять и тело русское типическое для средней Великороссии, и вместе с телом все инстинкты, все предчувствия души, все повадки, чисто стихийные, доведенные до высшей грации... Это просто чудо какое-то!"
"А что вы скажете,– писал Меньшиков в той же статье, – о г-не Гольтисоне? Это чистокровнейший еврей, и тем не менее страстный композитор русского церковного пения и, как говорят,– большой русский патриот. Вот вам иллюстрация нашей национальной силы" 55.
Вот вам иллюстрация меньшиковского национализма! Сколько бы ни говорили о его "черносотенстве", "антисемитизме", – считаем, здесь сказано обо всем этом куда ярче и глубже.
Дальше – больше. Внимательное чтение "Писем к ближним" от номера к номеру, из года в год обнаружит и другое – что национализм этого "черносотенца" прекрасно уживается с восхищением (иногда даже преувеличенным) чужой культурой и весьма критическим (порой чрезмерно критическим) отношением к своей. Кому-то показалось бы, пожалуй, что это вовсе не патриот, а
русофоб написал в одном из номеров "Нового Времени": "Мы, русские, живем в захолустье мира, в стороне от большого света, и до нас доносится лишь смутный гул далекой одушевленной жизни. Такие территории, как Англия, Франция, Германия, Италия, Америка, представляют великолепные скопления культурных рас – они насыщены электричеством умственной работы, особенно напряженным".
Нет, Михаил Осипович не был "американистом" (хотя напряженность собственно умственной работы Запада он здесь явно переоценивает), Просто он, как обычно, подходит к историко-социологическим явлениям со своей биологической, органической меркой, с критерием "культуры счастья" (именно так озаглавлен цитируемый раздел статьи). "Не потому ли и расцвела великая римская цивилизация, – продолжает рассуждать он, – что вечный город всегда пользовался вволю прекрасной горной водой, чистейшим воздухом моря и гор, чистейшим в Европе небом с таким очистителем жизни, каково солнце? И не потому ли вянет на наших глазах скудная петербургская цивилизация, что Петр Великий выбрал для центра своей империи финское болото, где нет ни чистой воды, ни воздуха, ни света?" Как хотите, а большая доля правды в высказанном суждении есть. Хотя и слишком пессимистично для нашего народа, особенно для его будущего, звучит окончательный приговор: "От здоровой матери-природы рождаются счастливые смеющиеся дети, от больной – больные и скучные".
К какому же типу национализма принадлежал национализм нововременского публициста? Безусловно, эстетический. Безусловно, биологический. Если угодно, даже естественно-научный. Меньшиков не дожил до идей Л.Н. Гумилева, но похоже, что "стихийно" мыслил он близко и к категориям этногенеза, биосферы, пассионарности.
В 1916 году в статье "Что такое национализм?" сделана как бы попытка подвести итог его размышлениям в области национальной философии. Конкретный повод – неославянофильские загибы в реконструкции "исконно русских" эстетических и нравственных принципов.
"Так и в последние десятилетия мне приходилось более других публицистов писать о национализме и так как мое имя связано с учреждением так называемой Национальной партии в России, то я нахожу вынужденным отгородиться от крайности национализма, доводимого некоторыми русскими людьми до абсурда". Напротив, о печальных опытах времен Шишкова называть галоши мокроступами и наряжаться, как делали славянофилы, в кафтаны вместо сюртука – словом, говоря о том, что и тогда определялось затасканным "квасной патриотизм", Меньшиков заявляет: "Все это не ново и не умно. Я решительно чужд этому уродливому пониманию национализма. Я настаиваю на том, что и отдельный человек, и вся народность своею гордостью должны считать не сохранение статус-кво, а непрерывный в пределах своей природы прогресс".
"Национализм с христианской точки зрения, – дает определение писатель, – как развитие в себе наивысшей человечности, есть поиск наилучшего. Евангелием не запрещено ни одному народу оставаться тем, что он есть, ибо этого запретить нельзя. Но на всех языках Евангелием проповедуется необходимость отречения от некоторых своих свойств, если они дурные, и приобретения некоторых других свойств, хороших".
"Будьте совершенны, как Отец ваш небесный", – так можно было бы выразить евангельский императив этой националистической этики. "Ведь культура не меняет природу животного или растения, а только совершенствует ее. Нетрудно видеть, что цепляясь непременно за свое, только потому что оно свое, мы одинаково идем наперекор Евангелию и культуре".
В итоге истинный национализм "есть не оберегание нищеты, а накопление драгоценностей, приобретенных всюду, где Бог пошлет, – драгоценностей духа и тела".
...В дневниках 1918 года, в последние месяцы перед арестом и гибелью, Меньшиков не раз будет возвращаться к давним размышлениям. Они принимают теперь грустный, почти апокалиптический оттенок – в связи с ожидавшимся наступлением немцев, уже занявших Псков. До Валдая оставались считанные версты. Готовясь психологически к возможности нового непредусмотренного взаимодействия с германской оккупационной стихией, старый националист записывает диковинные, на первый взгляд, слова: "Мы еще во власти невежественных суеверий, и все еще немец кичится тем, что он немец, а индусу хочется быть индусом. Но это быстро проходит. Суеверие национальности пройдет, когда все узнают, что они – смесь, амальгама разных пород, и когда убедятся, что национализм – переходная ступень для мирового человеческого типа – культурного. Все цветы – цветы, но высшей гордостью и высшей прелестью является то, чтобы василек не притязал быть розой, а достигал бы своей законченности. Цветы не дерутся между собою, а мирно дополняют друг друга, служа гармонии форм и красок".
Не правда ли, неожиданное завершение многолетней эволюции одного из типов "национализма"? Это напоминает отчасти позднего Шульгина. И тот, и другой из очень разных лидеров и идеологов русского националистического движения приходят к одной мысли. Как человек, по Ницше, есть нечто, что должно преодолеть, так и национализм, по Меньшикову и по Шульгину, есть нечто, что должно быть преодолено. Но преодолено не отменой, не упразднением самого субъекта национализма – живой исторической нации, а, напротив, путем максимального ее развития, возрастания к той "общечеловечности", о которой грезил в своей Пушкинской речи Достоевский.
Увы, но события, происшедшие на Земле в XX веке, показали, что люди еще очень далеки от этой вожделенной "общечеловечности".
Кто ближний мой?
Круг знакомых и корреспондентов Меньшикова был чрезвычайно обширен: умершие еще при его жизни такие разные Надсон и Лесков, Чехов и Толстой, Иоанн Кронштадтский и Менделеев, летчик Мациевич, с которым Меньшиков летал на самолете, и глубоко любимый Алексей Сергеевич Суворин; пережившие Меньшикова Ольга Александровна Фрибес, Лидия Ивановна Веселитская, Розанов, Сытин, Нестеров и Горький (ведь они встречались, были знакомы, и в предсмертных письмах Михаил Осипович вспоминал о нем с горечью – Горький мог бы хоть попытаться спасти коллегу от расстрела). Множество посетителей приходило к литератору.
Огромный цикл статей Меньшикова назван "Письма к ближним". Почему? Одна из первых в этом цикле – статья "Буква S, перебежавшая океан", – о первом сеансе радиосвязи между Европой и Америкой. Вот две цитаты из этой статьи: "Кто ближний мой? Этот вопрос евангельского законника (Ев. от Луки; Гл. 10, 29) задает теперь Христу все культурное общество, древнее и изнеженное, как и тот класс, к которому принадлежал законник. Нынче столько говорят о нищете, но никогда не было на свете такого огромного множества богатых людей, как теперь, и судьба этого класса, перегорающего в сладострастии ума и чувства, весьма загадочна. Она не менее трагична, чем судьба нищих... богатое и образованное общество неудержимо падает до декаданса, до нравственного изнеможения. Совершенно как в эпоху Екклесиаста, здесь, на вершинах счастья, начинает казаться, что уже нет ближних, что не для кого, некому молиться.
И может быть, как только воздушные корабли и телеграфы сделают всех близкими, – окончательно исчезнут ближние, исчезнет этот древний прекрасный религиозно-поэтический порядок человеческих отношений. "Ближний" – значит, родной, но чувство родства неудержимо падает в современном обществе – и в охлажденной, рассеянной семье, и в государстве..."
"Лихорадочная забота о путях сообщения, как в век римского упадка, похожа на поиски потерянных ближних, на жажду все более и более тесного, непрерывного соединения – всех со всеми. Но иногда хочется сказать: "Полно, господа, расстояние ли разъединяет людей?" Можно стоять рядом и быть в то же время бесконечно далеко. Помните: "Шел священник и прошел мимо", "подошел левит, посмотрел и прошел мимо".
Раз потеряна способность "увидеть и сжалиться" – нет ближнего, и как будто двух людей, стоящих рядом, разделяют океаны и материки". У Меньшикова были ближние, и он очень дорожил ими.
Крестница Суворина
Последняя книга, которую хотел написать и не написал Меньшиков, должна была называться "Руководство к счастью".
...Расправу над великим публицистом вершили на берегу Валдайского озера, в виду Иверского монастыря, на кресты которого он молился перед смертью. Расстреляли почти на глазах шестерых детей. Старшей, Лиде, было десять, другие мал мала меньше – Гриша, Лека, Мика и совсем маленькие Машенька и Танечка.
"Не прошло и десяти минут, как дети услыхали громкое бряцание оружия, говор и смех, и на улицу высыпало человек 15 вооруженных солдат-красногвардейцев. Это была стража, окружающая мужа. – Так рассказывает в воспоминаниях Мария Владимировна, вдова писателя. – Он шел среди них в одном пиджаке и своей серенькой шапочке. Он был бледен и поглядывал по сторонам, точно искал знакомого доброго лица. Неожиданно увидав детей так близко, он просиял, рванулся к ним, радостно схватил на руки самую маленькую, Танечку, и крепко-крепко прижал ее к груди. Муж поцеловал и перекрестил ее, хотел поцеловать и благословить и тянувшуюся к нему Машеньку, которая с волнением ждала своей очереди, но его грубо окрикнули, приказывая идти вперед без проволочек. Муж гордо посмотрел на них и сказал:
– Это мои дети. Прощайте, дети..." 56
Дочь Ольга родилась в 1911 году и была крестницей дочери великого Достоевского. Любови Федоровны и Алексея Сергеевича Суворина, издателя "Нового Времени". В семье Ольги Михайловны сохранилась икона святой княгини Ольги, которую подарил ей крестный.
Крестница Суворина впоследствии соберет и сохранит литературный и семейный архивы своего отца. В 1937 году, когда она передавала письма Лескова Меньшикову в Литературный музей, которым заведовал небезызвестный В.Д. Бонч-Бруевич, он спросил Ольгу: "Как вы сейчас относитесь к своему отцу – как к исторической фигуре или как к родителю?"
"Я просто и сразу ответила, – вспоминает Ольга Михайловна. – Конечно, как к отцу!" Он резко повернулся в кресле и ответил следующей фразой: "Тогда вы не минуете многих неприятностей".
Что ж, их действительно выпало немало. Но сработало как будто и завещанное отцом, как бы в генах закодированное "руководство к счастью": "Благословляю тебя быть наилучшей матерью многих детей, и да пошлет тебе Господь хорошего мужа, благородного и доброго, героически глядящего на жизнь". В семнадцать лет она вышла замуж за Бориса Сергеевича Поспелова, сына священника, и с тех пор почти семь десятилетий они практически безвыездно (за вычетом нескольких лет эвакуации в годы войны) жили счастливой семьей в старом подмосковном доме. Поздней осенью 1994 года Борис Сергеевич, увы, скончался на 93 году жизни. Ольга Михайловна много сил положила на расшифровку и переписку материалов отца. Ей мы обязаны изданием дневников Меньшикова 1918 года.
* * *
...Как известно, рукописи не горят. Возвращается к нам и наследие М.О. Меньшикова. Оно влечет к себе богатством мыслей, идей, пророчеств, неповторимой философией русской жизни, русского национализма. Постичь и оценить все это нам еще предстоит.
Михаил Поспелов
Николай Лисовой
К ЖИВЫМ АДРЕСАТАМ
Книги, как известно, имеют свою судьбу. И судьба эта сложнее и причудливее как раз в те времена, когда добро и зло положены на весы истории, а люди ломают головы и проливают кровь в очередной попытке навсегда расквитаться с нечеловеческим в человеке. Ибо дух наш неотделим от промысла Божьего...
Теперь уже за давностью лет не восстановить подлинной картины происшедшего. Зато не секрет, что в годы гражданской войны и революции в России погибло множество библиотек, причем некоторые большевизанствующие библиофилы под этот шабаш весьма основательно пополнили свои собрания. К их числу принадлежал и Демьян Бедный, знакомый потомству как плохой человек и неважный поэт, но, к сожалению, мало знакомый как блестящий книжник. И вряд ли можно считать сомнительным тот факт, что сам Ленин дал дорогому другу карт-бланш на подобный вид творческой деятельности.
В книжном царстве Демьяна, по необходимости проданном им в 1939 году Государственному Литературному музею, по сей день хранится книга со следами изуверского прошлого. А легенда, возникшая на стыке мемуарных и устных источников, повествует о стальном штыре, который приспособили некие пролетарские умельцы для выбраковки печатных сочинений, уже одним своим переплетом не выдерживавших политической благонадежности и целесообразности. Впрочем, тогда имя нововременского автора помнила не только вся читающая Россия...
Среди книг великого русского мыслителя, критика и публициста Михаила Осиповича Меньшикова многотомные "Письма к ближним" занимают центральное место. Недаром их наличием в своих библиотеках гордились такие выдающиеся русские знатоки книги, как профессор Богдан Степанович Боднарский и актер, умудренный дивной ученостью, Николай Павлович Смирнов-Сокольский57.
Некоторые книги Меньшикова переизданы в наше время, что-то написано о нем, но собственно о "Письмах к ближним", как и обо всем, что с ними связано, сказано слишком мало. Окончательно не выяснен даже объем эпохального издания, хотя, например, литературный критик Павел Горелов в своей публикации к 130-летию со дня рождения М.О. Меньшикова ""Письма", которых ждут" (журнал "Кубань", № 9, 1989) лихо насчитал целых 17 томов "Писем к ближним". Однако... все по порядку.
С вершины века опустимся к его подножию, в литературную хмарь.
И действительно: тяжко было на душе у постоянного сотрудника "Недели" Меньшикова, когда в один прекрасный день 1901 года он, по просьбе наследников основателя этого журнала Павла Александровича Гайдебурова, явился к знаменитому А.С. Суворину с нижайшей просьбой о покупке прогоревшего печатного органа. Дело приняло неожиданный оборот – Суворин "Неделю" не купил, а в разговоре с просителем вдруг предложил ему писать в его собственной газете "Новое Время". "Пишите что угодно и как угодно, сказал, в частности, Алексей Сергеевич Меньшикову, – я хорошо знаю вас по "Неделе", – одно условие – помните, что над нами цензура..."58. И устный договор, таким образом, состоялся, тем более, что вдова Гайдебурова Эмилия Карловна сильно недолюбливала Михаила
Между прочим, Н.П. Смирнов-Сокольский имел какие-то темные связи с начальником Ленинградского НКВД Ф.Д. Медведем, "загремевшим" со своего высокого поста после убийства Кирова 1-го декабря 1934 года. Со слов последнего Смирнов-Сокольский рассказывал моему незабвенному учителю Владимиру Иосифовичу Безъязычному о том, что "Меньшикова, в восемнадцатом, искали по распоряжению Урицкого всей Петроградской Чекой".
Статья "Памяти А.С.Суворина" написана после его мучительной (от рака горла) кончины. И здесь, конечно, не сказано о духовной близости Меньшикова и Суворина в последние годы жизни патриарха русской словесности и издательского дела. А ведь он все больше склонялся к той мысли, что без М.О. Меньшикова не будет и "Нового Времени". Как в воду глядел...
Осиповича и вынужденно считалась с ним, "так как статьи его нравились большинству подписчиков "Недели" уже по одному тому, что были написаны хорошим русским языком и местами не лишены красочности"59.
Работа в "Новом Времени" у Меньшикова сначала не задалась, не заладилась. Думается, что основной причиной этого стала вовсе не треклятая цензура или сложный характер А.С. Суворина, а обострившееся еще на рубеже 1900-1901 гг. горькое чувство личного одиночества и возрастные перебои со здоровьем. Во всяком случае, именно на таком фоне проходила нововременская литературная жизнь маститого критика и публициста, мечтающего о своем маленьком журнале "вроде "Дневника Писателя"".
Меньшиков стал хлопотать во исполнение генерального замысла в мае 1900 года. С тех пор он неоднократно наведывался в Главное управление по делам печати и имел учтивые встречи с его начальником – действительным статским советником, художником, князем Н.В. Шаховским. Но дело, по российскому обыкновению, затягивалось. 31 марта 1901 года Михаил Осипович, в одном из своих сокровеннейших писем, сообщает: "Тотчас после праздников иду к Шаховскому и стану клянчить. Не соперничая с великим Карамазовцем, можно бы – с Вашей, милый друг, помощью и участием – создать крохотный, но небезынтересный журнал"60.
Не было пока ни самого журнала, ни названия "Письма к ближним", но самый ближний Меньшикову человек уже был – в лице духовной писательницы О.А. Фрибес (выступала под псевдонимами И. Данилов, И.А. Данилов и пр.). Они познакомились в 1898 году в доме поэта Я.П. Полонского и сразу заинтересовались друг другом. Завязалась серьезная, но однобокая переписка, однобокая потому, что Ольга Александровна в этом общении всегда держала единожды принятую дистанцию, а Михаил Осипович все больше и больше проникался к ней тёплыми и нежными чувствами61. И надо же было такому случиться, что годы и люди не пощадили именно ее эпистолярного наследия, в то время как основная часть его писем превосходно сохранилась в государственном архиве. Подобное ценное обстоятельство и позволяет нам достоверно проследить историю "Писем к ближним"
Творческий кризис упрямо дополнял все многотрудные перипетии частной жизни. Меньшиков, призвав на помощь свое морское прошлое, сравнивал себя с парусным судном, лишенным машины и оттого подверженным всем стихиям. Одна из стихий, надо понимать, прописалась в Главном комитете по делам печати, где князь Шаховской держал наготове милые любезности и умные, но ни к чему не обязывающие слова. Справедливости ради заметим, что поведение начальства в той полосе обороны тоже легко объяснимо: либеральная интеллигенция, окончательно сдав на вечное хранение "теорию малых дел", все больше и больше атаковала консервативное направление царской власти. Но если, с одной стороны, речь шла только о пересадке на русскую почву интернациональных, западнических идей и непомерном, гнилом самоутверждении, то, с другой стороны, – о самом существовании тысячелетней Российской империи. Пройдет всего несколько лет, и М.О. Меньшиков отшатнется от кадетов и кадетствующих, как от зачумленных, решительно займет правый фланг политического бытия и будет твердо стоять на защите исторической России. Да, так будет... а пока перед ним стояла задача поскромнее, и выполнять ее предстояло иным способом.







