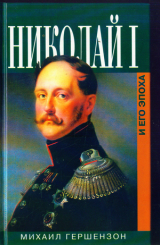
Текст книги "Николай I и его эпоха"
Автор книги: Михаил Гершензон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Телесные наказания
(Из старых дел Ряжского уездного полицейского управления)
8 ноября 1849 года за № 15847 начальник Рязанской губернии гражданский губернатор Кожин писал ряжскому городничему официальную бумагу следующего содержания: «Вследствие отношения Департамента полиции исполнительной предписываю Вашему высокоблагородию донести мне немедленно, каким образом производится (в Рязанской губернии) наказание преступников плетьми, вдоль или поперек спины, и по одной ли этой части тела или по другим». Ответ городничего от 18 ноября за № 737: «Его превосходительству господину Рязанскому гражданскому губернатору и кавалеру. Во исполнение предписания Вашего превосходительства от 8 ноября за № 15847 донести честь имею, что наказание преступников плетьми производилось вдоль спины и по обеим нижним частям тела, ныне же наказание плетьми через полицейских служителей отменено и те плети представлены в Рязанское губернское правление». В тех же делах имелись копии указов Рязанского губернского правления Ряжскому земскому суду, помеченные февралем и декабрем 1857 года. На этот раз они касались как орудий наказаний, так и способа их применения. Первый указ гласил следующее: «Губернское правление, слушая циркулярное предписание господина министра внутренних дел от 11 февраля сего года за № 18, в коем изъяснено: при циркулярах Министерства внутренних дел от 18 июня и 30 сентября 1846 г. разосланы к начальникам губерний и областей штемпеля для клеймения каторжных и особый состав для натирания наложенных знаков клейм, а также наставление об употреблении оных[1]1
В XVII в. клейма налагались каленым железом, а со времени Петра I – особыми штемпелями, на которых были наложены стальные иглы, образовывавшие буквы, иглы эти вонзались в тело и производили ранки, которые до 1846 г. для неизгладимости затирались порохом, а с этого времени – особо изобретенным средством (смесь индиго и туши), клеймение отменено указом 17 апреля 1863 г. (Биншток. Материалы для ист. отмены телесных наказаний в России. – «Юридические вести; 1892 г., № 7).
[Закрыть].
Между тем в одной губернии на некоторых преступниках клейма оказались неявственными, что произошло, по отзыву местной врачебной управы, от небрежного намазывания краской мест клеймения; губернское правление признало виновными в невнимательном отношении за должным клеймением членов местного земского суда, уездного стряпчего и уездного врача, присутствовавших при наказании. Посему возник вопрос: следует ли возобновлять на каторжных неявственные клейма, подобно тому как разрешено их возобновлять на бродягах, подвергая ответственности виновных в упущениях по этому предмету. При рассмотрении означенного вопроса правительствующий Сенат, приняв на вид, что наложение клейм на каторжных не составляет меры предупреждения от побегов, но по силе 1-го приложения к 19-й ст. уложения изданного 15 августа 1845 г., относится к числу наказаний телесных, которым подвергаются не все сосланные в каторжную работу преступники, а лишь подлежащие телесному наказанию мужчины, не нашел основания к повторению этого наказания над теми преступниками, которые уже его понесли. С тем вместе правительствующий Сенат поручил Его Высокопревосходительству подтвердить кому следует о точном исполнении предписанных от Министерства внутренних дел правил о постановлении знаков клейм; под опасением в противном случае строгой ответственности по законам. Вследствие сего министр внутренних дел просит начальника здешней губернии строжайше подтвердить всем чиновникам, обязанным присутствовать при наказании преступников, о непременном наблюдении с их стороны за точным исполнением упомянутых правил о наложении на каторжных клейм, виновного же в упущениях подвергать строгой ответственности по законам. Приказали: о содержании настоящего предписания г. министра внутренних дел, дав знать всем здешней губернии градским и земским полицией и уездным стряпчим, строжайше подтвердить указами иметь наблюдение за явственным наложением на каторжных клейм при наказании их под опасением строгой ответственности по законам, а Рязанской врачебной управе предписано вменить всем подведомственным ей городовым и уездным врачам о правильном наложении на каторжных клейм».
И второй указ: «Губернское правление, слушая переданное в сие правление циркулярное предписание г-на министра внутренних дел, последовавшее на имя начальника губернии от 18-го минувшего октября за Ns 138, в коем изъяснено: по Высочайше утвержденному 10 мая 1839 г. положению Комитета министров, сообщенному к исполнению начальникам губерний в секретном циркуляре Министерства внутренних дел от 20 января 1840 г. за № 21, заготовлены были министерством образцы орудий для телесного наказания преступников, как-то: кнут, плеть, протяжные ремни и штемпеля, – и разосланы тогда же во все губернии и области, с тем чтобы употреблявшиеся там прежде орудия телесного наказания преступников были уничтожены, а заготовлены новые по упомянутым образцам. Заготовление сие, как тогда, так и впредь, на основании означенного высочайше утвержденного положения Комитета министров, предписано производить хозяйственным образом, по распоряжению губернского начальства и под непосредственным их наблюдением, насчет экстраординарных сумм. Из числа установленных орудий наказаний кнут в настоящее время уже отменен уголовным уложением и штемпеля, измененные в форме (вместо букв «В. О. Р.» буквы «К А. Т.», то есть «кат[оржник]»; эти буквы ставили таким образом, что «К» приходилось на лоб, «А» – на правой щеке, «Т» – на левой) на основании циркулярных предписаний Министерства внутренних дел, от 18 июня и 30 сентября 1846 г., изготовляются и рассылаются по распоряжению министерства к начальникам губерний вследствие их представлений, заготовление плетей и притяжных ремней осталось по-прежнему на обязанности губернских начальств. Между тем о заготовлении вновь плетей, вместо приходящих в негодность от употребления, некоторые начальники губерний входят с представлениями в Министерство внутренних дел. Находя такие представления несогласными с упомянутым высочайше утвержденным положением Комитета министров, он, министр внутренних дел, просит Его Превосходительство сделать распоряжение, чтобы на будущее время заготовление плетей для наказания преступников, по силе установленных на этот предмет правил, производимо было хозяйственным образом, по распоряжению губернского правления и под его непосредственным наблюдением, не обременяя министерство подобными требованиями. Приказали: о содержании настоящего предписания министра внутренних дел дать знать градским и земским полициям Рязанской губернии и передать копию в 9-й стол сего правления к сведению и руководству».
Былое, 1907, октябрь.
Кнут и шпицрутены (Бунт в военных поселениях, 1832 год)
Виновных в нашем округе оказалось около 300 человек. Квартиры убитых штаб-офицеров, обер-офицеров, докторов и других лиц обращены были в арестантские тюрьмы, в окна вставили железные решетки. В эти временные тюрьмы, в деревянных тяжелых колодках, были рассажены арестованные. Охраняли их казаки и солдаты резервов, потом прислан был еще батальон солдат, кажется, из Петербурга.
Обвиняемые, сколько помню про наш округ, просидели в тюрьмах до Великого поста 1832 года, в томительном ожидании окончательного решения своей участи. Наконец участь эта была решена: одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой кобыле, а других – к прогнанию шпицрутенами.
Я живо помню эти орудия казни. Кобыла – это доска длиннее человеческого роста, дюйма в 3 толщины и в пол-аршина ширины, на одном конце доски – вырезка для шеи, а по бокам – вырезки для рук, так что когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем, шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискось, под углом.
Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут, длиной аршина полтора, а на кончик кнута навязывался 6 или 8-вершковый, в карандаш толщиной, четырехгранный сыромятный ремень.
Что же касается до шпицрутенов, то я вполне ясно помню, что два экземпляра их, для образца, были присланы (как я позже слышал) Югейнмихелем в канцелярию округа из Петербурга. Эти образцовые шпицрутены были присланы, как потом мне рассказывали, при бумаге, за красной печатью, причем предписывалось изготовить по ним столько тысяч, сколько потребуется. Шпицрутен – это палка в диаметре несколько менее вершка, в длину – сажень; это гибкий, гладкий прут из лозы. Таких прутьев для предстоящей казни бунтовщиков нарублено было бесчисленное множество, многие десятки возов.
Наступило время казни. Сколько помню, это было на первой или на второй неделе Великого поста. Подстрекаемый детским любопытством (мне шел 9-й год), я бегал на плац, лежащий между штабом и церковью, каждый день во все время казней. Морозы стояли в те дни самые лютые.
На плацу, как теперь вижу, была врыта кобыла, близ нее прохаживались два палача, парни лет 25-ти, отлично сложенные, мускулистые, широкоплечие, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними толпились родственники осужденных.
Около 9-ти часов утра прибыли на место казни осужденные к кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101 удару кнутом, другие – к 70-ти или к 50-ти, а третьи – к 25-ти ударам кнута. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время, как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому, кнут тащился между ног палача по снегу; когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правою рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и т. д.
Наивно-детскими, любопытными глазами следил я за взмахами кнута и смотрел на спину казнимых: первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам, под левый бок, и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро, затем уже их рубили, как мясо. Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень, очень медленно.
При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал ни стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать.
Под кнутом, сколько помню, ни один не умер (помирали на второй или третий день после казни); между тем каждый получал определенное приговором суда число ударов.
Но ударами кнута казнь не оканчивалась. После кнута наказанного снимали с кобылы и сажали на барабан; на спину, которая походила на высоко вздутое рубленое мясо, накидывали какой-то тулуп. Палач брал коробочку, вынимал из нее рукоятку, на которой сделаны были буквы из стальных шпилек в 1/2 дюйма длины; шпильки эти изображали, помнится, букву «К» и еще какие-то буквы. Палач, держа рукоятку в левой руке, приставлял штемпель ко лбу несчастного, затем правой рукой со всего размаху ударял по другому концу рукоятки, шпильки вонзались в лоб, и таким образом получалось требуемое клеймо, таким же приемом быстро высекались буквы на обеих щеках. После отнятия клейма из ранок сочилась кровь, палач затирал кровавые буквы каким-то порошком, чуть ли не порохом, так что в каждой прорези оставался черный след. Таким образом, получался знак, который впоследствии, как я слышал, делается совершенно белым и не может уничтожиться очень долго, остается на всю жизнь.
Казнь кнутом продолжалась до сумерек, и во все это время били барабаны.
Наказание шпицрутенами происходило на другом: плацу, за оврагом. На эту казнь я бегал по нескольку раз в течение двух недель; холодно, устану – сбегаю домой, отогреюсь и опять прибегу. Музыка, видите ли, играла там целый день – барабан да флейта, – это и привлекало толпу ребятишек.
На этом плацу, за оврагом, два батальона солдат, всего тысячи в полторы, построены были в два параллельных друг другу круга, шеренгами лицом к лицу. Каждый из солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой – шпицрутен. Начальство находилось посередине и по списку выкликало, кому когда выходить и сколько пройти кругов, или, что то же, получить ударов. Вызывали человек по 15 осужденных, сначала тех, которым следовало каждому по 2000 ударов. Тотчас спускали у них рубашки до пояса, голову оставляли открытой. Затем каждого ставили один за другим, гуськом, таким образом: руки преступника привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, причем, очевидно, вперед бежать было невозможно, нельзя также и остановиться или попятиться назад, потому что спереди тянут за приклад два унтер-офицера. Когда осужденных устанавливали, то под звуки барабана и флейты они начинали двигаться друг за другом. Каждый солдат делал из шеренги правой ногой шаг вперед, наносил удар и опять становился на свое место. Наказываемый получал удары с обеих сторон, поэтому каждый раз голова его, судорожно откидываясь, поворачивалась в ту сторону, с которой следовал удар. Во время шествия кругом, по зеленой улице, слышны были только крики несчастных: «Братцы! Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте!»
Если кто при обходе кругом падал и даже не мог идти, то подъезжали сани, розвальни, которые везли солдаты, клали на них обессиленного, помертвевшего и везли вдоль шеренги; удары продолжали раздаваться до тех пор, пока несчастный ни охнуть, ни дохнуть не мог.
В таком случае подходил доктор и давал нюхать спирту. Мертвых выволакивали вон, за фронт.
Начальство зорко наблюдало за солдатами, чтобы из них кто-нибудь не сжалился и не ударил бы легче, чем следовало.
При этой казни, сколько помню, женщинам не позволялось присутствовать, а, по приказанию начальства, собраны были только мужчины, в числе которых находились отцы, братья и другие родственники наказываемых. Всем зрителям довелось пережить страшные, едва ли не более мучительные часы, чем казнимым. Но мало того. Были случаи, что между осужденными и солдатами, их наказывающими, существовали близкие родственные связи: брат бичевал брата, сын истязал отца… Наказанных развозили по домам обывателей на санях, конвоируемых несколькими казаками. Надобно заметить, что так как всех 300 человек, наказанных в одном только нашем округе, в лазарете поместить было нельзя, то для них отведены были некоторые избы поселян. Сюда уже беспрепятственно ходили все родные, приносили больным съестные припасы и водку для обмывания ран: водка предохраняла раны от гниения.
Ни одному из наказанных шпицрутенами не было назначено, как мне потом рассказывали, менее 1000 ударов; большей же частью – давали по 2, даже по 3 тысячи ударов; братьям Ларичам, как распространителям мятежа, дано по 4000 ударов каждому, оба на другой день после казни умерли. Перемерло, впрочем, много из казненных, этому способствовали: недостаток докторов, отсутствие медицинских средств, неимение хороших помещений, недостаток надлежащего ухода за больными и проч.
В народе во все время казней и всех их последствий не замечалось никакого озлобления, ни малейшего ропота против начальства, говорили только: «Господь наказывает нас за грехи».
Из воспоминаний Л. А. Серякова.
Русская Старина, 1875, сентябрь.
Одна из резолюций Николая I
Во время отсутствия графа Воронцова из Одессы в 1827 году новороссийскими губерниями управлял тайный советник граф Пален. Во всеподданнейшем рапорте от Но октября 1827 года граф донес о тайном переходе двоих евреев через р. Прут и присовокуплял, что одно только определение смертной казни за карантинные преступления способно положить предел оным. Император Николай на этом рапорте написал нижеследующую собственноручную резолюцию:
«Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить».
Русская Старина, 1883, декабрь.
Глава V
Крепостное право
Речь Николая I в заседании Государственного совета 30 марта 1842 года
Наступило достопамятное 30 марта. Членам не было разослано никаких особых повесток, и при всем том, вследствие, конечно, разнесшегося слуха, даже самые неточные собрались заблаговременно. В 20 минут 12-го император Николай, в сопровождении одного только государя наследника и без всякой встречи, быстро вошел в залу собрания, окинув всех присутствовавших взглядом и улыбкой приветствия, пожал руку князю Васильчикову и занял место председателя не Совета, а Департамента законов, графа Блудова, который отодвинулся несколько левее, так что государю пришлось сидеть между ним и докладчиком, наискось от Васильчикова, оставшегося на обыкновенном своем месте. Собрание состояло из 34 членов[2]2
Не присутствовали из наличных только: граф Мордвинов, граф Толь и Оленин, в это время уже совершенно расслабленные; Перовский и князь Меншиков по болезни; наконец, граф Эссен, которому, по званию петербургского военного генерал-губернатора, назначено было явиться в этот день во дворец с вновь выбранными от дворянства в должности, но который, прождав там государя до 4 часов, был принят уже на другой день.
[Закрыть].
Не было только еще князя Волконского и графа Киселева, которые вошли несколькими минутами позже, и великого князя Михаила Павловича, за которым немедленно послали нарочного. Государь был в конногвардейском мундире, а члены, будучи не оповещены об офицерской форме, были в обыкновенной советской форме, без лент. Когда все сели, государь, сидя, произнес следующую речь[3]3
Не полагаясь на одну свою память, я посадил в зале собрания двух чиновников, чтобы записывать, сколько каждый успеет, все, что будет говорить государь. Потом я привел их набросанные наскоро записки в порядок и дополнил тем из сказанного, что ускользнуло от их внимания. Таким образом, написанное здесь представляет не только собственные мысли государя, но везде и собственные его выражения, сколько сие доступно было без помощи стенографии. (Из современных записок статс-секретаря барона Корфа).
[Закрыть]:
«Прежде слушания дела, для которого мы собрались, я считаю нужным познакомить Совет с моим образом мыслей по этому предмету и с теми побуждениями, которыми я в нем руководствовался. Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным. Покойный император Александр в начале своего царствования имел намерение дать крепостным людям свободу, но потом сам отклонился от своей мысли, как совершенно еще преждевременной и невозможной в исполнении. Я так же никогда на это не решусь, считая, что если время, когда можно будет приступить к такой мере, вообще очень еще далеко, то в настоящую эпоху всякий помысел о том был бы не что иное, как преступное посягательство на общественное спокойствие и на благо государства. Пугачевский бунт доказал, до чего может доходить буйство черни. Позднейшие события и попытки в таком роде до сих пор всегда были счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно также предметом особенной и, с помощью Божией, успешной заботливости правительства. Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться всегда. Причины этой перемены мыслей и чаще повторяющихся в последнее время беспокойств я не могу не отнести больше всего к двум причинам: во-первых, к собственной неосторожности помещиков, которые дают своим крепостным несвойственное состоянию последних высшее воспитание, а через то, развивая в них новый круг понятий, делают их положение еще более тягостным; во-вторых, к тому, что некоторые помещики – хотя, благодаря Богу, самое меньшее их число, – забывая благородный долг, употребляют свою власть во зло, а дворянские предводители, как многие из них сами мне отзывались, к пресечению таких злоупотреблений не находят средств в законе, ничем почти не ограничивающем помещичьей власти. Но если нынешнее положение таково, что оно не может продолжаться, и если вместе с тем и решительные к прекращению его способы также невозможны без общего потрясения, то необходимо, по крайней мере, приготовить пути для постепенного перехода к другому порядку вещей и, не устрашаясь перед всякой переменой, хладнокровно обсудить ее пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с ним связать ненарушимое Охранение вотчинной собственности на землю. Я считаю это священною моею обязанностью и обязанностью тех, кто будет после меня, а средства, по моему мнению, вполне представляются в предложенном теперь Совету проекте указа. Он, во первых, не есть закон новый, а только последствие и, так сказать, развитие существующего сорок лет закона о свободных хлебопашцах; во вторых, устраняет, однако же, вредное начало этого закона – отчуждение от помещиков поземельной собственности, которую, напротив, столько по всему желательно видеть навсегда неприкосновенной в руках дворянства, – мысль, от которой я никогда не отступлю; в третьих, выражает прямо волю и убеждение правительства, что земля есть собственность не крестьян, которые на ней поселены, а помещиков, – предмет такой же первостепенной важности для будущего спокойствия; наконец, в четвертых, без всяких крупных переворотов, без всякого даже вида нововведения дает каждому благонамеренному владельцу способы улучшать положение его крестьян и, отнюдь не налагая ни на кого обязанности принуждения, или стесняющей в чем-нибудь право собственности, предоставляет все доброй воле каждого и влечению собственного его сердца. С другой стороны, проект оставляет крестьян крепкими той земле, на которой они записаны, и через это избегает неудобства положений, действовавших доныне в остзейских губерниях, – положений, которые довели крестьян до самого жалкого состояния, обратили их в батраков и побудили тамошнее дворянство просить именно о том же, что теперь здесь предлагается. Между тем, я повторяю, что все должно идти постепенно и не может и не должно быть сделано разом или вдруг. Проект содержит в себе одни главные начала и первые указания. Он открывает всякому, как я уже сказал, способ следовать, под защитой и при пособии закона, сердечному своему влечению. В ограждении интереса помещиков ставится добрая их воля и собственная заботливость, а интерес крестьян будет огражден через рассмотрение каждый раз условий не только местными властями, но и высшим правительством, с утверждения власти самодержавной. Идти теперь далее и вперед обнять все прочие, может статься, очень обширные и добрые развития этих главных начал – невозможно. Когда помещики, которые пожелают воспользоваться действием указа, представят проекты условий, основанные на местностях и на различных родах сельского хозяйства, тогда соображение этих условий тем же порядком, как теперь договоров со свободными хлебопашцами, укажет, по практическим их данным, что нужно и можно будет сделать в подробностях и чего в настоящее время, о подобной теории, со всей осторожностью и прозорливостью, никак вперед предусмотреть нельзя. Но отлагать начинание, которого польза очевидна, и отлагать потому только, что некоторые вопросы с намерением оставляются неразрешенными и на первый раз предвидятся некоторые недоумения, – я не нахожу никакой причины. Невозможно ожидать, чтобы дело принялось вдруг и повсеместно. Это даже не соответствовало бы и нашим видам. Между тем при постепенном и, вероятно, довольно медленном развитии его на разных пунктах империи опыт всего лучше и надежнее придет здесь на помощь. Этим опытом, без сомнения, развяжутся и такие вопросы, которые теперь, без его пособия, кажутся затруднительными. Закон должен вмещать в себя одни главные начала; частности разрешатся по мере частных случаев, и впоследствии совокупный свод таких случаев составит основу целого положительного уже законодательства. Настоящим делом очень долго и подробно занимался особый комитет, которому оно было от меня поручено, но, не скрывая перед собой всех его трудностей, я не решился подписать указ без нового пересмотра в Государственном совете. Я люблю всегда правду, господа, и, полагаясь на вашу опытность и верноподданническое усердие, приглашаю вас теперь изъяснить ваши мысли со всей откровенностью, не стесняясь личных моих убеждений. Одно только не могу не поставить с прискорбием в вину Совета – именно той публичной, естественно преувеличенной народной молвы, которой источники отношу к неуместным разглашениям со стороны лиц, облеченных моим доверием и обязанных, самым долгом их присяги, хранить государственную тайну. Я принужден по этому случаю подтвердить передать всем собранием Совета, чтобы впредь присяжный долг исполняем был ненарушимо как членами, так и канцелярией, и предваряю, что если бы, сверх ожидания, опять дошло до моего сведения о подобных разглашениях, то я велю тотчас судить виновных по строгости законов, как за государственное преступление».
Вот очерк того, что сказал государь, но очерк слабый и безжизненный, потому что бумага – не живая речь! Как перед пером выражавшееся в каждом слове, в каждом движении сознание внутреннего, высокого достоинства; это царственное величие, этот плавно текший поток речи, в котором каждое слово представляло мысль; этот звонкий, могучий орган, великолепную наружность, совершенное спокойствие осанки, которые так очаровали многочисленное собрание! Государь давно уже кончил, а все кругом него еще безмолвствовали в благоговейном удивлении. И именно в это заседание, о котором так хотелось прокричать по целой России, он наложил на нас обет и печать молчания!..
За этой речью я прочел Совету департаментский журнал и самый проект указа, что заняло около трех четвертей часа, после чего государь повторил членам приглашение высказать свободно и откровенно их мысли.
«Сборник Имп. Рус. истор. общ.», т. 98, стр. 114–117.








