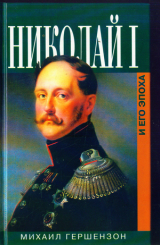
Текст книги "Николай I и его эпоха"
Автор книги: Михаил Гершензон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Третье министерство – Государственных имуществ, учрежденное Николаем Павловичем в 1839 году, принял под свое руководство граф П. Д. Киселев, управлявший после войны с турками в 1828–1829 годах княжествами Валахией и Молдавией (нынешняя Румыния). В начале сороковых годов он только устраивал свое министерство.
Необычайными милостями Николая Павловича пользовался военный министр А. И. Чернышев, далеко не блестяще ведший хозяйство армии, что и обнаружилось в Крымскую кампанию неудовлетворительным вооружением пехоты и недостатком самых необходимых военных запасов, а между тем он за время управления министерством получил титул князя, потом светлейшего князя, а при увольнении от должности – казенный дом, в котором жил, в собственность. В сделанных упущениях государь, быть может, брал вину на себя, так как всем, что касалось до военного ведомства, управлял сам, предоставляя Чернышеву лишь исполнительную часть, но все же обращать внимание государя на недостатки армии было его дело. Особенным благоволением Николая Павловича пользовался министр финансов граф Канкрин, считавшийся на своем посту чуть-чуть что не гением. Как-то странно называть гениальным министра финансов, в конце своей карьеры отвергавшего пользу и тормозившего постройку железных дорог в России на том основании, что шестимесячная санная дорога вполне достаточна для развития внутренней торговли и промышленности, летом же существуют для этого моря и реки. Положим, что говорил он так уже одряхлевший и до крайности утомленный своею предыдущей деятельностью, когда постройка железных дорог, требовавшая громадных заграничных займов, могла поколебать блестящее, созданное им финансовое положение России. Этого он не хотел и отстранился, сохраняя за собой славу выдающегося министра финансов. Никто не отнимает у него этой славы; но еще вопрос, он ли один создал блестящее положение финансов в царствование императора Николая Павловича, или ему помогли особенные экономические условия России и Европы того времени. Сорокалетний мир Европы значительно увеличил ее народонаселение, а быстрое развитие промышленности на Западе сократило там земледелие. Тогда ни Северная, ни Южная Америка, ни Индия, ни Египет, ни еще менее едва начинавшая заселяться Австралия не доставляли своих продуктов земледелия в Европу, а помещичья Россия могла отправлять их сколько угодно. Можно ли удивляться после этого, что жители России не знали, куда девать и почем принимать иностранную звонкую монету, что за ассигнации платили лаж от 10 до 15 % и что русский рубль ценился постоянно выше al pari на иностранных биржах? Такое состояние финансов продолжалось до начала Крымской войны, то есть еще 10 лет по уходе Канкрина, при министрах вовсе не считавшихся особенно талантливыми; следовательно, и таланты Канкрина не играли в этом успехе особенной роли. Как бы то ни было, Николай Павлович не только ценил Канкрина, но даже в одном отношении, вопреки своим правилам, снисходил к нему: государь, сам строго соблюдая установленную форму одежды, требовал того же от других, а между тем старик Канкрин был всегдашним нарушителем ее.
Отправляясь на прогулку, в большинстве случаев по Зеркальной линии Гостиного Двора (вероятно, во избежание встречи с государем или другими нежелательными лицами), он таким образом облачался в свой военный генеральский костюм: на ногах теплые полуботфорты с кисточками и вложенными в голенища панталонами (в царствование Николая Павловича полуботфорты не употреблялись, это форма времен Александра Павловича), теплая шинель в рукава с поднятым воротником, обвязанным шерстяным шарфом, на голове единственная форменная вещь – треуголка с султаном из белых перьев, а на глазах зеленый шелковый зонтик. Государю с хохотом докладывали о таком военном костюме графа Канкрина. Николай Павлович выговаривал ему, но убедить старика в необходимости соблюдать установленную форму было невозможно. «Ваше Величество не желаете, конечно, чтобы я простудился и слег в постель, кто же тогда будет работать за меня?» – был ответ его. В конце концов государь махнул на него рукой. Он мог, понятно, переименовать его в гражданский чин, но предпочел иметь министром хотя и карикатурного, но военного генерала.
В 1843 году граф Канкрин почти потерял зрение и до того ослаб здоровьем, что принужден был просить об увольнении от службы. На свое место он рекомендовал тайного советника Вронченко. Государь согласился, так как у него не было в виду другого лица, способного занять трудную и ответственную должность министра финансов. Вронченко был всегда деятельным и исполнительным чиновником, те же качества проявил он и в новом звании, продолжая дело и способ управления министерством своего учителя и благодетеля графа Канкрина и не выказывая со своей стороны никаких особенных талантов. Он не был красив ни лицом, ни фигурой, но донельзя циничен. О его неумении держать себя в обществе, несоблюдении обычных приличий даже со старшими из своих подчиненных и о ночных похождениях на Невском проспекте говорили тогда в каждом петербургском доме; но, как природный малоросс, он был очень хитер и скоро успел войти в доверие и добиться расположения к себе Николая Павловича. Вот один из случаев, происшедших на приеме государем министров с докладами. Доклады производились министрами по старшинству. Вронченко был самым младшим между собравшимися в приемной перед кабинетом государя и знал, что ему придется докладывать после всех, но тем не менее он, как всегда, явился заблаговременно, что и дало повод находившимся тут генералам, и в особенности князю Меншикову, подтрунивать над ним, что он явился с докладом прямо с ночной прогулки. Все, конечно, засмеялись. В это время государь, отпустив докладывавшего князя Волконского, показался в дверях кабинета с вопросом: что за шум?.. При этом вопросе Вронченко со страху или показывая только вид, что испугался, уронил из рук портфель, содержимое которого, состоявшее из докладных бумаг, разлетелось по полу. Общий хохот собравшихся раздался вновь. Николай Павлович обвел смеявшихся своими большими навыкате глазами и громко произнес: «Тут нет ничего смешного!..» Вронченко тем временем собрал при помощи камер-лакея свои бумаги, и когда опустил их снова в портфель, государь, показывая на свой кабинет, сказал ему: «Пожалуйте, я приму вас». Вот как Николай Павлович, не скрываясь ни перед кем, любил отличать тех, кто его боялся. В первый из наградных дней за тем Вронченко получил звезду и ленту Александра Невского, а вскоре после того – графское достоинство.
Государственный канцлер граф Нессельроде – единственный из министров, остававшихся на посту в течение всего царствования императора Николая I, начавший править Министерством иностранных дел при Александре I и кончивший свою карьеру при Александре II. Это одно доказывает, что он был на высоте своего призвания, но тем не менее он далеко не пользовался такими милостями Николая Павловича, как Чернышев и Волконский: с 1828 года вице-канцлер, он едва добился канцлерства уже стариком.
Еще меньшими успехами по службе могли похвалиться два других гражданских министра, графы Уваров и Панин. Менее всего Николай Павлович занимался их делами, но зато урезывал бюджеты их министерств до минимума и ничем не отличал самих министров.
Управлявший Морским министерством светлейший князь Меншиков славился своими находчивостью и остроумием и был не только любим Николаем Павловичем, но пользовался даже расположением всего его семейства, в кругу которого был частым и желанным гостем. Тем не менее это был один из самых неудачнейших деятелей в числе приближенных к государю лиц. Самое назначение его, кавалерийского генерала, на пост морского министра не обещало удачи, но судьба послала ему замечательного помощника на Черном море в лице адмирала Лазарева, создавшего прославившийся впоследствии под Синопом и на Севастопольских бастионах Черноморский флот, а на Балтийском море распоряжался всем сам государь. Лишенный Александром I генерал-адъютантства, он получил его вновь по воцарении Николая Павловича. Неудачно действовал он с сухого пути в 1828 году под Анапой, павшей только при содействии адмирала Грейга с моря еще неудачнее кончилось его посольство, перед Крымской войной, в Константинополь, где выкинутый им фарс входа в диван (турецкий совет министров) в шляпе возмутил всех; но самым неудачным было его командование крымской армией, ознаменовавшееся допущением высадки неприятеля в Евпатории, проигранными сражениями при Альме, на Бельбеке и под Инкерманом и прямо трусливым бездействием во время зимы, когда англичане и французы, непривычные к климату, мерзли в своих палатках.
Главный управляющий путями сообщения и публичных зданий граф Толь был образованный и очень даровитый офицер генерального штаба, что и доказал своим планом взятия Варшавы – планом, которым воспользовался вновь прибывший главнокомандующий армией граф Паскевич. Начальнику штаба армии графу Толю ничего не оставалось более, как распрощаться с последней и принять предложенный пост главного управляющего путями сообщения. Хотя и не получивший специального инженерного образования, граф Толь был вполне на своем месте. Железных дорог тогда не существовало еще в России, кроме небольшой частной от Петербурга до Павловска, за постройку же шоссейных и особенно водяных сообщений, по примеру своего предшественника герцога Александра Виртембергского, он принялся в начале своего управления с большим усердием. К сожалению, Николай Павлович почему-то не благоволил к нему: его бюджет подвергался часто большим урезкам, и это охладило рвение его. В последние годы своего управления он даже редко показывался при дворе и, ссылаясь на свое болезненное состояние, пересылал доклад государю через Первое отделение собственной Его Величества канцелярии.
Совсем в ином роде был сменивший графа Толя граф П. А. Клейнмихель. Точно так же, как и первый, не инженер, он отдался поверхностному наблюдению за постройкой только что утвержденной Санкт-Петербургской – Московской железной дороги, не обращая почти никакого внимания на прочие сухопутные и водяные сообщения. Шоссейные дороги строились лишь небольшими участками в западном крае, преимущественно со стратегической целью, а водяные сообщения были совсем запущены. Между тем граф Клейнмихель пользовался исключительным доверием к себе Николая Павловича, имел в своем распоряжении громадные суммы и при своем бескорыстии (как теперь установлено) мог бы покрыть Россию столь необходимыми ей искусственными путями сообщений. Будь он не строгим и исполнительным только военным генералом, а настоящим министром-инженером, то на те суммы, которых стоила Николаевская железная дорога, было бы возможно довести ее не до Москвы, а до Черного и Азовского морей. Но этого сделано не было; коалиция европейских держав этим воспользовалась, напав на Крымский полуостров, и первым по окончании войны пострадал граф Клейнмихель: он был уволен с должности министра путей сообщения за дурное состояние дорог в южной части России.
Главный начальник над почтовым департаментом граф В. Ф. Адлерберг был тоже любимцем Николая Павловича. Самое название должности показывает, что в департаменте, то есть в управлении почтовом, был еще другой ближайший начальник (в сороковых годах – Прокопович-Антонский); следовательно, роль графа Адлерберга была лишь наблюдательная, да и не могла быть иной, так как он, постоянно вращаясь в придворном кругу, менее всего мог быть специалистом по почтовой части. Во время его управления почтовое ведомство приносило большие убытки казне; дефицит доходил почти до 10 млн. рублей. Дефицит стал уменьшаться с понижением почтовой таксы за письма и посылки и с постепенным проведением железных дорог, повлекшим за собой уничтожение почтовых станций, а с ними и крупные приплаты за содержание почтовых лошадей. Но это не относится к царствованию императора Николая I; он мог только досадовать, что почтовый дефицит не уменьшался. После смерти князя Волконского граф Адлерберг был сделан министром Императорского двора с сохранением и прежней должности по почтовому ведомству. Это была большая милость, представлявшая графу Адлербергу содержание двух министров, но о наградах, вроде выпавших на долю князя Волконского, не было и речи.
Из списка министров начала сороковых годов видно, что все носили по меньшей мере графский титул; у кого его не было, тот его скоро получал просто как очередную награду между двумя звездами; по крайней мере таким образом получили графство Вронченко, Перовский, Клейнмихель (во время бытности еще дежурным генералом главного штаба) и много других лиц, преимущественно из числа военных, командовавших отельными воинскими частями (Ридигер, Никитин и др.). Но если император Николай Павлович давал относительно легко графское достоинство известным и приближенным к нему лицам, то титулом князя, и особенно светлейшего, он, очевидно, награждал или желал награждать только за особенные государственные заслуги, и на этом основании такой награды не удостаивались даже заведомые его любимцы. Достойны ли были особенно высоких наград князья Волконский, Чернышев и даже Паскевич (получивший за персидскую кампанию и взятие по чужому плану Варшавы почти все то, что имел бессмертный Суворов за свою сотню одержанных побед и беспримерный переход через Альпы), судить не нам. На это была воля самодержавного монарха, строго наказывавшего провинившихся перед ним, но и щедро награждавшего признанных им достойными награды.
С годами Николай Павлович стал еще усиленнее заниматься государственными делами почти единолично и требовал от своих министров не самостоятельных действий, а лишь исполнения его предначертаний и приказаний. При таких условиях не могло быть выдающихся по своей инициативе министров.
«Из записок и воспоминаний современника».
Русский архив, 1902, март.
Глава III
Администрация
Петербургская администрация
Высшее управление петербургской столицы при императоре Николае находилось весьма долгое время в руках такого человека, которого менее всего можно было признать к тому способным. Я говорю о военном генерал-губернаторе графе Петре Кирилловиче Эссене.
…Этот человек, без знания, без энергии, почти без смысла, упрямый лишь по внушениям, состоял неограниченно в руках своего, привезенного им с собой из Оренбурга, правителя канцелярии Оводова, человека не без ума и не без образования, но холодного мошенника, у которого все было на откупу и которого дурная слава гремела по целому Петербургу. Эссен лично ничего не делал, не от недостатка усердия, а за совершенным неумением, даже не читал никаких бумаг, а если и читал, то ничего в них не понимал; Оводов же, избалованный долговременной безответственностью, давал движение только тому, что входило в его интересы и расчеты. Приносить просьбы или жалобы военному генерал-губернатору по таким делам, по которым его правитель канцелярии не был особо заинтересован, ни к чему не вело, и в таком случае можно было ходить и переписываться целые годы совершенно понапрасну. Зато едва ли и встречался где-нибудь в высшем нашем управлении человек с такой отрицательной популярностью, какую приобрел Эссен, сделавшийся постепенно метой общего презрения и явных насмешек, выражавшихся иногда – разумеется, иносказательно – даже и в печати. Все это, однако, относясь более к распорядку внутреннему или, так сказать, бумажному, оставалось, по-видимому, сокрытым от государя, который, в отношении к внешнему порядку столицы, входил сам во все и, при острой внимательности своей, представлял своим лицом истинного высшего начальника петербургской столицы.
…Внутренние действия петербургской полиции, известные дотоле лишь их жертвам, начали подвергаться более строгому контролю и обследованию только со времени вступления в управление Министерством внутренних дел Перовского. Обревизовав лично управу благочиния, новый министр удостоверился в невероятных в ней беспорядках и злоупотреблениях и написал очень строгую по этому поводу бумагу обер-полицмейстеру Кокошкину. Потом он обратился к самому Эссену и, ссылаясь на дурную репутацию Оводова, изъяснил, сколько необходимо было бы, для отвращения дальнейших нареканий, удалить последнего от должности. Наконец, по докладу Перовского об оставлении без ответа со стороны военного генерал-губернатора семнадцати, по одному и тому же делу, отношений министерства государь в июне 1842 года приказал сделать Эссену строгий выговор, а Оводова посадить на гауптвахту на три дня, из числа которых он просидел, впрочем, только один, ибо на следующий день праздновалось рождение императрицы (1 июля), что послужило поводом его выпустить. Дело стало проясняться. Вскоре на образ управления столицы должен был пролиться, по крайней мере в отношении одной его части, судебной, новый еще, всех ужаснувший свет.
По замеченному в обоих департаментах Санкт-Петербургского надворного суда чрезвычайному, от собственной их вины, накоплению дел в 1837 году признано было за нужное определить в сии департаменты новой комплект членов и секретарей, а из прежних учредить два временных департамента, 3-й и 4-й, на таком основании, чтобы они окончили все старые дела в течение двух лет, если же сего не исполнять, то продолжали бы свои занятия до совершенного окончания тех дел без жалованья.
Двухлетний срок истек в апреле 1839 года, и хотя, по оставлении затем членов и секретарей 3-го и 4-го департаментов при прежних их должностях без окладов, надлежало ожидать, что дела будут скорее окончены, однако вышло совершенно противное. В 1840 и 1841 годах оба департамента были обревизованы вновь назначенным в Петербург гражданским губернатором Шереметьевым и одним из высших чиновников Министерства юстиции, и ревизия их, внесенная графом Паниным в конце 1842 года в Государственный совет, представила такую картину, которую достаточно будет изобразить здесь в одних следующих, главнейших и наиболее разительных чертах ее.
В 3-м департаменте оказалось нерешенных дел 375, а неисполненных решений и указов – более 1500. Из числа трех присутствовавших судья, по старости лет и слабому здоровью, занимался чрезвычайно мало, один заседатель умер, а другой постоянно рапортовался больным и почти никогда не бывал в суде. Из числа двух секретарей один также умер, а другой, видя себя обреченным служить неизвестное время без жалованья и не находя никаких средств к пропитанию большой семьи, упал духом и при том решительно не мог ничего делать – как от бездействия и недостатка членов, так и от неповиновения канцелярии, которой безнравственность, по выражению ревизоров, превзошла всякое вероятие.
В 4-м департаменте нерешенных дел оставалось до 600, а счета неисполненным решениям и указам никто не знал: проверить же их число не было возможности, потому что все реестры, книги и прочее находились в совершенном расстройстве. Секретарей не было совсем, и должность их правили повытчики; нравственность канцелярии была едва ли лучше, чем в 3-м департаменте, члены хотя и находились налицо, но ревизоры замечали, что они «нимало не стесняются обязанностей служить без жалованья и готовы оставаться в сем положении еще на весьма долгое время». В обоих департаментах несколько двигались те дела, по которым просители имели ежедневное и настоятельное хождение, прочие же лежали без всякого производства и разбора вокруг канцелярских столов. В делах конкурсных публикации делались вместо того же самого дня, когда признана была несостоятельность, через несколько после того лет, а между тем департаменты распоряжались имуществом должника по своему производству и с таким же произволом делили деньги между кредиторами, так что некоторые успели исходатайствовать себе полное удовлетворение, тогда как другие, при тех же самых правах, не получали ничего. Денежная отчетность была в таком порядке, что о находившейся в суде частной сумме до 650 000 рублей потерян был всякий след, кому именно она принадлежала, и вследствие того, что ее хранили под названием суммы «неизвестных лиц»! Наконец, за все эти действия члены 3-го департамента были преданы суду три, а члены 4-го – двадцать четыре раза!
Картина эта, здесь только очерченная, была тем ужаснее, что место действия происходило в столице, в центре управления, почти окно в окно с царским кабинетом, и еще в энергическое правление Николая; и после взгляда на нее, конечно, уже трудно было согласиться с теми, которые находили явившиеся незадолго перед тем «Мертвые души» Гоголя одной лишь преувеличенной карикатурой. Сколько долговременный опыт ни закалил престарелых членов Государственного совета против всевозможных административных ужасов, однако и они при докладе этого печального дела, были сильно взволнованы и, так сказать, вне себя. Что же должна была ощущать тут юная, менее еще ознакомленная с человеческими мерзостями душа цесаревича-наследника! Слушая наш доклад с напряженным вниманием, он беспрестанно менялся в лице… Общее негодование увеличивалось еще тем, что виновные, за все грехи их до 16 апреля 1841 года, покрывались щитом милостивого манифеста и кара закона могла коснуться их только за позднейшие их действия.
Граф Панин, доводя о всем вышеизложенном до сведения Совета, предлагал: 1) 3-й и 4-й департаменты соединить в одно присутствие, наименовав его временным надворным судом (он мотивировал это тем, что в одно присутствие легче приискать людей, чем в два); 2) членов их и секретарей уволить от службы, с преданием, за все их действия после манифеста, суду; 3) увеличить штат, а назначение новых членов и секретарей предоставить губернатору; 4) канцелярию составить из прежних чиновников (чтобы не вверить дела лицам новым, вовсе с ними не знакомым), уполномочив губернатора увольнять от службы тех из них, которых новые члены найдут неспособными или неблагонадежными; 5) временному суду о ходе своих занятий доставлять месячные ведомости в министерство и в губернское правление; 6) для окончания всех дел назначить ему трехгодичный срок, и если поручение сие окончено будет с успехом, то поместить чиновников в свое время к другим соответственным должностям и представить об их награде.
Департамент законов принял эти меры безусловно, а общее собрание Государственного совета прибавило к ним только: чтобы министр юстиции, во-первых, удостоверясь, были ли со стороны губернского правления и губернского прокурора употребляемы должные настояния к прекращению описанных беспорядков и, в случае безуспешности таких настояний, ограждали ли они себя от ответственности надлежащими донесениями по начальству, довел об открывшемся до сведения Совета и, во-вторых, сообразил, не нужно ли принять особенных мер для ближайшего надзора за действиями нового суда, определением ли к губернскому прокурору особого товарища или иначе. Во все время происходивших об этом суждений наш простодушный военный генерал-губернатор, по обыкновению своему, совершенно безмолвствовал, но это никого не удивило. Что мог сказать старик, всякий день и отовсюду обманываемый, менее знавший о своем управлении, чем многие посторонние, никогда не помышлявший о мерах исправления и, может быть, тут лишь впервые услышавший об этих ужасах? Уже только после заседания, когда большая часть членов разъехалась, он заметил мне наедине, «что мог бы сказать многое, да не хотел напрасно тратить слов, что и во всех других здешних судах такие же беспорядки, что главная причина – недостаток чиновников, которые не являются даже по вызовам через газеты, и что в управе благочиния, может статься, еще хуже».
Между тем журнал был написан мною со всем жаром того справедливого негодования, которое выразилось между членами, и я с горестным любопытством ожидал, когда и как сойдет мемория от государя, скорбя вперед о впечатлении, которое она произведет на его сердце. Действительно, посвятить всю жизнь, все помыслы, всю энергию мощной души на благо державы и на искоренение злоупотреблений, неуклонно стремиться к тому в продолжение 17-ти лет, утешаться мыслью, что достигнут хотя бы какой-нибудь успех, и вдруг – вместо плода всех этих попечений, усилий, целой жизни жертв и забот – увидеть себя перед такой зияющей бездной всевозможных мерзостей – бездной, открывающейся не сегодня, не вчера, а образовавшейся постепенно, через многие годы, неведомо ему, перед самым его дворцом, – тут было от чего упасть рукам, лишиться всякой бодрости, всякого рвения, даже впасть в человеконенавидение… Эго глубокое сокрушение и выразилось, хотя кратко, но со всем негодованием обманутых чаяний, в собственноручной резолюции, с которой возвратилась наша мемория.
«Неслыханный срам! – написал государь. – Беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не извинительна, мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под глазами моими и мне оставаться неизвестным».
Сверх того, в проекте указа, где говорилось (пункт 3-й), чтобы прежних членов и секретарей «уволить» от службы, государь заменил это слово: «отставить». За всем тем, при характере государя, мне казалось, что эта резолюция – как-то без конца, то есть без полного результата или развязки, и что за нею должно последовать еще что-нибудь другое, независимо от окончания дела по Совету. Так действительно и было. Государь, получив советскую меморию 2 декабря и прочитав ее вечером, в ту же минуту послал за военным министром князем Чернышевым и велел ему внести в приказ об увольнении графа Эссена от должности. Все это сделано было еще в тот же вечер, 2-го числа, так что когда мемория дошла до меня на следующий день, Эссен был уже всемилостивейше уволен от должности военного генерал-губернатора, с оставлением только членом Государственного совета; причем не употребили даже обыкновенных смягчительных выражений: «по просьбе», или «по болезни». Гнев государя был очень понятен, как равно и то, что он обрушился собственно на Эссена. Шереметьев состоял губернатором всего только еще второй год, и по его именно ревизии и были открыты все эти ужасы, главные виновники, члены и секретари, без того уже отставлялись и предавались суду, а степень ответственности губернского прокурора могла определиться только через предназначавшееся Государственным советом исследование. Государь говорил многим, что винит не Эссена, а себя за то, что он так долго мог его терпеть и оставлять на таком важном посту. Бывший военный генерал-губернатор после увольнения своего являлся во дворец два раза, но был допущен только во второй.
– Я ничего не имею против тебя лично, – сказал государь, – но ты был ужасно окружен.
Между тем 6-го числа, в день своего тезоименитства, государь, добрый и в самой строгости и всегда признательный к долговременной, не омраченной никакими произвольными винами службе – глупость и бездарность не от нас зависят, – утешил бедного старика пожалованием ему, при милостивом рескрипте, своего шифра на эполеты и оставлением при нем всего прежнего содержания, то есть по 6000 рублей в год.
Рассказывая мне сам обо всем этом 6-го числа во дворце, Эссен заключил так:
– Признаюсь, что милость царская искренно меня порадовала, сняв тот срам, которым я был покрыт перед публикой. И скажите, ради Бога, зачем все это обрушилось на меня одного, когда есть и губернское правление, и губернский прокурор, и министр юстиции? При моей аудиенции я объяснил мою невинность и вместе трудность, в которой находился, действовать без чиновников, которых, как я вам сказывал, нельзя было дозваться даже через газеты. Вероятно, государь нашел мои доводы достаточными, потому что восстановил теперь опять мою честь. Но представьте, какие есть злые люди в свете: государю донесли, что когда это дело слушалось в Совете, то я ничего не говорил. «Видно, – сказал он мне, – ты ничего не нашел к своему оправданию, потому что смолчал в Совете». А ведь вы сами вспомните, что я говорил с вами после заседания, Совету же что же мне было еще объяснять, когда я сам обо всем представил министру юстиции и он лично тут находился? Впрочем, слава Богу, что моя должность перешла к доброму и честному человеку (генерал-адъютанту Кавелину), настоящему христианину, а мне уже и так жить недолго.
Невозможно передать на бумаге того простодушного тона, с которым все это было сказано, но разговор был бесподобен своей наивностью.
– Теперь, – прибавил Эссен, – на свободе я могу прилежнее читать ваши советские записки, к чему до сих пор у меня недоставало времени.
Я советовал ему не приезжать на следующий день в Совет, где должна была объявляться резолюция государева. Он, однако ж, не согласился::
– Как же мне это сделать? Ведь можно бы только под предлогом болезни, если же сказаться больным, то нельзя приехать и на дворцовый бал вечером, – (он был назначен, вместо 6-го числа, 7-го), – а тут, пожалуй, подумают, что я обижаюсь.
На балу 7 декабря, куда Эссен не преминул явиться, и императрица, и супруга наследника-цесаревича, и все великие княжны ходили с ним польское, а государь, в виду всех, почтил его продолжительной и милостивой беседой.
Этим окончилась судьба графа Эссена, вскоре после того (в 1844 г.) умершего; и как бы для сохранения послужному его списку, до самого конца, вида фантасмагорического призрака, столь противоположного действительности, надо же было, чтобы он заключился милостивым рескриптом и важной наградой (шифр на эполеты) в ту самую минуту, когда героя его удаляли от места по признанию неспособным.
Из записок барона М. А. Корфа.
Русская старина, 1899, октябрь.








