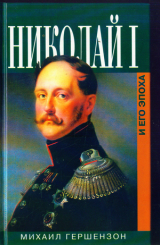
Текст книги "Николай I и его эпоха"
Автор книги: Михаил Гершензон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Донесения агента III отделения из Москвы (1848 г.)
1
Секретно
26 марта 1848 г., № 8. Москва
Его превосходительству Леонтию Васильевичу Дубельту
Впечатление, произведенное Манифестом, возвестившим о смутах на западе Европы, были слезы восторженных русских чувств. Я приехал в Дворянский клуб в ту минуту, когда шел вопрос, каждого тут бывшего, к приезжающему знакомому: «Читатели ли?» – «И у нас есть Манифест (ибо слышали предварительно о нем). Да Что же вы опоздали, вот один из членов прекрасно придумал, как столпились в газетной, что прочитал вслух». Слыша это, сильно билось во мне приверженное сердце, я слезлив в радости, а совладел с моими глазами, чтоб с осторожной зоркостью видеть глаза других, и у многих видел их влажными. Свидетельствуюсь Богом всемогущим, что лесть никогда не управляла ни языком, ни пером моим; покойный отец мой удалил от души моей это зло; продолжаю писать, как истинно видел, как слышал; я слышал, и весьма заметно было, что голос дребезжал в отзывах о Франции, Австрии и Пруссии, Но когда речь возвращалась к Манифесту, речи становились твердые; твердость как бы почерпалась из самого Манифеста, он так всем был по сердцу, как будто каждый участвовал в написании его. Тут послышался от кого-то вопрос: «Кто бы писал его?» Этот вопрос издавна существует при сильных впечатлениях от того, что изложениями получили известность в 1812 году Шишков и прочие. Я был на этот раз превращен в молчание, в слух, сердце мое жаждало одного ответа и услышало желаемый ответ: «Кому писать это? Без сомнения Сам писал». Таково было виденное мною впечатление, где, выражусь просто, каждый рос душой, чувствовал, что он русский, что он сын Воззвавшего к сердцам русских, – и видно было, что для русского сердца не бывает иных воззваний, кроме того, чье сердце помазавшего Его. Истинно этот Манифест был утверждающим, освящающим помазанием сердца.
Так истинно, так я видел, я слышал.
Не могу при том скрыть, переливая в сердце мое каждое слово Вашего драгоценного доверия и «чтоб я писал со всей откровенностью», чтоб не доложить, что после послышался при вопросах: кто бы писал? – одного какого-то отзыв: «Чай, Киселев писал». Тон этого отзыва, кажется, заключал в себе ясную иронию на этого сановника. Без сомнения, до Вас доходило, что дворянство не любит его, потом слышны были те же отзывы об Манифесте уже не в клубе и следующие слова о Государе: «Да приласкай он дворянство, так, ей-богу, все двинется, куда только прикажет».
В среднем сословии и черни поняли так, но лучше употреблю и выражение их: «Вот союзные державы от нас отказались, и француз идет на нас войной» – и поэтому некоторые из дворян, желающие умничать (но все с благонамеренными сердцами), поумничали в суждениях, что Манифест прекрасный, но что будто, на что было писать его, на что употребить было слово, что дерзость угрожает и России, вот это слово угрожает немногим не понравилось, но и это самое умничество о выражении, не выражает ли только пустое умничество, а, однако ж, показывает русское сердце если не по уму, то в чувствах.
Я считаю, что лучшие агенты для чиновника – это добрые дела, коих он был исполнителем от благодетельного начальства, – благодарность редка, но неподкупна, когда сам исполнитель неподкупен, вот из таких ходит ко мне один старик хлебник (но не мой) Сидор, который и к Вам хаживал у него большая семья, большая артель; истинно случилось же так, что когда я ему объяснил, в чем дело, и он мне сказал: «Ну, барин, спасибо, ведь я почти во все трактиры ставлю хлеб, так если будут врать, что все на нас войной идут, я ведь не назову тебя, а скажу, что они попусту тревожатся и войны никакой у нас нет», – случилось же так, что на другой же день вышла газета со статьей из Санкт-Петербурга, объясняющей точно так толки, и этой статьей для народа вообще довольны.
Ни о дерзких, ни о ропотных суждениях здесь нет слухов, вырываются в гостиных выражения: не было бы чего? Но слава Богу, не видно никакого основания к опасениям утешительно то, что не к русским клонятся предположения возможностей, а все к полякам. Дай Бог, чтоб ничего и не было основательного для опасений, но какие слухи даже из вздорных будут позначительнее, не премину с неограниченной искренностью доложить.
Здесь много говорили и в гостиных, что граф Алексей Федорович [Орлов, тогда шеф жандармов и начальник III отделения] послан в Вену, и так утвердительно говорили, что по тамошним смутам сердце боялось, пусть хоть и теперь утверждают это, но Ваше милостивое письмо, из которого видно, что граф в Санкт-Петербурге, втайне мною хранимое, успокоило приверженного.
Секретно.
30-го марта 1848 года, Москва
По приказании Вашем от 23-го марта дозволив мне писать неофициальным письмом, Вы как будто милостиво угадали, что у меня около глаза сильный ревматизм, такой, что сегодня мне поставили шпанскую мушку к затылку и что я должен даже докладывать Вам, диктуя моему писарю, в верности и глубокой скромности коего не имею причин сомневаться.
И пишу к Вам с неограниченной искренностью, как к отцу родному, прося Вас нисколько не думать о моей простуде и не останавливаться удостаивать меня Вашими приказаниями. И с больным глазом Господь не лишает меня света душевного, и в ревматизме я пламенно усерден в верноподданнической службе и убеждаю Вас при поставленной мне шпанской мушке на затылке, никак не брить мне затылка от Вашего драгоценного мне доверия. Третьего дня принесли мне повестку о секретном пакете, это было воскресенье, и по правилам почту получить было нельзя – получил вчера, а сегодня доношу Вам в ответ – кажется, нельзя поспешнее.
Коротенькое, но заключающее в себе важность, приказание Ваше я прочитал не раз и затаив от всех в душе моей тайну вопроса, хотя и был тотчас готов ответствовать Вам: что касательно политических в Европе обстоятельств, здесь, благодарение Господу, в народном духе ничего дурного не видно и не слышно; но желал проверить изыскиваемые мною основательные сведения и поехал как будто пить чай к здешнему голове, богачу и владельцу огромной фабрики Лепешкину. Я не балую купцов частыми посещениями за их визиты, и особенно Лепешкин тем более рад моим приездам и, когда нет никого, беседует со мной довольно искренно.
Извлечение из разговора с ним Вам яснее покажет незаметную для хозяина дома проверку моих сведений о духе народа. Начало всякого разговора теперь чужие края, так и началось, потом он за келью стал говорить о непомерной слабости Щербатова к Лужину [московскому обер-полицмейстеру того времени], о затруднениях головы Градского им угождать, а потом, что прошедший вторник Щербатов [московский генерал-губернатор] присылал за ним и просил его, что как до него дошли сведения, что будто некоторые фабриканты хотят ссылать фабричных, то чтобы убеждать их оставить и чтобы они не притесняли их в расчетах. Голова вследствие этого созвал (кажется, он назвал) старост, которые имеют влияние на фабрики, и они доставили через несколько дней сведения, что никто не думает ссылать фабричных и расчетов притеснительных нигде нет. Так и доложил Лепешкин Щербатову, вразумляя его: что никто из купцов не ссылает рабочих, а к Пасхе они сами в свои селения отходят, и после Святой недели через две, судя по разливам рек, они опять возвращаются. Лепешкин сам не понимает, с чего Щербатов это взял, а мне это дало прямой случай взойти с головой в разговор о фабричных.
Фабричные, говорил Лепешкин, думали, что будет война, но боялись не французов и не войны, а большого рекрутского набора; а теперь благодаря Бога, что нет набора, а как заслышали о французах, то, право, закипели русским духом, так поговаривая: «Ведь уже было, что у них закружилась голова на Руси, – так, видно, опять захотелось отведать, каковы русские», – и вообще Лепешкин говорит, что «так тихи, так ведут себя, что лучше требовать нельзя», прибавлю еще что и в иностранцах, магазинщиках и ремесленниках, заметно не только сожаление, но даже омерзение к переворотам, случившимся за границей.
Дай Бог, чтоб я и впредь вам мог докладывать таковые сведения о русском духе. Ей-богу, теперь все тихо, у русских в душе Бог и царь, что этого тверже, и верьте, что это здесь всему основание. Простите мне мою неограниченную искренность батюшка Леонтий Васильевич, все единогласно отдают цену Москве, что при бестолковости Щербатова и неспособности Лужина быть обер-полицмейстером все держится внутренней привязанностью к царю и личною привязанностью к великому духу Государя. – Батюшка, уладьте, чтоб Лужина хоть егермейстером сделали, но дайте на это место человека достойного, ведь Лужина просто презирают, просто говорят: чего и ждать от него, когда его баба била по роже, офицеры говорили ему грубости и даже купец, поставщик полиции дров Иван Васильевич Волков, ему в доме Щербатова и при Щербатове в глаза дерзко правду высказал, выражаясь именно: «Ошибаешься, молодой генерал». И Лепешкин также рассказывал это, если Вы об этом других спросите, то помирволят, если спросите Лепешкина, скажет, как купец, что он и мне не говорил, а напишите ко мне: чтоб я от него попросил искреннего сведения о состоянии здешнего управления в отношении к Думе, он бы от меня не отделался, чтоб не написать к Вам, когда бы в письме ко мне изволили сказать: что это останется в глубокой тайне, которую и он хранить обязан, – что бы вы ни узнали, особенно если б молвили об его уме, ибо он очень самолюбив. Но ни в каком случае не делайте на место Лужина здешних полицмейстеров, ей-богу, ни один не способен, но попробуйте переместить Вашего санкт-петербургского в Москву, а здешнего к вам, тогда ближе рассмотрите.
Повторяю мое всепокорнейшее извинение, что сам не пишу, ибо наклониться не могу и левый глаз опух, я и вчера имел опухоль, но, вероятно, это бросилось к глазу при возвращении вечером от Лепешкина, от сырости, когда ехал по мосту через Москву-реку, которой лед уже прошел.
Былое, 1906, ноябрь.
К характеристике III отделения
Выпуск 1848 года из училища (правоведения) был вообще благонадежный и хороший, но поступивший с августа 1848 года в 1-й класс, напротив, весьма нехороший тем, что в нем наполовину были неблагонадежные молодые люди и в религиозном, и в политическом, и в нравственном отношениях (даже нигилисты). И с этими-то дурными элементами пришлось мне бороться в 1848/49 учебном курсе, подобно тому как император Николай в то же время боролся с польской революцией и вне, и внутри России. Внутри ее сугубо усилилось действие пресловутого III отделения, бывшего в то время высшего полицейского учреждения, под управлением графа Орлова, но, в сущности, генерала Дубельта, души этого отделения. Шпионы и шпионство усилились до крайности, и им подверглись все учебные заведения в Петербурге, в том числе и училище правоведения. Однако заговор Петрашевского в 1848 году был открыт не Дубельтом, а начальником петербургской сыскной полиции Синицыным и доложен императору Николаю не Орловым, а министром внутренних дел графом Львом Алексеевичем Перовским. Открытие этого заговора еще более усилило шпионство, особенно со стороны Дубельта и III отделения. Вот в какое положение я попался по назначении меня директором училища правоведения. К счастью, этот злополучный 1848 год прошел для меня благополучно, хотя не без борьбы в училище, много причинившей мне горя, стоившей много труда и расстройства здоровья. Но в конце зимы 1848/49 гг. случилось в училище прискорбное для меня событие.
Однажды является ко мне воспитанник 3-го класса, носивший несчастную фамилию Политковского (в январе 1853 г. обличенного в расхищении кассы комитета инвалидов, а воспитанник был родственник его). Это был жалкий идиот, вечно без денег и просивший милостыню у товарищей. Явившись ко мне, он объявил, что получил приглашение явиться в III отделение. «Зачем?» – спросил я. «Не знаю». – «Оттуда, когда узнаете, явитесь ко мне и скажите». Но он не явился, а вскоре затем приехали ко мне адъютант графа Орлова и два жандармских: штаб-офицер и обер-офицер с предписанием Орлова немедленно арестовать воспитанников 3-го класса Беликовича и князя Гагарина и с их бумагами, вещами и дядьками доставить в III отделение. Это было исполнено, и я, в крайнем недоумении, не знал, что сей сон значит, хотя предугадывал тут что-то недоброе. Я ждал, не пригласит ли Дубельт меня к себе, или не приедет ли сам ко мне, или же не пришлет ли кого для объяснения со мной. Но напрасно было мое ожидание в продолжение двух недель или более. И вдруг, как бомба, разразилось над моею головой нечто вовсе непредвиденное и неожиданное! Принц Ольденбургский пригласил меня к себе, и в присутствии своего доверенного адъютанта, полковника С. И. Мальцова, показал мне дело III отделения о воспитанниках Беликовиче и кн. Гагарине, обвиняемых: первый в том, что в его бумагах был найден писанный на польском языке дневник, с сочувствием Мирославскому мыслями и выражениями, а второй – в том, что за завтраком или обедом будто бы сказал товарищам: «Нужно повесить». Сверху была следующая резолюция императора Николая:
«Вот они, поляки, все один как другой! Беликовича разжаловать в рядовые и сослать в отдаленный Оренбургский линейный батальон; Гагарина же определить юнкером в один из полков Московского корпуса, с тем чтобы отец его сам наказал, а директору училища (то есть мне) объявить строжайший выговор с внесением в формуляр»
Плохо пришлось бы мне, если бы добрейший принц Ольденбургский сам лично, через Орлова, не упросил императора Николая не вносить выговор мне в формуляр. Кн. Гагарина участь была смягчена потому, что мать его, рожденная Сабурова, была другом и приятельницей принцессы Ольденбургской, и Гагарин, прослужив несколько времени юнкером, был произведен в офицеры на Кавказе, где служил долго, позже был адъютантом военного министра и умер в чине генерал-майора. Что касается до Беликовича, то он, прослужив солдатом, кончил жизнь на приступе одного пограничного азиатского укрепления.
Необходимо, однако, хотя теперь более сорока лет спустя после сего происшествия, раскрыть всю подкладку этого события, завершившегося столь суровым судом. Беликович, 15-ти лет, уроженец Витебской губернии, католик, был прекрасный, умный мальчик, один из первых в классе по учению, но с горячей, пылкой головой, к сожалению восторженной польскими идеями, и имел неосторожность вести откровенно свой дневник на польском языке и оставлять его в своей классной лавке, вместе с учебными тетрадями. А воспитатели этого 3-го класса не заботились осматривать тетради воспитанников, что было прямо обязанностью их, а не директора. Они (с некоторыми исключениями) оберегали более себя, чем воспитанников и директора, и служили плохими помощниками директору.
Князей Гагариных в первой половине 1848 года было два брата, из которых один, лентяй и возмутитель других, был уволен из младших классов училища, а другой остался, но также был не очень благонадежен, однако дотащился до 3-го класса. Политковский был нищий идиот, в презрении у товарищей, и ничего путного не обещал. Он-то и оказался самым пригодным орудием Дубельту, чтобы спасти себя и свою репутацию, вследствие открытия заговора Петрашевского не им, Дубельтом (le general Double, как его звали по-французски), а Перовским через Синицына. Говорили, что император Николай, утром после открытия заговора Петрашевского, встретил входившего в кабинет Орлова словами: «Хорош! Открыт заговор, а я узнал об этом не от тебя, а от Перовского! Узнай и доложи почему?» Орлов – к Дубельту, а этот, как казна, которая в огне не горит и в воде не тонет, недолго думая и не далеко ходя, закинул свою удочку поблизости – в училище правоведения, привлек идиота Политковского и выманил у него донос на товарищей его же класса, Беликовича и князя Гагарина, следствием чего и было все изложенное выше… Вновь повторяю, если б не добрейший принц Ольденбургский – хвала ему и честь, – директор училища правоведения, 23 года с честью носивший мундир Генерального штаба, навсегда стал бы жертвой ужасной случайности, в которой ни в чем не был повинен. Ведь еще у римлян, по их законам, не обвиняли подсудимого, не выслушав его оправдания, а в училище правоведения, в России, в 1849 году, никто и не потребовал объяснения директора.
Из воспоминаний кн. Н. С. Голицына (директора училища правоведения).
Русская Старина, 1890, ноябрь.
Глава IX
Общественное движение при Николае I
Два поколения
Казнь на Кронверкской куртине 13 июля 1826 года не могла разом остановить или изменить поток тогдашних идей, и, действительно, в первую половину николаевского тридцатилетия продолжалась, исчезая и входя внутрь, традиция Александровского времени и декабристов. Дети, захваченные в школах, осмеливались держать прямо свою голову, они не знали еще, что они арестанты воспитания.
Так они и вышли из школ.
Это уже далеко не те светлые, самонадеянные, восторженные, раскрытые всему юноши, какими нам являются при выходе из лицея Пушкин и Пущин. В них уже нет ни гордой, непреклонной, подавляющей отваги Лунина, ни распущенного разгула Полежаева, ни даже светлой грусти Веневитинова. Но еще в них хранилась вера, унаследованная от отцов и старших братьев, вера в то, что «она взойдет – заря пленительного счастья», вера в западный либерализм, которому верили тогда все: Лафайет и Годефруа, Кавеньяк, Бёрне и Гейне. Испуганные и унылые, они чаяли выйти из ложного и несчастного положения. Это та последняя надежда, которую каждый из нас ощущал перед кончиной близкого человека. Одни доктринеры, красные и пестрые – все равно, легко принимают самые страшные выводы, потому что они их собственно принимают in effigie, на бумаге.
Между тем каждое событие, каждый год подтверждал им страшную истину, что не только правительство против них, <…>[14]14
вмешательство царской цензуры – И.З.
[Закрыть] но что и народ не с ними, или по крайней мере, что он совершенно чужой: если он и недоволен, то совсем не тем, чем они недовольны. Рядом с этим подавляющим сознанием, с другой стороны, развивалось больше и больше сомнение в самых основных, незыблемых основаниях западного воззрения. Почва пропадала под ногами; поневоле в таком недоумении приходилось в самом деле идти на службу или сложить руки и сделаться лишним, праздным. Мы смело говорим, что это одно из самых трагических положений в мире. Теперь лишние люди – анахронизм, но ведь Ройе Коллар или Бенжамен Констан были бы теперь тоже анахронизмом, однако нельзя же за это пустить в них камнем.
Пока умы оставались в тоске и тяжелом раздумье, не зная, как выйти, куда идти, Николай шел себе со стихийным упорством…
Воспитание, о котором он мечтал, сложилось. Простая речь, простое движение считались такой же дерзостью, преступлением, как раскрытая шея, как расстегнутый вороник. И это продолжалось тридцать лет…
Разумеется, средь этого несчастья не все погибло. Ни одна чума, ни даже тридцатилетняя война не избила всего. Человек живуч. Потребность человеческого развития, стремление к независимой самобытности уцелело, и притом всего больше в двух македонских фалангах нашего образования, в Московском университете и Царскосельском лицее, они пронесли через все царство мертвых душ, на молодых плечах своих, кивот, в котором лежала будущая Россия, ее живую мысль, ее живую веру в грядущее.
История не забудет их.
Но в этой борьбе и они по большей части утратили молодость своей юности, они затянулись и преждевременно перезрели. Старость их коснулась прежде гражданского совершеннолетия. Это не лишние, не праздные люди, это люди озлобленные, больные душой и телом, люди, запахнувшие от вынесенных оскорблений, глядящие исподлобья и которые не могут отделаться от желчи и отравы, набранной ими больше чем за пять лет тому назад. Они представляют явный шаг вперед, но все же болезненный шаг, это уже не тяжелая хроническая летаргия, а острое страдание, за которым следует выздоровление или похороны.
По воспоминаниям Александра Герцена
Кружки 30-х годов
Тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, а в них было наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах неостывшего кратера.
В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей, они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, но остаются, и если умирают на полдороге, то не все умирают с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще.
Мало-помалу из них составляют группы. Более родное собирается около своих средоточий, группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и разносторонность для развития, развиваясь до конца, то есть до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались – кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком.
Главная черта всех их – глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее – а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое.
Возражение, что эти кружки, незаметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязанное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое, – нам кажется очень неосновательным.
…Если аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые оставались мужиками, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей оттого, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм.
Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.
О застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные – испуганные, слабые, потерянные – были мелки, пусты; дрянь Александровского поколения заняла первое место, они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановниками. Время их прошло.
Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа, для него ничего не переменилось, – ему было скверно, но не сквернее прежнего, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время не пришло. Между этой крышей и этой основой дети первые подняли голову, может, оттого, что они не подозревали, как это опасно, но, как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя.
Их остановило совершеннейшее противоречие слов учения с былями жизни вокруг. Учителя, книги, университет говорили одно, и это одно было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда говорили другое, с чем ни ум, ни сердце не согласны, но с чем согласны предержащие власти и денежные выгоды. Противоречие это между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси. Шершавый немецкий студент, в круглой фуражке на седьмой части головы, с миросокрушительными выходками, гораздо ближе, чем думают, к немецкому шпис-бюргеру; а исхудалый от соревнования и честолюбия collegien французский уже en herbe l’homme raisonnable, qui exploite sa position.
Число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало, но те, которые воспитывались, получали не то чтоб объемистое воспитание, но довольно общее и гуманное, оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. Но человека-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспевания помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиваться – так толпа и делала, – или приостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком?» За сим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина, для других – время искуса и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обусловливало распадение на разные круги.
Так сложился, например, наш кружок и встретил в университете, уже готовым, кружок сунгуровский. Направление его было, как и наше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические.
В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтобы не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокаивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в тенденциях наших.
В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова – и исчез.
В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время круга Станкевича. Его самого я уже не застал, он был в Германии, но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех.
Возвратившись, мы померились. Бой был неровен с обеих сторон, почва, оружие и язык – все было разное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спора нет.
Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал, и сделал самым блестящим образом; влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно, – стоит назвать Белинского и Грановского, в нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и проч. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринизм, – живые люди из русских к нему не способны.
Возле круга Станкевича, кроме нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же чересполосице, как и мы; его-то впоследствии назвали славянофилами. Славяне приближались с противоположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу.
Между ними и нами, естественно, должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Киреевским. Белинский, Бакунин – к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский был нашим с самого приезда из Германии.
По воспоминаниям Александра Герцена[15]15
Напечатанный далее в издании 1910 года 12-страничный очерк Герцена «Последний праздник дружбы» здесь опущен. – И.З.
[Закрыть]








