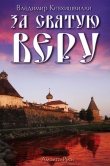Текст книги "Великий раскол"
Автор книги: Михаил Филиппов
Соавторы: Георгий Северцев-Полилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 52 страниц)
Бегство Никона
В Новом Иерусалиме творится что-то необычайное. Домашний штат Никона и в Новом Иерусалиме невелик: два крестника его – евреи, Афанасьев и Левицкий, с женами; другой крестник Денисов, из немцев рижских; Трофим (слесарь) с женою; поляк Ольшевский и Кузьма, с которыми он жил в Крестном и, наконец, зять его Евстафий Глумилов.
Последний был женат на сестре Никона, которую он носил на руках, когда был еще мальчиком. Сделавшись патриархом, Никон не постыдился крестьянина-зятя и приблизил его к себе, не давая ему никакого общественного назначения, и он заправлял лишь частными его делами.
Крестники его, Афанасьев и Левицкий, заведывали работами по монастырю, а Денисов был пожалован в боярские дети и заведывал отчетностью монастырскою, как человек честный и бескорыстный.
В этой-то дворне стали к чему-то готовиться. Все укладывали в походные тюки свои пожитки и приготовляли походную провизию: хлеб, сушеную рыбу и тому подобное.
Приготовления эти делались хотя поспешно, но втайне от монастырской братии.
Вся дворня была встревожена неожиданностью, но явно была довольна походом, хотя не знала, куда и зачем.
Недовольны были только два еврея и слесарь, так как они имели жен, как видно не входивших в походный штат, и притом вопрос о том, взять ли еще евреев с собою, не был патриархом решен.
Евреи поэтому шушукались между собою многозначительно.
Ольшевский сильно хлопотал об укладке патриарших вещей, а кузнец не знал, как и что взять с собою, так как распоряжение не было сделано, какой экипаж пойдет в дорогу.
Патриарх же заперся с игуменом и строителем обители Аароном, и вели длинную беседу.
Это выводило из терпения всю его дворню.
– Альбо то можно, – ворчал поляк, – не говорить, в чем мы поедем… Налегке, – сказал он. А ризы-то нужно взять… а митру… а посох… а крест… Надея на Бога, нас будут встречать с крестами и образами… а мы и облачимся и будем народ благословлять.
– Авжежь, – процедил сквозь зубы Михайло, – колы мы въедимо в какой город, буде трезвон с колокольни, и монахи вси на встричу, як саранча высыпят.
– А мне-то что брать? – недоумевал кузнец.
Является вдруг боярский сын Денисов.
– А вот что, – говорит он. – Патриарх приказал уложить в тюки одно белье, да кое-какие бумаги… поедем мы вес верхами.
– Как, верхами? И патриарх? – восклицают голоса.
– Да, и патриарх. Ночью, как братия заснет, всех казачьих лошадей оседлать и навьючить, и все – в путь… Только жидам не говорите… слышите?
– Альбо то можно? Патриарх, да на коне.
– Дурень ты, – прерывает его Михайло, – чи Христос на осли да не выезжав?..
– И то правда… и мы вступим в город на конях… и то добже, – успокоился поляк.
Но не утерпел он, забрал все облачение патриарха и, сделав огромный тюк, объявил, что он готов идти сам пешком, но без облачения-де патриарх не патриарх.
Наконец настал вожделенный час: иноки легли спать и огни потухли.
Зять патриарха Евстафий, рослый, красивый мужчина, с добрыми голубыми глазами, появился в патриаршем отделении и скомандовал: переодеться всем в казачью одежду, хранившуюся у них в чулане, вооружиться по-казачьему, а все изготовленные тюки навьючить на лошадей.
– Поедут следующие, – заключил он, – патриарх, я, Ольшевский, Денисов, Кузьма кузнец и Михайло.
– А жиды и слесарь? – спросил Михайло.
– Пущай здесь остаются. Коней у нас казачьих семь: шесть пойдут под седоков, а седьмой – под патриарший вьюк.
– Моя взяла! – крикнул радостно Ольшевский. – Альбо то можно, чтоб без облачения… надея на Бога…
Появился сам патриарх: глаза его были заплаканы, но лицо спокойно.
Он велел принести казачью одежду, сбросил подрясник и рясу и торопливо переоделся. Волосы он подобрал на голове, связал их и накинул на голову казачью большую шапку.
Одежда переменила его вид: из величественного святителя он преобразился в гиганта-казака.
– О це бы був добрый гетман, – процедил сквозь зубы Михайло.
Когда вся свита была готова и доложили Никону, что и лошади навьючены, он опустился в своей келии на колени, положил несколько земных поклонов, поцеловал икону Спасителя, висевшую в углу, и твердыми шагами вышел.
Лошади, все поодиночке, были выведены из монастыря и дожидались за оградою.
Никон и приближенные его вскочили на коней и сначала шагом отъехали от обители, но вот Никон перекрестился, поклонился святой Воскресенской церкви и помчался на юг…
Все последователи за ним.
* * *
На другой день утром Гершко и Мошко, а по крещении Афанасьев и Левицкий, встали рано и повели между собою беседу:
– Заспались все, – сказал Гершко.
– Какой там заспались, – усмехнулся Мошко. – Они теперь тютю… Проснулся я ночью… вышел… вдруг вижу: сам патриарх, как разбойник, в казачьем: шабля и пистолет у пояса… Да и Михайло, и Денис, и Микола лях, и кузнец, – вси, вси як есть, как казаки… и до лясу…
– Ой вей мир, моя бидная головушка, – завопил Гершко. – Получал я по десять карбованцев в мисяц от Стрешнева, да десять от лекаря Данилова… Данилова… царского лекаря… и був я здесь за шиша… А тут вин сив на коня, да до лясу… Ой! ой! що буду робыть.
– А я, Гершко… а я… я був тоже шишом… да у химандрита Павла… да у митрополита Пятерых… да у Морозова…
Значит двадцать пять карбованцев и тиждень… Що буду робыть…
– Бачишь, Гершко, у меня конь и конь добрый… а у тебя возок… запряжем, и фур-фур на Москву… Там мы до царского лекаря…
– А завтра шабаш, – прервал его Мошко.
– Шабаш?.. Будем с лекарем справлять.
– Як, во дворци?..
– Во дворци… что ж?., и Шмилек справляе… Вин хоша Данилов, а все же вид наших: …вин такий православный, як мы з тобою… Дают гроши – и добре… Бачишь, коли б гроши не платили, так було б фе!.. А за гроши, так я на мечети за мулу, як кот, буду мяукать…
Гершко и Мошко побежали стремглав на конюшню, запрягли лошадь в маленькую повозчонку и помчались в Москву.
Ехали они весь день с роздыхами, и когда шабаш уж наступал, т. е. когда настал вечер, они въехали в город.
Усталая их лошаденка едва передвигала ноги, но они бичевали ее и дотащились до дворца.
Лекарь Пинхус Данилов, познакомившись с царем во время смоленского похода, сделался его придворным врачем и жил во дворце, где был аптекарский приказ.
Пинхус Данилов был честный человек и вполне заслуживал доверие царя, но имел слабость вмешиваться в политику и, в борьбе бояр с Никоном, он стал на стороне бояр. Считая патриарха тираном, он воображал, что служит верную службу царю, если он низложит его и этим выведет Алексея Михайловича из его железного влияния. Гершко и Мошко, подъехав к аптекарскому отделу, остановились у ворот и оба вошли туда.
Они велели о себе доложить боярину Данилову.
Аптекарский служка побежал с докладом и несколько минут спустя он повел их к кабинету лекаря.
Подойдя к массивным дверям, служка впустил их туда.
– Шалем-алехом[57]57
Мир с вами.
[Закрыть],– встретил их хозяин в собольей шапке, не боярской, а жидовской.
– С шабашем, реб, – воскликнули оба.
– Звиткиля?
– З монастыря, – ответил Гершко.
– А що там патриарх? – допрашивал лекарь.
– Вин тютю, – вздохнул Мошко.
– Як тютю?
– Тютю, – вздохнул Гершко: – утик на коне… да из ним вся дворня, – пояснил он.
– А куда?
– А куда, як не до лясу, альбо до Киева к казакам. Вин точно як гетман, при шабле, при пистолете, – заголосил Мошко.
– Ой! ой! ой! – взялся за голову Данилов, – то-то буде гвалт… то-то буде гешефт… то-то бояре злякаются…
Лекарь схватил соболью шапку с головы и бросил ее о пол.
– Я до царя… в погоню за ним… Ой, ой, ой, то буде…
Он торопливо оделся и, уходя, шепнул им.
– Шабаш уж здесь справляйте… помолитесь, а я тим часом приду и мы кидишь зробим и повечеряем: рыбу с перцем… гугель и цимес буде… Да я царю о вас скажу… вот и наградит.
– Будем за вас, реб Пинхус, Бога молить.
Данилов побежал во дворец с Постельного крыльца. Ему сказали, что царь собирается ужинать. Но он велел доложить, что по очень важному делу.
Царь встревожился – приход к нему в необычайный час лекаря означал что-то недоброе.
– Уж не заболела ли царица, аль кто из детей, аль царевны-сестрицы, – подумал он и велел тотчас его ввести к себе.
– Никон! Никон бежал, – задыхаясь произнес лекарь.
– Кто тебе сказал?.. – Это ложь, неправда…
– Как неправда, ваше величество, приехал из монастыря Мош… Гер… шо я кажу, Афанасьев и Левицкий, служки патриарха… Кажут, в казачьем патриарх…
– Лгут они, не верь… Ты вот пойди, да прогони их обратно в монастырь. Выехал патриарх по моему указу, да завтра и возвратится… Да накажи им: вздор не молоть, коли спины целы.
– Як же, ваше величество… воны кажут, что на тойре… на евангелии присягнут, що то правда.
– Я говорю, что лгут… и ступай с Богом. Спасибо за добрую службу… да им-то не забудь сказать: пущай не болтают, а едут тотчас домой, да чтоб духа их не было на Москве… Слышишь?
– Слушаюсь, ваше величество.
– Да и ты никому не болтай, как патриарх да бежал? Аль мы его истязали? аль пытали? аль иное делали?.. Теперь ступай…
Царь подал ему благосклонно руку, тот ее поцеловал.
– Вей! вей!., що мы наробыли, – завопил Данилов, влетая в свою комнату. – Садитесь на свой виз, да до дому.
– Як то можно, реб? В шабаш? – ужаснулись оба.
– Що ж робыть? Царь наказал: пущай-де едут тотчас до дому.
– Кинь наш ничего не йв, – заплакал Мошко.
– Да и мы ничего не йлы…
– Не йлы?.. Вернитесь пишки… а по дорозе, в кабаке, и йсты будете, – успокаивал их лекарь. – Царь казав, щоб духу вашего не было в Москви, да щоб молчали: патриарх-де по царскому указу уихав.
– Ой! вей! що мы наробыли, – заголосили оба.
– Уж мы, реб Пинхус, коня у вас заставим, а мы пишки…
– Ким, Гершко, – крикнул Мошко, поспешно схватив товарища за руку и уводя его.
– Щоб тому светлейшему не было ни дна ни покрышки, – ворчал последний, уходя.
* * *
Едет святейший всю ночь проселками, и к утру они расположились в лесу отдохнуть и покормить лошадей.
Как простой казак, Никон ложится на траве под деревом и сладко засыпает. С непривычки верховая езда сильно его разбила.
Спит он несколько часов и, проснувшись, требует поесть.
Скудная трапеза кажется ему такою вкусною и он, насытив голод, творит молитву и велит двинуться в дальнейший путь.
В то время, как святейший собирается сесть на коня и поправляет свои волосы на голове, в кустах два глаза на него глядят, а драгун, которому они принадлежат, произносит про себя:
– Он, не ошибся…
Воина этого, когда он приближался, никто не заметил из свиты Никона – все от усталости спали крепким сном.
Но едва только тронулся Никон со свитою в путь, как следовавший за ними драгун поспешил через лес и вышел в поле. Там стояло человек десять драгунов, сильно вооруженных и один из них в блестящей одежде воеводы.
– Боярин, – обратился к нему драгун, – я не ошибся – это не казаки, а сам патриарх и его свита.
– В таком случае нам нужно за ним следить… Мне кажется, патриарх заночует где-нибудь в избе, – тогда мы и заберем их сонных…
– Как прикажешь, боярин.
Отставая от патриарха на несколько верст, они так следили за ним весь день.
К вечеру, как и предсказывал начальник отряда, Никон вынужден был, для того чтобы дать отдых и лошадям, и людям, заехать во встретившееся село.
Здесь они остановились в первой же избе, куда их впустили. Лошадей развьючили, проводили и дали им есть, а люди тоже поели и легли отдохнуть.
Патриарху уступлена изба, и он расположился там на покой.
Вскоре все погрузились в глубокий сон.
Ночью вдруг просыпается Никон: слышен топот лошадей, стук оружия…
Он прислушивается: какой-то голос требует, чтобы отворили ворота.
Никон поспешно выходит.
– Да что, – кричит поляк, – альбо то можно… точно кепи… точно разбойники… Им говорят, казаки здесь… а он «по царскому указу»… Да и мы по указу… проваливай, служивый, коли не хочешь пули в лоб… Мы, надея на Бога… джелебы не…
– Что за шум, – раздался громкий голос патриарха.
– По указу государеву, святейший патриарх, – раздается голос за воротами.
– Святейший патриарх… по указу государеву… измена, – произносит удивленно Никон.
– Прикажи, святейший, и мы искрошим их, – раздается голос поляка. – Аль мало нас? Все ляжем костьми… Джелебы их была сотня, а то десяток… Я и сам пойду… Прочь от ворот…
– Крови не проливать, меча не обнажать! Христос сказал Петру: «Кто обнажит меч, тот падет от меча». Кто ты, дерзающий тревожить мирный сон патриарха?..
– Окольничий государев, Богдан Матвеев Хитрово, твой богомолец, – по указу царскому.
– Отворить ворота царскому послу! – величественно произносит Никон. – Послушаем царский указ…
Один из свиты открывает ворота, остальные стоят с пистолетами в руках.
– Чего хочет от нас великий государь? – обращается он к спешившемуся Хитрово.
– Святейший патриарх, великий наш государь просит тебя возвратиться в свою святую обитель и сказать: от чего ради ты бежал.
– От гнева его. Я отряхаю прах моих ног, по святому писанию. И кто может запретить мне ехать, куда я хочу? Не раб же я?..
– И царь, и царица умоляют тебя возвратиться и не оставлять их своим благословением.
– Я всегда молю за них Бога и благословляю их ежечасно; но бегу я от ярости крамольников-бояр, – так и скажи великому государю… Я удаляюсь в Киевскую лавру… и там кончу дни свои, как и многие иные подвижники.
– Не могу, святейший патриарх, без тебя возвратиться, – или поезжай мирно назад, или я должен употребить силу?..
– Силу?., против патриарха… силу против святителя… И держит тебя земля над собою?.. Достоин ты смерти.
– Что ж?., вели казнить, святейший… я без оружия… вот и меч… А все без тебя не уеду…
Он бросил меч и пистолет в сторону.
– Прости… ты раб… слуга… исполняешь приказ самодержца… повелителя… Бери свой меч… бери оружие… я последую за тобою… Но ты скажи ему: коль я б хотел, так и тебя, и твоих воинов не стало бы в минуту единую… Вся Русь пойдет за мною, как один человек… Эй! люди… тревогу… Пущай православные христиане увидят своего патриарха… патриарха Никона… Николай! – облачение… крест… Я облачусь, а крест и икона – мое оружие против врагов моих.
Свита его стреляет в воздух, огромное село в несколько минут является к избе и, узнав, что патриарх приехал, приходит в религиозный восторг.
Никон переодевается и выходит во всем облачении.
Многосотенная толпа падает на колени, плачет, лобызает его руки, ноги, одежду.
Никон говорит с народом со слезами на глазах, учит его вере и любви…
Рассветает. Он сбрасывает облачение, надевает патриаршую свою одежду, велит достать простой воз и, сопровождаемый народом, своею свитою и драгунами с Хитрово, возвращается в «Новый Иерусалим».
Народ провожает его до другого села. По всей дороге, узнав о его шествии, из сел выходит к нему и духовенство, и крестьяне, с иконами и хоругвями…
У ворот обители окольничий Хитрово спрашивает его:
– А царю что передать, святейший?..
– И мое благословение, и мою любовь… Пущай не гневается и помнит: глас народа – глас Божий…
XXЗемская смута в Москве
Патриарх Никон недаром разошелся в первый раз с царем по вопросу о медных рублях, выпущенных еще в 1656 году.
В последующие два года, пока дела наши в Польше, Литве и Малороссии шли хорошо, эти рубли ходили как серебряные: но неудачный поход наш под Ригу, гибель нашей кавалерии под Конотопом, катастрофа чудновская и поражение Хованского сразу понизили ценность этого рубля.
Сделалась страшная дороговизна. Указы, запрещавшие поднимать пены на необходимые предметы потребления, не действовали, и люди стали умирать с голоду.
Главное зло в этом случае было то, что явилось много поддельной монеты, и рубли эти в Малороссии и Белоруссии до того потеряли пену, что их перестали совсем принимать.
Подделки же шли не только извне, но и у себя дома.
Хватали и пытали людей, и получался один отвез:
– Мы сами-де воровских денег не делаем, берем у других не знаючи.
Между тем серебряники, котельники, оловянишники, жившие прежде небогато, внезапно построили себе деревянные и каменные дома, стали сами носить богатую одежду и поделали женам платья по боярскому обычаю, обстановку домашнюю делали богатую, не жалея денег; а сынки их сновали по Москве в дорогих санях и тележках, на лихацких лошадях, или бахматах, как их тогда называли.
Причины такого быстрого обогащения вскоре обнаружились, когда при обысках у них отыскивали и медь, и формы, и инструменты для отливки монеты и чеканы.
Преступников казнили смертью, или отсекали у них руки и прибивали к их домам, а дома отбирали в казну.
Если бы так было поступлено с одним или с другим, то было бы тоже страшно; а то, в короткое время, отрубили по всему государству семь тысяч голов и пятнадцать тысяч рук…
Из такого большого числа не без того, чтобы не было много невинных.
Ужас и негодование овладели и Москвою, и областями, тем более, что слухи носились, что богатые откупались от беды, давая большие взятки царскому тестю, Илье Даниловичу Милославскому, и царскому дяде по матери, Матюшкину. В других городах преступники откупались, давая взятки воеводам и приказным людям.
Для рассмотрения приема и расхода меди и денег на денежных дворах приставлены были лучшие московские головы и целовальники – из гостей и торговых людей, и, казалось, люди они честные и достаточные; но и они оказались ворами: покупали медь в Москве и Швеции, привозили тайно на денежные дворы и, вместе с царскою медью, приказывали из нее делать рубли и отвозили их к себе домой.
Стрельцы, занимавшие в монетном дворе караул, донесли об этом своему голове Артамону Сергеевичу Матвееву; мастера монетного двора заявили об этом тоже в приказе тайных дел.
Царь рассердился и велел произвести следствие, и, к ужасу его, виновные под пыткою показали, что Матюшкин и Милославские были с ними заодно.
Царь велел отставить от должностей обоих: и дядю, и тестя.
Москва, однако ж, не была этим довольна: семь тысяч голов, варварски у обыкновенных смертных отрубленных, требовали более строгих мер и против царских родственников, – тем более, что москвичи помнили, что Морозов и Милославский избегли кары народной и в 1648 году.
Раздавался всюду глухой ропот, и после Светлого Воскресения, в 1662 году, пошли слухи, что будет-де в Москве гиль, что народ собирается на Илью Милославского, на гостя Шорина и на Кадашевца – делателей фальшивых монет.
Говорилось это не тайно, а громко, и бояре не принимали никаких мер, как будто это не касалось их. Нужно в этом случае полагать, что с падением у царя, в это время, авторитета Милославского, вероятно, партия Хитрово и радовалась, что Милославские погибнут.
Он и Матвеев увезли, поэтому, Алексея Михайловича в Коломенский дворец и в самом селе расположили сильный стрелецкий отряд, оставив Москву на произвол судьбы.
В двадцатых числах июля в Москве пошли слухи, что из Польши кто-то привез печатные листы, в которых говорится, что сам Ртищев затеял медные рубли, да и сам фабрикует их…
Поговорили, поговорили, тем и кончилось.
25 июля, утром, на Сретенке, у земской избы, собрались мирские люди потолковать о новом налоге правительства по пятинной деньге.
Многие из торговых и промышленных людей жаловались миру на бедственное положение народа, как в это время проходит от Никольских ворот по Сретенке несколько человек и кричат:
– На Лубянке у столба письмо приклеено…
Вся толпа мирских людей, с головами и сотскими, бросилась поглядеть, что за письмо на столбе.
К столбу приклеена была бумажка, и на ней написано:
«Изменник Илья Данилович Милославский, да окольничий Федор Михайлович Ртищев, да Иван Михайлович Милославский, да гость Василий Шорин»…
О письме этом сретенский сотский Григорьев дал знать в земский приказ, и оттуда прискакали на Лубянку дворянин Ларионов и дьяк Башмаков: они сорвали письмо.
Толпа пришла в негодование и зашумела:
– Вы везете письмо изменникам!
– Письмо надобно всему миру!
– Государя на Москве нетути!
– Православные христиане, – точно колокол загремел стрелец Ногаев, – постойте всем миром; дворянин и дьяк отвезут письмо к Милославскому, и там это дело так и изойдет…
Мир бросается догонять Ларионова и Башмакова; нагнали их, Ларионова лошадь схватили и за уздцы, и за ноги, и кричали сотскому Григорьеву:
– Возьми у него письмо, а не возьмешь, так побьем тебя каменьями.
Григорьев вырвал письмо у Ларионова, и толпа с торжеством двинулась назад на Лубянку к церкви преподобного Феодосия.
Стрелец Ногаев тащил Григорьева за ворог, другие подталкивали его.
У церкви Ногаев влез на лавку и прочитал вслух письмо, причем крикнул, что надобно за это всем стоять.
С Лубянки народ подошел к земскому двору; тут поставили скамью и требовали, чтобы Григорьев влез на нее и читал, но тот отказался. Тогда Ногаев опять прочитал народу письмо с одной стороны; но другой стороны не мог он разобрать, и народ заставил прочитать письмо какому-то подошедшему в это время подьячему.
Григорьев этой сумятицей воспользовался и улизнул, приказав своему десятскому Лучке Жидкому не выдавать толпе письма.
Десятский хотел было отнять от них письмо, но толпа разделилась на две части: одна бросилась для расправы с Шориным, другая двинулась в Коломенское село, к царю.
* * *
Ничего не зная, что натворили бояре в Москве казнокрадством, рублением рук и голов, тишайший наслаждался в Коломенском селе благорастворенным воздухом, псовою и соколиною охотою, а в этот день он, к всему этому, праздновал еще день рождения шестой царевны Феодосии.
Дворец не был еще в это время перестроен и не был еще тем «восьмым чудом света», как назвал его в стихах своих, поднесенных царю, пиит борзый Симеон Полоцкий. Переделка его началась четыре года спустя после низложения Никона; но тем не менее дворец был велик и грандиозен, в чисто русском стиле, и не был еще особенно стар, так как двадцать два года перед тем пересооружен царем Михаилом Феодоровичем. Село это лежало всего в 7 верстах от Москвы, на берегу Москвы-реки, и утопало в зелени фруктовых садов и рощ. Цари любили здесь проводить лето, тем более, что можно было заниматься и псовою, и соколиною охотою. Алексей Михайлович особенно любил это село и, удаляясь сюда, он забывал тяжелые заботы, интриги и дрязги…
И теперь он был в духе. На праздник съехались не только родственники, но и другие бояре; даже тесть Илья Данилович, несмотря на опалу, был приглашен на праздник. Царь был в придворной церкви у обедни и, стоя у окна, усердно молился. Выглянув нечаянно в окно, он удивился: народ большою массою шел во дворцовый двор: все были без шапок, но громко шумели, и в церковь долетали имена Ртищева и Милославского. Царь догадался, в чем дело, и стоявшим за ним боярам этим он приказал тотчас удалиться в покои царицы и там спрятаться, – так как терем считался для народа неприкосновенною святынею.
Царица, больная от родов, лежала в постели, как вдруг докладывают, что царь прислал ее отца и Ртищева, чтобы она их спрятала у себя.
Тогда все боярские и царские хоромы строились затейливо, со сложной системою коридоров, потайных кабинетов и чуланчиков, и царица велела туда спрятать отца и Ртищева.
Но сама испугалась сильно; а весь терем заголосил, завыл, забегал, – точно боярынь режут и жгут.
Между тем шум народа, ворвавшегося в дворцовый двор, становился все грознее и грознее, и толпа, приблизясь к крыльцу, требовала царя.
– Идемте к народу, нечего делать. Не дослушаю и обедни, – произнес хладнокровно Алексей Михайлович и двинулся вперед из церкви.
Бояре и родственники пошли за ним. Все были без оружия, так как, по обычаю, в церковь с оружием никто не смел входить.
Государь вышел на крыльцо.
Впереди всех стоял Лучко Жидкий и держал в шапке письмо.
Нижегородец Мартын Жедринский, стоявший здесь, взял это письмо и поднес царю:
– Изволь, великий государь, вычесть письмо перед миром, а изменников привесть перед себя…
– Ступайте домой, – спокойно произнес Алексей Михайлович, – а я, как только отойдет обедня, поеду в Москву и в том деле учиню сыск и указ.
Гилевщики схватили его за платье и за пуговицы, и раздались голоса:
– Чему верить?
– Дай клятву…
Алексей Михайлович улыбнулся и произнес:
– Клянусь Богом и даю вам в том руку…
Стоявший вблизи его гилевщик перебил с ним руку.
– Теперь по домам! С Богом, – крикнул народ, весело бросившись в обратный путь.
Едва народ разбрелся, как государь послал в Москву храброго князя Хованского водворить там порядок, а сам сел обедать, чтобы после трапезы с боярами и стрельцами ехать в Москву.
В Москве в это время гилевщики, направившиеся к дому купца Шорина, ворвались в хоромы и разграбили их.
Хозяина самого они не нашли – он успел уйти в Кремль и спрятался в доме боярина князя Черкасского, любимца Москвы.
Захватили они, однако ж, пятнадцатилетнего сына Шорина, пригрозили ему показывать, что его отец-де бежал в Польшу с боярскими грамотами. Между тем толпа все более и более росла: день был хороший, не рабочий по случаю рождения царевны, и народу высыпало к дому Шорина видимо-невидимо. И вот, когда эта многочисленная толпа собиралась двинуться в с. Коломенское, не столько ради мятежа, как поглядеть в праздник на своего батюшку-царя, да подышать в селении свежим воздухом, – появился князь Хованский.
Он обратился к гилевщикам и уговаривал их разойтись, объявляя, что государь, как только пообедает, двинется в Москву творить суд над преступниками.
В ответ ему из толпы закричали:
– Ты, боярин, человек добрый, и службы твоей к царю против польского короля много. Нам до тебя дела нет, но пусть царь выдаст головою изменников бояр, которых мы просим.
Хованский поскакал обратно в Коломенское село, и вслед за ним двинулся народ.
Гилевшиков было не более двухсот человек, и то они не имели оружия, – у некоторых виднелись только палки в руках; остальная почти десятитысячная масса состояла из лиц разного сословия и звания: были даже дети и женщины.
Все это двигалось, в виде прогулки, поглазеть, полюбопытствовать.
По дороге гилевщики встретили возвращавшихся в обратную товарищей, которых царь успокоил, но толпа увлекала их назад. Потом они встретили царского дядю, Семена Лукича Стрешнева; тот выехал от имени царя упросить народ возвратиться в Москву. Стрешнев слишком высокомерно заговорил с толпою, и та погналась за ним с палками, так что, чтобы спастись, Стрешнев должен был вскочить с аргамаком своим в Москву-реку и переплыть с ним на другой берег. Это только и спасло его.
После того гилевщики продолжали путь.
Узнав о приближении народа, царь собрал стрельцов и бояр на площади перед двором своих палат; ему уж подвели было коня, и он хотел было сесть на него, чтобы двинуться навстречу народу, как появились гилевщики, и впереди их сын Шорина.
Мальчик прокричал громко, что отец его-де уехал в Польшу с боярскими грамотами.
Едва Шорин кончил, как со всех сторон раздались неистовые крики:
– Выдай изменников…
– Я, – кротко произнес Алексей Михайлович, – государь и мое дело сыскать и наказание учинить кому доведется по сыску, а вы ступайте по домам. Дело так не оставлю, в том жена и дети мои порука.
– Не дай нам погибнуть напрасно.
– Буде добром тех бояр не отдашь, так мы станем брать их у тебя сами по своему обычаю!.. – раздались голоса.
Здесь нужно было небольшую толпу гилевщиков, резко отделявшихся от народа, окружить и забрать или перебить; но кто-то вдруг крикнул:
– Бей их!..
Войска с боярами бросились на толпу, рубили и кололи налево и направо.
В ужасе безоружный народ бросился врассыпную: многие хотели спастись, переплывая Москва-реку, но там утонули…
Утонуло сто человек; изувечено, изрублено насмерть более семи тысяч.
Это была, в полном смысле слова, бойня людей, где не разбирали ни пола, ни возраста, ни лиц.
Несколько часов продолжалось ото позорное дело. Оставшиеся в живых и попавшие в руки стрельцов отвезены в монастырь, к Николе на Угрешу. Следствием суда было вешание, резание рук, ног, языков и ссылка в дальние города.
Царица после этого ужасного дела заболела и пролежала весь год, так что опасались даже за ее жизнь.
Москва долго после этого погрома не могла оправиться и прийти в себя: кто не досчитывался мужа, кто брата, кто сына, кто отца; также много женщин и детей погибло бесследно.
Когда весть дошла к Никону, он несколько недель постился, плакал, сокрушался и служил панихиду по убитым и казненным страдальцам.
Последнее доходило до Москвы, и еще пуще враги его озлоблялись и готовили ему разные козни.