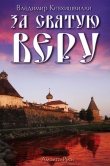Текст книги "Великий раскол"
Автор книги: Михаил Филиппов
Соавторы: Георгий Северцев-Полилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 52 страниц)
Немилость терема к Никону
Анна Петровна Хитрово встала в отличном расположении духа; с вечера легла она спать, и при этом дурка Дунька чесала ей подошвы и рассказывала приятные сказки, ласкающие слух. И заснула она так сладостно… Снился ей поэтому отличный сон: состоит она у царицы первой боярыней и глядят ей все в глаза, ищут ее милостивого слова, а она только выступает гордо, павой, и еле-еле кивает в ответ головой.
– И за что мне такая милость? – спрашивает она.
– Оттого, – отвечает толпа боярынь, – что умом-то тебя Господь не обидел.
Откуда ни возьмись и архимандрит Павел тут как тут – руки у нее целует и говорит.
– Уж ты, моя благодетельница, не покидай меня… видишь, и тебе, и царице я всякое угодное творю, а уж вы-то крутицкого митрополита – в новгородские, а меня – в Крутицкие…
– Беспременно будешь, – только ты вымоли у Бога-то сына царице… помнишь ты царицу Софию и инока.
– Как же то не помнить, уж как буду молить, поститься сорок дней буду, сегодня же начну: елей и рыбу лишь в праздники.
При этом проснулась Анна Петровна и очень приятно сделалось ей на душе, обещался святитель, что у царицы будет сын, а это все тогдашнее ее желание, – бояре-де бают: коли не родит сына, нужен развод, пока царь-де еще не стар. Нужен-де сын непременно, во что бы то ни стало, а святитель Павел так сладко говорил с нею во сне, что и она даже сама разохотилась на сына.
– Беспременно будешь митрополитом, – повторяет она наяву тоже самое, что говорила ему во сне. Эй! Акулька…
Является барская-боярыня; кланяется она низко и подходит уж к ручке барыни.
– Который час?
– Восьмой.
– Как восьмой? Зачем не будила?
– Заходила, кашляла.
– Так заутреня отошла?
– Отошла, боярыня.
– Ах ты, мерзкая…
Две звонкие оплеухи оглушают опочивальню.
– А архимандрит здесь?
– Здесь.
– Давно ждет? – Говори, мерзкая.
– Давно.
Новые две оплеухи звенят, и платок летит с головы барской-боярыни.
Акулька подбирает платок и надевает его на голову с таким видом, как будто это дело привычное и обычное.
– Умыться и одеваться скорей! – вопит боярыня.
Барская-боярыня начинает метаться, зовет постельничью, сенных девушек, все суетятся, а дело как-то подвигается медленно: то вода слишком холодна, то слишком тепла, то мыло не так мылит, и слышны звонкие оплеухи, то из прелестных ручек барыни, то из жилистых рук барской-боярыни.
Кончилось умыванье, началось натиранье. То слишком много набелили, то слишком мало; с румянами то же самое. А с бровями – горе одно: то наведут в палец ширины, то сузят. А там пошло одеванье. Начали с головы – украсили по случаю зимы каптурой, которую носили преимущественно вдовы. Потом надели на нее верхние два платья темного цвета, но отделанные кружевами, а рукава были вышиты шелками и серебром.
Анна Петровна имела более сорока лет, но, принарядившись и подштукатурившись, она поспорила бы с молодой, так как имела прекрасные черные глаза, а на зубы тогда не обращали внимания, потому что мода требовала окраску зубов в коричневый цвет.
Приняв вид святости, боярыня в сопровождении всего штата прислуги тронулась в крестовую комнату, т. е. молельню.
Архимандрит Павел, красный, чернобородый и черноглазый монах, с белыми женскими руками, встретил ее с благословением и просфорой, так как он успел уж отслужить у себя в Чудовском монастыре обедню, но был он в епитрахили, чтобы отслужить молебен за здравие царицы и хозяйки дома.
Анна Петровна благодарила его за внимание, и тот начал службу.
В те времени каждый не только боярский, но и зажиточный дом был тот же монастырь.
Тотчас по вступлении своем на престол царь Алексей Михайлович после неудачного обручения своего с Евфимиею Всеволожскою получил отвращение к музыке, пляске, светскому пению и ко всяким играм; все это было формально запрещено, и господствовавшая при царе Михаиле Федоровиче потешная палата с органами, домрами, цимбалами заменена каликами перехожими и обращена в приют нищих. Прежние бахари, гусельники, потешники, домрачеи, шуты-скоморохи исчезли, и во дворце можно было слушать лишь духовные песни. Царю подражало боярство, и каждый дом представлял собою собрание калик, монахов, монахинь; все это дисциплинировалось домостроем знаменитого Сильвестра и имело наружный вид обители.
Вследствие этого терем, в котором господствовал женский пол, получил вид женского монастыря, и женщины, казалось, совершенно изолировались от света и мира; даже в церкви они стояли под покрывалами с левой стороны и скрывались от мужчин особым занавесом.
Без покрывала женщина являлась только пред мужем или когда хотела чествовать особенно дорогого гостя; одни лишь вдовы имели право принимать без покрывала. Но вся эта изолированность была кажущаяся. Терем имел между собою тесную связь и составлял нечто цельное, правильно организованное и, можно сказать без преувеличения, управлявшее целым государством. Все терема имели между собою связь и группировались у лиц женского пола, бывших близкими к царице. Поэтому, что затевалось в теремах, то получало отголосок и в царской палате, и в боярской думе. Действовал здесь терем или чрез мужей, или чрез духовенство.
Белое духовенство в этот период достигло высшего могущества в государстве: каждый дом имел своего духовного отца, который владел умами и хозяина, и хозяйки; и обратно – терем был силен, потому что в его распоряжении было все белое духовенство; независимо от этого, каждый боярский и зажиточный дом, имея вид монастыря, был тесно связан с монастырями и, одаривая их, он имел в ополчении своем всех, начиная иноками и кончая патриархом.
Заняв такую позицию, в особенности при исключительном праве проникать даже в терем, духовенство стало само понимать, что красота, чистоплотность и тонкость обращения должны быть его принадлежностью, и тогда-то начали цениться и приятный голос, и красота рук и лица святителей – так как все это вело и к карьере, и к обогащению.
Архимандрит Павел понял это тоже и, обладая замечательною красотою, он на первых же порах после своего пострижения сразу занял важный пост в Чудовском монастыре.
И теперешний его приезд к Анне Петровне был не бесцелен: ему передал Стрешнев, что царица так чтит Анну Петровну, что просила государя назначить ее к приезду ко двору первой боярыней.
Пост этот бы так высок, что за обедом и во всех торжественных выходах она после царевен должна была занимать первое место.
Отслужив поэтому молебен, архимандрит Павел поздравил ее с царской милостью.
– Ты, отец архимандрит, просто пророк! – воскликнула удивленно Анна Петровна. – Ты знаешь больше, чем я сама. К тому же удивительный сон снился мне сегодня: снится мне, что возвеличена я царицей… Да и ты приснился… Вот сон и в руку. Да откуда ты узнал – я-то и сама не знаю.
– Стрешнев сказывал.
– А! Спасибо, добрый вестник… Теперь пойдем, благослови трапезу, коли обедня отошла… – Она повела его в столовую.
Весь завтрак состоял из вареных и жареных рыб, пирогов и тому подобного, и все было хотя постное, но прекрасно приготовленное и роскошно обставленное.
Водка, романея и венгерское не были забыты.
Отец Павел скромно ел и скромно пил, оставляя остальной аппетит для Стрешнева, который пригласил его на свой обед к двенадцати часам.
После обеда, помолившись набожно, хозяйка отпустила всех присутствовавших на трапезе и пригласила архимандрита в комнату, т. е. в ее рабочую, для душеспасительной и тайной беседы.
В подобных случаях никто уж не смел заглянуть туда, разве хозяйка сама потребует.
Рабочая комната боярыни благоухала духами, и все призывало более к неге, чем к труду: топчаны, мягкие ковры, скамеечки для ног, кушетки и мягкие стулья так и приглашали понежиться. Правда, в нескольких местах виднелись пяльцы с начатою работою: вышитые ширинки, церковные принадлежности, начиная с икон… Но это было скорее украшение, чем орудие труда.
По обычаю, гость должен был все это смотреть и похвалить хозяйку за искусство, прилежание и усердие к церкви.
После того хозяйка, усевшись и выставив, как бы нечаянно, свою ножку, обутую в бархатный башмачок, украшенный жемчугом, пригласила отца архимандрита сесть.
– А терем, – сказала она, – недоволен патриархом Никоном.
– Почему?
– Как же быть-то им довольным… Никакого уважения к царским сродственникам: знаешь, жена Глеба Ивановича Морозова, боярыня Федосья Прокофьевна, да родная сестра ее Евдокия Урусова уж как просили за протопопа Аввакума, а тот его в ссылке держит… А ведь того не знает патриарх, что сам-то Борис Иванович иначе не говорит невестке, как: приди, друг ты мой духовный… Пойди ты, радость моя душевна.
– Ахти! Какие страсти, – удивился отец Павел.
– Вот ты пойди с ним… А за что? Зачем, дескать, Аввакум двуперстно крестится… Зачем-де написал «слово плачевно» и ответ на «крестоборную ересь». А сам-то клобук-то надел двурогий, точно у греков… Вместо «Микола» исправил в требнике «Николай»… А иконы велит в оружейной будто живые писать.
– Ахти, какие страсти! – воскликнул вновь отец Павел, забыв, что он сам говорил в Чудовом монастыре проповеди в уличении раскола.
– Вот видишь, и тебя это дивует… А уж о попах и не подходи к нему… Скажет ему аль боярыня, аль иная особа: уж ты смилуйся, святейший, дай местечко моему духовнику… а он: «Нет у меня мест для кукол… он, матушка боярыня, не токмо службы не знает, да и читать-то не умеет…». Да и отметит у себя, а там гляди, духовника подальше от Москвы, да в дальнюю деревню… И плач, и рыдание, и недовольство всякое… Не то что при Иосифе: коли боярыня придет к нему, тот всякие угождения учинит и не откажет.
– Тот был патриарх как патриарх! – воскликнул одобрительно отец архимандрит.
– Да и в царском-то тереме Никону нет уже веры… Молился он… молился, да дарует Господь Бог царице сына… ан у нее дочь родилась, а царь и назови ее Софиею, тоись премудрость; значит, поумней, царица, и роди сына.
– Не усердствовал в молитве, значит, – подсказал ей архимандрит.
– Какое там усердие… Вот, как пошла София царица в Сергиевскую-то обитель да поусердствовала, так и сын родился… отец Иоанна Грозного.
– Пущай и царица поусердствует.
– Поусердствует-то она, да вот что… Нужно усердного богомольца… а в Никона веры нет, все-де дочери нарождаются… Правда, с его благословения Алексей Алексеевич народился… да ведь не ровен час… Нужен, значит, еще сын.
– Это можно, только поусерднее молиться… Сорок дней поститься… а там молебен… да потом накрыть эпитрахилем… да прочитать молитву.
– Праздничный сон до обеда в руку, – бают люди, – ведь снилось мне, что ты то ж самое говоришь мне и во сне, святой отец, уж ты поусердствуй да молись.
– Приготовлюсь я постом и молитвой, – поднял отец Павел набожно глаза к небу, – с сегодняшнего же дня.
Отец Павел простился с хозяйкой и вышел, сопровождаемый ее благодарностями.
VIIIТриумвират
У Стрешнева сидят Алмаз Иванов и Богдан Матвеевич Хитрово.
Они сильно озабочены. Достигли они того, что к Никону новые дела государевы не поступают, а к нему обращаются только по тем, которые начаты им, и больше для разъяснений, нежели для решения. Явно идет упразднение его государственной деятельности. Патриарха Никона это нисколько не печалит – у него слишком много дум и забот по делам патриаршим и по печатному делу. Но в правительстве чувствуется его отсутствие: нет того решительного голоса, который руководил всем, которого слушались все безусловно и который приводил все к единству стремлений и действий. Приказы начали действовать врознь, и сила, и власть их стали определяться степенью влиятельности и силы боярина, который заправлял ими. В провинции степень власти и значения воеводы стали определяться тем же самым. Очевидно, что одних приказов воеводы слушали, других – нет. Испытали это на первых же порах люди, устранившие Никона, да с этим они еще мирились. Но было зло еще худшее: церковь была в то время одним из самых крупных собственников, выставляла она поэтому много ратных людей и давала много сборов на военные надобности, и при Никоне все шло в порядке, так как монастыри и церкви не смели ослушиваться его распоряжений; а когда заговорили с ними непосредственно приказы, они стали отвиливать, ссылались на разные льготы, привилегии.
Самое же главное было то, что перестали чувствоваться система и единство действий. Как думного дьяка, начали обеспокоивать Алмаза Иванова и Хитрово; последний в особенности не знал зачастую, что и как докладывать царю.
Собрались они теперь поэтому к Стрешневу, чтобы потолковать между собою: как быть? на чем остановиться?
– Что же, – сказал Стрешнев, – коли вы без попа Берендяя не можете жить, целуйтесь с ним.
– Ты все в шутку обращаешь, Родивон, – заметил Алмаз, – а здесь так: аль Никона нужно слушаться, аль он должен уйти из патриаршества. Без головы патриарха мы бессильны в боярской думе и в других делах. Куда ни кинь, везде клин: везде, гляди, аль церковь, аль монастырь замешан. Вот и отправляй дело в монастырский приказ, а тот без патриаршего благословения ничего не делает.
– Сделай так: пущай Никон оставит сам патриаршество.
– Да как же это сделать? – заметил Хитрово. – Я и сам говорил об этом царскому величеству, да сделать-то это не так легко.
– Вот я начну, а там ты доканчивай… Кстати пожаловал к нам и отец Павел.
Вошел отец архимандрит, триумвират встретил его радостно.
– Я только что от тетушки твоей, – обратился он к Хитрово.
– А? – расхохотался Богдан Матвеевич. – Насчет… понимаю… она у меня умница, она хочет тебя – в митрополиты… держись ее и будешь – ведь она теперь первая боярыня. А терем, известно, и в патриархи возводил.
– Уж, боярин, не откажись замолвить словечко царю, коли ослободится митрополичья кафедра.
– Скоро, скоро ослободится – пущай Никон лишь уйдет.
– А вот и гости приехали – воскликнул Стрешнев.
Сразу подкатило множество саней; это была вся почти знатная московская молодежь.
Дворецкий Стрешнева, высокий, широкоплечий боярский сын, в обшитом галунами армяке принимал на крыльце гостей и вводил их в хоромы.
Стрешнев с друзьями своими перешел в переднюю и там принимал приезжающих.
Молодежь шумно повела беседу о городских сплетнях: все вращалось на лошадях, попойках, выигрышах и проигрышах, охотах и травлях, так как с запрещением публичного пенья, игрищ и зрелищ молодежь бросилась в разные другие потехи…
IXКровная обида
Сплетни, кляузы и доходившие ежедневно до Никона слухи о волнении в народе по поводу исправленных им книг и икон, волнения в Соловках и Макарьевско-Унженском монастыре сильно тревожили и огорчали его.
Искал он поэтому уединения и еженедельно дня на два уезжал в свой «Новый Иерусалим». Были уже воздвигнуты у него и стены, и часть монастыря, но сооружение главного храма шло медленно.
Как только приедет туда патриарх, он тотчас разоблачается и вместе с монахами, которых насчитывали до тысячи человек, работает то каменщиком, то плотником, то столяром, и спорится как-то у всех работа, и, точно муравьи в своем гнезде, копошится этот люд, руководимый своим великим подвижником.
И гляди, несмотря на скудость средств, поставлена вокруг монастыря ограда в четыре с половиною сажени в вышину с амбразурами и навесными бойницами для того, чтобы отбиваться от врага, коли он пожалует: стена имеет вид шестиугольника с 8 башнями.
Вокруг ограды разведена широкая аллея, и с ее сторон имеются обрывы, поросшие лесом.
Внизу с северной стороны виднеются две часовни с колодцами: первая названа колодцем Самарянки, вторая Силоамская купель.
С западной стороны от аллеи лестница, ведущая в другую аллею, идущую к никоновскому скиту.
Так как Никон имел при рождении имя Никиты Столпника, то он построил себе скит в виде башни. Это узкое каменное трехъярусное здание. В первом этаже имеется место для церкви (уж не во имя ли Никиты хотел он ее сделать?), комната для служителей, кухня и маленькая келья. Во втором этаже – трапезная с окном в стене, в которое подавали пищу из кухни. В этом же этаже две кельи для служащих. Из трапезной ведет узкая винтообразная лестница в третий ярус. Этот этаж занят печами: хлебной и просфорной, а влево виднеется келья, за нею приемная патриарха и рядом другая келья. В келье этой висел портрет патриарха; рядом с нею крошечная церковь Богоявления Господня.
На плоской крыше скита, имеющей перила, находилась летняя келья патриарха; каменное ложе этой кельи было скорее скамьею, так как оно имело всего полтора аршина, а настилка на ней была тростниковая.
Против кельи на крыше маленькая церковь во имя св. апостолов Петра и Павла и позади нее стол с одним колоколом.
В этой-то башне поселялся Никон, когда приезжал в монастырь, и отсюда он отправлялся на работу, которая шла неустанно весь день с небольшими перерывами для отдыха.
Затеи же Никона была грандиозны: строился, кроме обширного монастыря на тысячу человек и кроме храма Воскресения, еще и зимний храм во имя Рождества Христова.
При скудных средствах Никона работа еще шла довольно успешно; правда, нужно отдать справедливость царевне Татьяне Михайловне: кроме того, что она перенесла в Новый Иерусалим нетленную руку св. Татьяны, но она присылала патриарху и деньги, и хлеб, и утварь.
Летом 1658 года в этом же ските ночевал Никон. Еще до света он проснулся, умылся, помолился и на крыше скита любовался восходом солнца и окружающими его видами.
– Вот мой Иордан, – подумал он, глядя на извивающуюся вдали реку Истру, – и вот этот ручей, обтекающий с трех сторон монастырь, поток Кедронской, а вот и Иосафатова долина… а это сад Гефсиманский… а вон в саду мой дуб Мамврийский.
Он любовно осмотрел вновь всю окрестность и по узкой лесенке спустился в третий этаж, а потом – в трапезную. Здесь он застал послушника: тот пал ниц перед патриархом. Никон благословил его и сел к деревянному столу.
Послушник взял у стоявшего по ту сторону окна монаха деревянную миску щей, деревянную ложку, кусок черного хлеба и поставил все это перед патриархом. Никон помолился, съев полмиски, снова помолился, поблагодарил послушника и спустился вниз. Там ждал его архимандрит Аарон, строитель монастыря.
Это был небольшого роста худощавый монах с острым носом и чрезвычайно умными глазами.
Благословив Аарона, Никон обратился к нему:
– Я слышал ночью шум и стук колос – уж не привезли ли нам материала?
– Прислала царевна Татьяна Михайловна и камня, и лесу.
– Да благословит ее Господь Бог, значит, у нас работа подвинется… Пойдем, Аарон, и я сегодня помогу братии.
– О, святейший патриарх, уж ты бы не трудился, и без тебя здесь много рабочих.
– Чего жалеть свою плоть, – усмехнулся Никон. – Не жалею я своего тела, лишь бы свершить Божье дело… Мы строим здесь не на один день, а будут стекаться сюда тысячи и будут благословлять наш труд, и вспомянут потомки и мое, и твое имя, Аарон, как строителей сей обители и храма.
Они пошли по аллее, потом по лестнице и забрались в другую, ведшую вокруг церковной ограды.
Никон осматривал по дороге каждое дерево, как бы ведя с своими питомцами беседу; когда же они вошли в монастырские ворота, все, не останавливаясь, только снимали свои шапки.
Они пошли в мастерские: в столярной и слесарной работа шла оживленно для украшения и сооружения монастыря и храмов; имелась даже иконописная мастерская, где под наблюдением и руководством самого Никона приготовлялись иконы. Существовали еще мастерские для удовлетворения монастырской братии обувью и одеждою. Повсюду был образцовый порядок и шла оживленная работа. Везде патриарх делал замечания, наставлял, указывал и учил. Несколько часов шел это осмотр; потом Никон вышел на работы по сооружению храма. Здесь он сбросил рясу и взялся совместно с другими тащить на носилках камень на леса.
Несколько часов проработавши так, он по обеденному звону колокола оставил работу, накинул на себя рясу и побрел в свой скит для трапезы.
С ним был и архимандрит Аарон. Забравшись в ските во второй этаж в трапезную, они уселись за деревянный стол, и подано им послушником чрез окно по миске щей, по миске гречневой каши да по два жареных лещика при зеленых огурцах, а на питье поставлено по кружке квасу и пива.
После этого скромного обеда собеседники разошлись. Архимандрит ушел к себе в монастырь, а патриарх забрался на верх крыши в свою келью, где он присел отдохнуть.
Свежий воздух, утомление и спокойствие в этом уединении подействовали на него благотворно, и он сидя заснул.
Снится ему странный сон: он окружен какими-то гадами, змеями, пиявками; все это ползет к нему, хочет вцепиться в него; он душит и давит их тысячами, но те являются еще в большем количестве, впиваются в его тело… он наконец начинает изнемогать… он чувствует, что они одолеют его…
Он просыпается, пред ним стоит послушник.
– Святейший патриарх, – говорит он, – из Москвы из Чудова монастыря архимандрит Павел…
– Павел?., а!., хорошо… проси его в приемную.
Патриарх оправляется и спускается в приемную.
При его появлении отец Павел распростерся, потом подошел к его благословению.
– Уж не пожаловал ли ты сюда посмотреть мое хозяйство? – спросил благосклонно Никон.
– Нет, святейший патриарх, за недосугом – в иной раз… а я вот с патриаршим делом.
И при этом он подробно рассказал, как при собрании детей именитейших бояр Стрешнев заставил собаку подражать, как патриарх молится и благословляет народ.
– И ты можешь это подтвердить под пыткой?..
– Как и где угодно. Да вот моя грамотка за моим рукоприкладством, да и список всех присутствовавших при этом.
Дрожащими от гнева руками Никон взял из рук его бумагу, прочитал ее и обратился к нему:
– Возвращайся тотчас в Москву и вели благовестить в Успенском соборе… я поспею к вечерне… а назавтра вели из патриарших палат дать знать во дворец и боярам: будет-де завтра, в воскресенье, патриаршее служение соборне…
Отец Павел простился и тотчас возвратился обратно в Москву.
Гнев Никона не имел границы и меры.
– Эти издевки неспроста, – говорил он сам с собою, – кабы это было кем-нибудь иным, сказал бы: безумен он, не ведает, что творит… А то Стрешнев? Царский сродственник… да при ком?.. При детях и сродственниках бояр и царского дома… Смолчать нельзя… опозорено не только патриаршество, да и все духовенство… все святители… опозорена церковь… Я должен снять позор… дерзкого я должен наказать… и накажу… всенародно покараю…
Он ударил в ладоши, явился послушник.
– Лошадей… в Москву… сейчас…
Послушник побежал исполнить приказание Никона.
Патриарх поспешно умылся, оделся и спустился из своего скита в аллею, шедшую мимо ограды.
Его коляска и небольшой штат, сопровождавший его, были уже готовы.
Патриарх помчался в Москву.
Он успел к вечерне; Иван-колокол загудел, когда он въезжал в Кремль.
Никон прямо подъехал к Успенскому собору, и народ восторженно его принял. В это время Никон сделался всеобщим любимцем – Москва им гордилась, как гордилась она впоследствии митрополитом Филаретом. Да и было им чем гордиться: такого святителя после митрополитов Петра и Филиппа Москва не имела. Доступный народу, он держал себя в отношении бояр гордо и недоступно и не делал никому никаких поблажек. Справедливый и строгий, он был единственный человек в целом государстве, не делавший поборов и не бравший взяток, а между тем для нуждающихся и бедных его казна была открыта.
Имя Никона поэтому гремело по всей Руси, и чтилось оно не только в дворцах, хоромах и теремах, но даже и в отдаленных избах захолустий.
Неудивительно после того, что звон, возвещавший вечерню, на которую прибудет патриарх, означал, что он будет служить и на другой день, и поэтому в воскресенье для слушания обедни собралась в Успенский масса народа.
Прибыл в собор и царь, а с ним и двор, и боярская дума, и царица с детьми и родственниками.
Началось архиерейское служение, и Никон показался всем необычайно бледным и болезненным. В том месте, где провозглашается: «изыдите оглашеннии», патриарх вышел на амвон и начал говорить на тему «о грехе издеваться над служителями алтаря». Слово его было полно достоинства и негодования; доказывая на основании святого Евангелия всю непристойность и греховность этого безобразия, он прямо указал на неприличную выходку Стрешнева, причем он провозгласил, что он по архипастырской своей обязанности не может оставить это безнаказанным и потому предает его проклятию.
Едва он кончил, как протодьякон, выйдя посреди церкви, торжественно предал боярина Симеона Стрешнева проклятию.
Неожиданность эта страшно смутила всех, в особенности, когда ближний боярский сын патриарха князь Вяземский подошел к Стрешневу и велел ему, как оглашенному, выйти из церкви.
После того служба пошла своим порядком, но вся царская семья была в неописанном смущении, и, когда кончилась служба и они приложились к животворящему кресту, все тотчас уехали.
Никон торжествовал: он видел смущение двора и бояр, и это его радовало; за публичное оскорбление он отвечал тем же и показал, что патриарха оскорблять нельзя безнаказанно и что он не пощадит никого, как бы высоко ни стояло это лицо. Предал он проклятию родного брата царицы…
Стрешнев и его партия, т. е. враги Никона, воображали, что он начнет против него суд и оскандалится, а тот неожиданно распорядился по-своему и сделал им публичный скандал.
Прогремевшая в Успенском соборе «анафема» произвела поэтому двоякое действие: народ весь стоял на стороне патриарха и говорил об его справедливости и беспристрастии.
Зато двор и боярство сильно восстали против него и обвиняли его в своеволии: «Без суда-де патриарх не в праве был этого сделать».
Сторону Никона приняла, однако ж, Татьяна Михайловна. В это время она перебралась в терем, так как тот был отстроен, и она по уму, по богатству своему и по влиянию на царя господствовала там.
Она помнила, как Стрешнев устроил было скандал ей самой и душевно радовалась, что Никон нашел случай ему отплатить.
Но царь разгневался не на шутку на патриарха за неожиданное для него проклятие дядюшки, тем более что Богдан Хитрово и Матвеев подбивали его «за самоволие патриарха предать его суду».
– Но какому суду? – спрашивал царь.
– Суду митрополитов и архиереев.
– Не знаешь ты, Богдан, церковных правил, – молвил царь, – патриарха может судить лишь вселенский собор.
Во время этой беседы в Покровском селе, где теперь жил весь двор, явился стольник и доложил, что царское величество приглашается царевною Татьяною Михайловною в терем.
Царь был с сестрами своими очень вежлив и ласков: он всегда являлся к ним по первому же их зову.
Татьяна была его любимица: игривая, ласковая, любящая до обожания брата, она глубоко ему сочувствовала, и он от нее ничего не скрывал и разделял с нею свои горести и радости. Притом они росли вместе и играли вместе и так привыкли друг к другу, что когда Алексей Михайлович уезжал в поход, он получал от нее письма, и как бы он ни был занят и где бы он ни был, он всегда ей отвечал. Поныне много его писем к ней сохранилось в государственном архиве.
Вот почему он охотно к ней заходил: так как она умела всегда рассеять много его сомнений и поддержать его в его начинаниях.
На зов ее и теперь он пошел в веселом расположении духа.
Вострушка Таня встретила его с распростертыми объятиями, расцеловала и усадила в своей уютной приемной. Это была прелестная гостиная, уставленная мягкою мебелью и убранная коврами. По случаю лета окна были открыты в сад, откуда шел запах цветов, растущих в клумбах.
– Что, вострушка моя, – обратился он к царевне, – ты так торжественно пригласила меня к себе?
– Да все это противное дело нашего дядюшки, оно покою мне не дает.
– За кого ты дьячишь?..[36]36
В то время это означало ходатайствовать.
[Закрыть] уж не за Семена ли Лукича… успокойся, я и без того уже так гневен на святейшего… всему царскому дому сделал позор.
– Нет, видишь ли, братец[37]37
Это обхождение историческое.
[Закрыть], я ино толкую… виноват патриарх: без тебя и твоего соизволения не должен он карать, да еще всенародно. Да подумай сам коли допущать над святейшим издевку, так что молвить о попах?..
– Не одобряю Стрешнева, не одобряю и Никона… Зачем не бил челом, мы бы наистрого и наикрепко учинили сыск и выдали бы ему Стрешнева головой.
– Оно-то так, да ведь и Никон-то, святейший, человек… вот гляди, братец, его грамотка ко мне: плачет он, что вышло-де так… а сделал я, – баит он: патриарха-де достоинство поддержать. Ставит дядюшка ваш Семен и собаку, и патриарха на одну доску. Это позор и для церкви Господней и для царского дома. Коли не почитать отцов церкви, то зачем и избирать патриарха? И не дам я на посрамление ни храма Божьего, ни его служителей. А пред царем каюсь и молю прощения: виноват я, ему не докладывал.
– Кается? Не было бы провинности, не было бы покаяния. А ты вот что скажи, Танюшка, пригоже что ль да патриарху учинить дурное, а там каяться.
– Святейший души доброй, жаль ему стало тебя, братец, и нас, – вот он и пишет: благословляет и тебя, и нас: я и просила тебя прийти: уж ты прости святейшего, служил он тебе верой и правдой, ничем не досаждал, а от всякого зла ограждал, ты ему прости, а я ему отпишу.
– Да ты послушай, что-де бояре бают: не потрафит завтра царь Никону, он и его проклянет. Отряхал же он прах со своих ног в моей комнате. Никон коли рассердится, не помнит себя, уж такой норов.
– Святейший знает себе цену.
– Пущай так, каждый должен знать себе цену; да уж он больно строптив.
– Да ведь он собинный твой друг, – заметила она, – а над собинным другом царя и издевка непригожа.
С этими словами она упала на колени, начала целовать его руки, и прекрасные ее глазки глядели так жалостно, что Алексей Михайлович не устоял.
– Уж ты отпиши ему, сестрица, как знаешь, а я, право, ну, уж Бог его прости! пущай… молится за наши грехи… а мы прощаем ему. – Он нагнулся, поцеловал Таню и вышел.
Когда он возвратился в свою комнату, он обратился к Богдану Хитрово.
– Уж ты о святейшем больше мне не упоминай… Теперь с соколами во поле – чай много перепелов наловил.
Несколько минут спустя на отъезжем поле царь уже тешился успехами соколов, кречетов и ястребов.
Охота была двойная: выгоняли из кустарников и хлебов зайцев, и здесь отличались борзые, а перепела, выгнанные из хлебов, излавливались на лету соколами, кречетами и ястребами.
– Молодец Ябедин, ай да Терцев, экий хват Головцын, шустер ты, Неверов, – восклицал только царь, одобряя ловчий путь, т. е. управление охотой, а сам он в это время подумывал: «Нанес мне кровную обиду святейший, и сердце как-то впервое не прощает ему. Уж не собинный ты мне друг, коли проклял дядю».