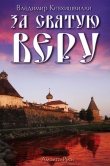Текст книги "Великий раскол"
Автор книги: Михаил Филиппов
Соавторы: Георгий Северцев-Полилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 52 страниц)
XX
На другой день после допроса в подклеть, в которой были посажены узницы, явился думный дворянин Илларион Иванов.
– Как почивать изволили? – насмешливо спросил он, – поди, райские сны снились? Аввакумку пса во сне видели?
У Морозовой готово было вырваться резкое елово, но удержалась.
– Отвечать мне не хочешь, кичливая? Ин будет по твоему, помолчим!
И думный дворянин вышел из подклети. Немного спустя он вернулся туда вместе со стрельцами, которые несли два стула с цепями.
– Вот вчера, боярыня, не хотела ты на ногах стоять, больные они у тебя, – снова обратился Илларион к Морозовой, – ноне мы твое желание уважили: стульцы для вас обеих приготовили, да еще какие! Смотри-ка, чтобы не свалились вы с них, цепочкою шею поприхватим, – не опасно будет!
Федосья Прокопьевна, не вздрогнув, посмотрела на цепи и, истово перекрестясь двухперстным крестом, поцеловала железо, промолвив:
– Слава Тебе, Господи, яко сподобил узы возложити на себя!
Стрельцы, сняв оковы с ног обеих узниц, стали заковывать железо вокруг шеи.
Сестры повиновались, помогая накладывать тяжелые узы.
Стрельцов поражала покорность молодых женщин. Многие из стрельцов были последователями Аввакума и неохотно исполняли приказ.
Обеих женщин вынесли прикованных к стульям на стоявшие у входа в подклеть дровни и положили на солому.
Прежде, чем выехать со двора, дровни пропустили мимо себя парадную карету Морозовой, запряженную по обыкновению двенадцатью конями. Спустившись с красного крыльца, поддерживаемый под руку старым служителем, в карету поместился сын Федосьи Прокопьевны, Иван Глебович. Он ехал во дворец по желанию государя, противиться которому он не желал: напротив, он даже стремился скорее свидеться с царем-батюшкою, чтобы попросить его за свою мать.
О том, что она лежит рядом, скованная на дровнях, юноша не знал.
Молодой Морозов полагал, что его поездка во дворец связана с освобождением матери и тетки, а также со сватовством к княжне Пронской. «Спасибо дяде, князю Петру, – думал он. – Не забыл своего обещания».
Старый служитель, усадив боярина в карету, вскочил на узкую доску, тянувшуюся по обеим сторонам полозьев, и крикнул вознице:
– Под царские переходы…
Сытые кони дружно подхватили тяжелый экипаж и вынесли его из ворот.
Около кареты побежала толпа челядинцев, неизбежная принадлежность выездов богатых вельмож того времени.
Стоявшие у ворот любопытные поглазели на роскошный выезд, погуторили о нем и уже хотели было расходиться по домам, как вдруг заметили дровни, выехавшие следом за экипажем.
– Э, да никак Морозовских стариц к допросу везут! – крикнул кто-то из толпы.
Дровни, скрипя на повороте полозьями, выкатились на узкую улицу.
Обе сестры не скрывали своих лиц и смело глядели на народ. Морозова, высоко подымая персты правой руки, сложенные по-староверски, и звеня цепями, громко говорила:
– Тако надлежит креститися!
– Ой, да никак это самое боярыню повезли! – раздались голоса среди толпы. – Бедная! Как страждет ради веры истинной, православной!
XXI
Вызов молодого Морозова во дворец никак не был связан с князем Петром. Князь Урусов и не заикнулся царю о племяннике.
– Жалко мне сына моего верного слуги Глеба Морозова, – сказал Алексей Михайлович боярину Матвееву, – почто погибать ему ради безумств его матери? Приближу к себе, а там за годами може и на воеводство куда-нибудь ушлю, ежли разум выкажет!
Царь задумался.
«Кто знает, может быть, на меня глядя, и эта гордыня кичливая образумится», – подумал он о Федосье Прокопьевне.
В те времена по дворцовому этикету царю оказывали особенный почет.
Приезжавшие подходили ко дворцу пешком, оставляя лошадей и экипажи довольно далеко от входа. Многие из простых малочиновных людей, еще издали завидя царское обиталище, снимали шапки и, таким способом «воздаючи честь государю», проходили мимо.
Особенно строго воспрещалось проезжать под каменной преградой, где находились царские переходы.
«С площади никого не пущать, о том караульщикам приказать накрепко», – гласили тогдашние приказы. – «Переходы с дворца на Троицкое подворье запереть и никого в те двери и на переходы без государского шествия и без именного указа не пропущать, но тот приказ с великим подкреплением детям боярским, истопникам и сторожам, которые стоят в том месте и у светлишной лестницы. Дворовых людей, как их позовут в «верх», за столовым и вечерним кушаньем к царице и царевнам пропущать на светлишную и на каменную лестницы за все преграды»…
И, несмотря на всю строгость указов, государь высказал свое желание, чтобы парадный поезд с молодым Морозовым остановился у этих переходов, а дровни с самой боярыней и ее сестрою были провезены под ними.
Алексей Михайлович желал сам лично посмотреть на униженную Морозову, хотел, чтобы она почувствовала стыд и раскаяние, когда ее с великим бесчестием провезут по тем улицам, где еще недавно она ездила с превеликою честью!
Не скоро оба поезда, парадный с Иваном Глебовичем, да позорные дровни с униженною его матерью, добрались до дворца.
Как только разошелся слух по Москве, что «добрую боярыню для ради ее твердого стояния за древнее благочестие» с позором повезут по улицам, громадная толпа народа теснилась вокруг ее дровней, выражая ей свое соболезнование и участие. Бесчестие боярыни Морозовой и ее сестры доставило укреплявшемуся расколу еще более приверженцев. Никогда фанатическая брань Аввакума или его сотрудников не привлекала столько поборников и радетелей к двухперстому перстосложению, к сугубой аллилуие и прочим разностям необразованных последователей раскола.
Преследование Морозовой было ошибкою со стороны царя.
Наконец, морозовская карета приблизилась к Кремлю; невдалеке за нею тащились дровни с узницами.
– Скажи позадержать маленько дровни-то! – приказал Алексей Михайлович.
Из подъехавшей к переходам дворца кареты вышел, ведомый под руку слугою, молодой Морозов.
Он робко огляделся вокруг и, предшествуемый внутренней дворцовой стражею, состоявшею из стольников, стряпчих и низших служителей, вступил в царские покои.
– Великому Государю доложено будет о тебе, Иван Глебович, – сказал стольник Хитрово, – обожди!
Юноша послушно последовал за своим вожатым в сени.
Государь не желал, чтобы молодой Морозов увидел, как повезут его мать под Кремлевскими переходами.
Сам Алексей Михайлович вошел на один из переходов и сделал жест рукою, чтобы дровни с узницами везли дальше.
С сожалением взглянул он на прикованных к стульям сестер. Он вспомнил в эту минуту о том высоком положении, какое еще недавно занимали обе сестры при дворе, и на глазах царя показались слезы.
– Сумасбродки! – прошептал он.
Морозова, заметив царя, стоящего на переходах, снова высоко подняла правую руку с двухперстным крестосложением и, потрясая звенящими цепями, закричала:
– Тако крещуся!
Возница хлестнул лошаденки, и дровни оставили за собою царский дворец.
Обеих сестер разлучили.
Федосью Прокопьевну свезли на подворье Печерского монастыря и посадили под крепкий караул стрельцов. Железные оковы с нее не сняли, но только отковали от стула.
Сестра ее, Евдокия Прокопьевна, была водворена в Алексееве кий монастырь.
Илларион Иванов, сдавший Урусову монахиням, сказал им:
– Возьмите ее под крепкое начало. Государь великий помышляет, что она еще образумится, ибо заразилась от сестры своей!
Думный боярин знал, что князь Петр, муж узницы, в милости у царя. Это заставляло его относиться к княгине снисходительно. Кто знает, а вдруг князю Петру удастся упросить государя помиловать жену, тогда он все еще припомнит!
Но Урусов совсем отступился от жены. Хитрый потомок татар понимал, что заступаясь за нее, он только повредит себе, и молчал.
– Водите ее кажинный день в храм Божий, – продолжал свой приказ монахиням думный дворянин, – блюдите за ней неукоснительно, чтобы она своих выдумок не показывала!
На другое же утро к Урусовой явилось несколько монахинь, чтобы вести ее в церковь.
Но Урусова идти отказалась.
– Как я пойду в ваш собор, когда там у вас поют не хвалу Бога, но хулу, и законы его попирают!
– Перекрестись, княгиня, что ты такое глаголешь непотребное?
Ужас объял монахинь.
Усмехнулась Урусова.
– Не пойду я туда! – решительно ответила она им.
О ее отказе сообщили думному дьяку Иллариону Иванову, и он повелел носить ее к службе на носилках.
Княгиня притворилась больною и просила монастырские власти разрешить, чтобы ее посетили домашние.
Под видом последних к Урусовой явились старицы, жившие у ее сестры Морозовой, между прочим, и Мелания.
– Стой твердо, княгиня, за старую веру, не соблазняйся новшествами, не приемли лесть никониан! – убеждала ее суровая раскольница, – во храм, пока там не хвалу, а хулу на Господа поют, не моги ходить!
Духовное подкрепление со стороны своих единомышленниц оживило Евдокию Прокопьевну: она возвеселилась духом.
Монахини поняли, что узница их притворяется, а вовсе не больна, и снова настоятельно требовали, чтобы она шла к «четью-петью» в церковь.
Силою удалось уложить ее и снести в церковь, но и здесь она не хотела обращать ни на что внимания и не только не соглашалась молиться, но продолжала лежать, как мертвая.
На следующий день произошло то же самое, но тем не менее монахини продолжали ежедневно волочить упрямую женщину в церковь.
Заставить ее идти саму или молиться во храме не было никакой возможности.
Выводимые из терпения ее притворством, старицы Алексеевского монастыря даже «дерзостно заушали» Урусову, повторяя:
– Горе нам! Что нам делать с тобою; сами мы видим, что ты здорова и весело беседуешь со своими, а как мы придем звать тебя на молитву, ты внезапно как мертвая станешь; и должны мы трудиться, переворачивать тебя, как мертвое тело!
– О, старицы бедные, – ответила им Евдокия Прокопьевна, – зачем напрасно трудитесь; разве я вас заставляю? Вы сами безумствуете, вотще шатаетесь! Я и сама плачу о вас, погибающих!
Долго продолжалось подобное «волочение» княгини к «четью-петью» во храм Божий. Наконец, сами инокини утомились этим издевательством над ними упрямой фанатички и стали молить игуменью:
– Освободи ты нас, госпоже, от этого послушания: втуне мы трудимся, не возможно образумить сию изуверку!
Игуменья выслушала их жалобу и отправилась в тот же день к патриарху.
– Уволь нас, святейший патриарх, от сраму! Кажинный день, как «волочать» Урусову в церковь Божию для смирения, вопит она на весь мир отповедь! Соблазн великий по всей Москве расходится! Все о ней на Москве наслышаны! Вместо полезности один вред выходит, в мученицы ее возводить стали!
Патриарх задумался. Он понимал, что так дольше не может продолжаться.
К вечеру же того дня патриарх посетил государя.
– Прости, государь великий, за совет мой! Довели возвратить княгиню мужу, а сестру ее боярыню Морозову верни в дом. Бабье их дело, смысла мало, а соблазну творится много! О них многие знатные особы соболезнуют…
Государь пытливо взглянул на патриарха.
– Не знаешь ты, святейший отец, упорства Морозовой! Призови ее я себе, спроси – и сам познаешь ее твердость.
На другой день государь велел снова привести молодого Морозова.
Иван Глебович не возвращался в родной дом с тех пор, как был привезен во дворец.
– Ну, Иван, – ласково встретил царь молодого Морозова, – доволен ли ты житьем своим у меня, не обидел ли кто тебя?
– Нет, государь батюшка, никто не обижал.
– Слушай, Ванюшка, – снова проговорил царь, – великую ты мне службу сослужил бы, коли мог бы свою мать упрямую уговорить свое безумство бросить.
Морозов молча поклонился.
– Сегодня не ходи. Святейший патриарх ей сегодня допрос чинить будет. Ступай завтра.
– Исполню по твоему приказу, батюшка государь…
Царь жестом руки отпустил его.
XXII
О свидании молодого Морозова с царем заговорили по всему дворцу и князь Урусов решил снова сосватать племянника.
Широкие боярские сани, обитые темно-малиновым бархатом, запряженные тройкою коней, были поданы к дворцовой боковушке.
Дядя с племянником отправились к князю Пронскому.
– А я к тебе, князь, птенца малого, неоперившегося, привез! – весело проговорил Урусов, входя вместе с племянником в горницу.
Гости и хозяин поклонились друг другу в пояс.
Из-за неплотно притворенной двери, ведущей во внутренние покои, послышался чей-то шепот. Морозов обернулся к дверям.
– Ах!.. – раздалось за дверью, и защелка захлопнулась.
– Девчонки шалят, – благосклонно усмехнулся хозяин и пригласил гостей сесть.
– Аль не пьешь? – спросил Пронский Морозова, заметив, что юноша чуть-чуть притронулся губами к поданному меду. – Хвалю, кто с мол оду не пьет, тот и в старости свой ум не растеряет.
Между обоими князьями завязался разговор.
Морозов молча их слушал.
– Прости, князь, – заметил Урусов, – что не по обряду старинному ведем мы дело, да медлить нам нельзя.
Хозяин пытливо взглянул на гостя:
– А что? – спросил он.
– Сам знаешь: боярыня в опале, дом сиротой стоит, а Ваня у царя на иждивении.
Пронский изумленно взглянул на юношу.
– У государя великого?
– Да, государь беречь племянника повелел: ведь он теперь единственный Морозов на всю Россию.
В тот же вечер молодой Морозов был помолвлен с княжной Аксиньей Пронской.
XXIII
На небе еще мерцали утренние звезды, когда из ворот Печерского подворья выехали дровни, на которых сидела под конвоем двух стрельцов Морозова. По приказу патриарха ее везли снова в Чудов монастырь.
Во вселенской палате, куда внесли Морозову, кроме митрополита Крутицкого Павла, архимандрита Чудовского Иоакима и думного дворянина Иллариона Уварова, находился сам патриарх Питирим и несколько бояр.
Питирим обратился к сидящей перед ним женщине:
– Как же ты, боярыня, прельстилась Аввакумкиной лестью? Брось свои мечтания, воссоединись с истинной церковью.
– Была она раньше истинной, но ныне развращена Никоном.
Патриарх вздрогнул:
– Какую мерзость ты глаголешь, исповедуйся…
– Кому же мне исповедаться? – спокойно спросила Морозова.
– Да разве мало пастырей на Москве?
– Много их, но истинных нет.
– От гордости помутился ее разум – прошептал Питирим, – подайте сюда освященное масло да сучец, помажу ее, может, смирится.
Морозова старалась выбиться из рук державших ее стрельцов.
Патриарх хотел уже помазать сучцом ее лоб, как Морозова отчаянно воскликнула:
– Не мажь меня отступным маслом, не губи!
– Как ты смеешь называть так святой елей! – проговорил патриарх с негодованием.
– Слава тебе, Боже, что спаслась отступного помазания, – прошептала Морозова, – твоими молитвами, старец Аввакум!
Услыша имя Аввакума, Иоаким улыбнулся:
– Не будет этот льстец больше смущать вас, крепко держат его в Пустозерске.
Боярыня вздрогнула, узнав об участи Аввакума.
В палату ввели для допроса Урусову и Марью Данилову, жену стрелецкого полковника.
Она успела бежать в Подонскую страну, на Дон, но была там поймана, привезена в Москву и посажена с Урусовой.
Морозову понесли обратно на Печерское подворье, а Урусову патриарх велел держать за руки и, обмакнув в елей сучец, хотел намазать ей лоб.
Точно ужаленная, отпрыгнула княгиня в сторону.
Стрельцы снова схватили ее за руки и хотели подвести ее к Питириму, но ей опять удалось вырваться.
– Уведите их вон, – еле слышно проговорил Питирим.
Узниц тотчас же повели из палаты.
– Попробуем последнее средство, – предложил митрополит Павел, – пошлем к Морозовой для увещания митрополита Иллариона Рязанского.
Так и решили поступить.
Вернувшись в свое помещение во дворце, Иван Глебович не знал, куда ему деться от радости.
Он понимал, что брак дает ему возможность возвысить имя Морозовых, и теперь он мечтал, что царь будет посаженным отцом на свадьбе.
В небольшом помещении Морозову было жарко. У юноши заболела голова.
Иван Глебыч несколько раз прошелся по горнице. Он чувствовал, что шатается.
Он пробовал молиться, но мысли путались.
Юноша порывисто стал раздеваться, не зовя никого на помощь.
В голове его словно замелькала пестрая нить. Он вспомнил, как ласкал его старик-отец, на глазах показались слезы, и, тихо всхлипывая, он стал засыпать каким-то странным тяжелым сном. Все в голове кружилось: он чувствовал, что падает в какую-то пропасть… И юноша потерял сознание.
На другой день утром князь Урусов послал справиться о помолвленном женихе.
– Спит еще, княже, – отвечал посланный, – дверь в горницу к нему заперта!
– Пусть его понежится, кудрявых сновидений навидится, – шутливо заметил князь Петр.
Через два часа Урусов прямо от царя снова отправился к племяннику.
Дверь по-прежнему была заперта: изнутри никто не откликался на вопросы.
– Эх, парень-то заспался, – недовольно прошептал Урусов и стал громче стучаться в двери.
По-прежнему ответа не было.
– Неладно там что-то, – тревожно проговорил князь и, позвав двух стрельцов, велел высадить дверь.
Из разбитой двери хлынул удушливый запах угара. Урусов бросился к неподвижно лежавшему юноше.
– Угорел! – с ужасом понял князь и, схватив племянника на руки, вынес из горницы.
Немедленно был позван государев лекарь Каролусь, но было уже поздно – молодой Морозов без страданий отошел в вечность.
XXIV
В один из дней боярыне сообщили о смерти сына.
Побледнев, она отшатнулась, прислонилась к стене, но не выронила ни слова.
Прошел день, и только к вечеру волнение, скрываемое внутри, вырвалось наружу. Упав перед образами, она горько зарыдала.
С этого времени она дала обет не принимать в пищу молока, сыра, яиц, употреблять же только еду с постным маслом.
Среди приверженцев старой веры пошли толки, что сын Морозовой отравлен.
Узнав о смерти молодого боярина, государь велел раздать имение, вотчины, стада коней. Золотая, серебряная посуда, драгоценности были распроданы, дом запустел, дворня разбежалась, часть ее перешла к другим господам…
Узнав, как содержится она в заточении, государь разрешил, чтобы Морозовой прислуживали две девушки.
Ими оказались Анна Амосова, с которой боярыня ходила когда-то по Москве, раздавая неимущим одежду и деньги, и Стефанида, но прозвищу Гнева. Мало кто знал, что обе они были тайными последовательницами ссыльного протопопа Аввакума.
Новая помощница оказалась и у сестры боярыни, Урусовой. Когда Евдокию Прокопьевну волокли в церковь, там случайно оказалась Акулина, дочь боярина. Узнав Урусову, она долго смотрела, как тащат ее в храм, и жалость проникла в сердце девушки. Придя через несколько дней к монахиням, она стала помогать им в хозяйстве, и вскоре так вошла в доверие, что ей поручили вместе с другими следить за опальной княгиней, а еще позже она одна стала вести это неприятное всем дело.
Еще до поступления в услужение к княгине Акулина сочувствовала старой вере, была знакома с Аввакумом и с матерью Меланией, и была тайно пострижена в иночество с именем Анисии.
Акулина близко сошлась с Урусовой, и теперь можно было вести переписку не только между сестрами, но и с ссыльным протопопом.
Акулина же устроила и свидание Урусовой и Морозовой.
В монастыре очень жалели княгиню, знали, что дома остались дети, и однажды ей было разрешено втайне посетить дом, чтобы повидать детей. Пообещав вернуться к вечеру, княгиня, закрывшись платком, чтобы быть неузнанной, проскользнула в монастырские ворота.
Недалеко от Печерского подворья, где содержалась Морозова, княгиню встретила старица Елена, и они вместе вошли в подворье.
Морозова выслала им навстречу Анну, которая обменялась с Урусовой головным убором. Вместо Анны в келью боярыни, склонив голову, чтобы нельзя было различить лица, проскользнула Урусова.
Долго уже не видели сестры друг друга. Обнявшись, они плакали, а затем Морозова читала ей послания Аввакума.
Через несколько часов в келью постучали:
– Боярыня, пора, опасно уже.
Это был начальник стрелецкой стражи, сам тайный приверженец раскола, сочувствующий Морозовой и уже не раз помогавший боярыне. Совсем недавно он провел в келью странствующего инока Иова Льговского, который причастил боярыню.
После смерти Ивана Глебовича о сестрах как будто забыли. Ими не интересовались ни во дворце, ни у патриарха. Тоскливо и размеренно текли день за днем.
Хотя Аввакум давно уже был в ссылке, Меланию все никак не могли поймать, она же сама проникала повсюду, отмыкала замки, проходила сквозь самую бдительную стражу и снова исчезала без следа.
Однажды она появилась у Морозовой.
– Готовься, Федосьюшка, – прошептала старица. – Завтра в ночь тяжелый тебе искус будет.
Морозова вздрогнула.
– Неужто настало время потерпеть за Христа, венец мученический принять? – с легким дрожанием в голосе спросила она.
– Не бойся, дочь моя, а радуйся! Венец уготован! Помолимся вместе!
Стало светать. Услышав шум за дверью, Мелания исчезла.
Морозова осталась одна. Прошлое вставало перед ее глазами. Она вспомнила умершего мужа, его брата, умершую царицу Марию, при жизни которой было так безопасно… Вспомнился и погибший сын Ванюша… И боярыня, опустив голову на грудь, горько зарыдала.
Она ждала весь день, но день прошел, как обычно, и только через две ночи Морозову вывели из кельи и повели к повозке. Они долго ехали, вокруг сидели незнакомые люди, и боярыня молчала.
После получаса езды повозка остановилась и боярыню ввели в темную избу, полную народа. Было темно, но когда глаза привыкли к темноте, она увидела сестру, а еще дальше – Данилову.
Морозова, звеня кандалами, протянула им руки и прошептала:
– Терпите, сестры, терпите…
Но, несмотря на то, что она утешала других, сама Морозова чувствовала на сердце тяжесть.
Они долго сидели в темноте, пока Морозову, подняв за локти, не повели в соседнюю комнату. Сзади вели сестру и Данилову.
За длинным столом посреди низкой палаты сидели бояре – князь Иван Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский. Они были друзьями покойного мужа и почти каждый день бывали в морозовском доме.
Сурово взглянув на бояр, Морозова не поклонилась, а еще больше задрала голову и нахмурилась.
Но и боярам не хотелось приниматься за допрос. Они молча и угрюмо смотрели на стоявших перед ними женщин, пока Воротынский, кивнув остальным, обратился к ним.
– Призваны мы на тяжкое государево дело. Коли не повинитесь, будут вас пытать.
Но женщины молчали, и тогда Воротынский, кивнув стрельцам, рукой показал на застенок.
Стрельцы потащили женщин в соседнее помещение.
Мрачный застенок, едва освещенный тройником восковых свечей, стоявших на столе, производил страшное впечатление. С проходившей через весь свод балки свешивались веревки для дыбы, внизу лежала тяжелая дубовая доска.
Бояре, вошедшие следом за женщинами, уселись за стол.
– Начни с этой, – кивнул Воротынский на Данилову.
Палачи завязали ей руки за спину, связали ноги и, соединив с дыбой, вздернули женщину вверх.
– Еще! – приказал Воротынский.
Узницу снова встряхнули.
Мария не произнесла ни звука.
– Брось ее, – сказал Воротынский, и женщину бросили на пол.
– Не проняло, – вмешался Одоевский. – Пусть пока полежит.
Палачи подошли к Урусовой.
– Сдерните с нее треух! Как ты смеешь, будучи в царской опале, носить цветное! – закричал Воротынский.
– Я перед царем не согрешила! – спокойно ответила Урусова.
Палач, сорвав треух, подвел княгиню к дыбе. Когда, вздернутая, она стала стонать, ее опустили и бросили на пол рядом с Даниловой. Она лежала, постанывая, не в силах пошевелить вывернутыми руками.
Морозова, видя, что настала ее очередь, сама подошла к дыбе и посмотрела на палачей.
– Позора хочешь? – спросил ее Воротынский. – Забыла, из какого ты рода?
– Слава людская проходит, – усмехнулась Морозова. – А вот ты о Христе забыл.
Связав руки, Морозову подвесили к дыбе, но, даже испытывая невыносимые боли, с перекошенным лицом, она кричала боярам о том, что они предали истинную веру и забыли Бога.
Через полчаса ее сняли с дыбы. Руки, протертые веревкой до жил, кровоточили.
Трех женщин положили рядом и, накрыв руки тяжелой дубовой плахой, предупредили, что сейчас будут выжигать двоеперстие.
Урусова, не в силах перекреститься, заплакала. Тогда палачи, пожалев ее, дернули руки и суставы стали на место.
Руки Даниловой привязали кольцами и двое палачей стали ременными нитями стегать по ее спине.
Кожа на спине сразу покрылась кровью. Морозова, не в силах видеть это, отвернулась и заплакала. Урусова же давно уже была в обмороке.
Тогда боярин, руководивший пытками, повернулся к Морозовой и пригрозил:
– Если не покаетесь, сейчас и за вас примемся.
– И вы христиане! – закричала Морозова трем боярам, стоявшим у стола. Они, побледнев, отвернулись от боярыни.
Когда Данилову окончили сечь, она попросила полотенце, провела его по спине и протянула палачу окровавленную материю:
– Снеси-ка ты его к мужу моему, передай, что жена кровью кланяется, он тебя наградит за это…