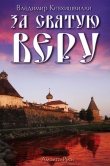Текст книги "Великий раскол"
Автор книги: Михаил Филиппов
Соавторы: Георгий Северцев-Полилов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 52 страниц)
Возвращение Смоленска
Стены Смоленска были растянуты на огромное пространство и имели тридцать шесть башен, и если осаждать было такую крепость трудно, то трудно было ее и защищать.
Защитники крепости были казаки и шляхта, а воеводою был Обухович и помощник его Корф.
Во главе шляхты стояли два Соколинских и пан Голимонт.
Со времени осады все эти лица собирались во дворце Обуховича и стояли на том: чтобы держаться до последнего.
Несмотря на тесную осаду крепости, город имел сообщение с Радзивилом, и тот писал: «Разбил-де русских под Оршей, теперь заманиваю старого дурака Трубецкого подальше и руками заберу». По случаю таких радостных вестей Обухович велел трезвонить во все колокола, и когда царь совершал панихиды и плакал по оршинским великомученикам, тот задавал пир за пиром, о чем он сообщал чрез лазутчиков в русский лагерь.
Вдруг он получает грамоту от Радзивила: «Развязка близится к концу: я получил известие, что крымский хан бросился на гетмана Богдана; значит тот сюда не придет, а я, как разобью и полоню старого Трубецкого, то приду к вам на помощь и, забрав русских руками, полоню их царя и повезу его в Краков. Слишком юн, чтобы бороться с гетманом Радзивилом».
Гетмана слова как будто и оправдываются: с крепостных стен ясно видно, что казачий полк, стоявший здесь, снялся и выступил в поход на Оршу, а под самой крепостью у царя ратники точно сырые яйца: не позволяет он охотникам лезть под пулю и коли потрафится раненый, он ухаживал за ним, точно за сыном родным. В таком разе будет он сиднем сидеть под Смоленском, пока Радзивил не нагрянет с литовцами и с коронным войском, – думают в крепости ляхи.
Но ошибались враги наши: не из трусости делал это Тишайший, а из человеколюбия и религиозности: смерть человека, без государственной потребности, он считал тяжким грехом. Притом, при всем своем мужестве, он был не воинствен и предпочитал тихую семейную жизнь бурному и шумному лагерному разгулу; поэтому он в стане сильно затосковал по семье и часто переписывался с нею; детей же страстно любил, и когда встретит какое-нибудь деревенское дитя, он не знал, как его обласкать. Но в стане он строго запретил, чтобы жены или сестры съезжались к мужьям и к братьям, так как это портило войско.
Вскоре, однако ж, ему пришлось сделать исключение: Артамон Сергеевич Морозов занял в его войске большую должность – он назначен стрелецким головой и сделался душою не только его армии, но и главным советником по делам военным.
Опечалился однажды Матвеев по получении из Смоленска грамотки от хорошего своего знакомого, Кирилла Полуехтовича Нарышкина. Как помещик-смоленчак, тот при приближении русских войск забрался в Смоленск с женою Анною Леонтьевною и с детьми, Иваном и Афанасием, да с маленькими дочерьми, Натальею и Авдотьей.
Вся эта семья умирала там с голоду, и Нарышкин умолял обменять на них несколько пленных поляков. Доложил об этом Матвеев царю, и тот разрешил обмен. Несколько дней спустя вся большая семья Нарышкина выведена из Смоленска и доставлена в лагерь.
Матвеев дал Нарышкину возможность выехать в свою вотчину, но девочка Наталья сильно заболела, и Матвеев упросил царя оставить ее в его, Матвеева, шатре.
Оставленная у него, она вскоре выздоровела и сделалась их утешением.
Это была черноглазая смуглянка, быстрая, проворная.
Царю она понравилась, и он для развлеченья часто захаживал в шатер Матвеева, чтобы поиграть с нею.
Та сначала его чуждалась, убегала и пряталась под свою кроватку, но потом привыкла к нему – только уж очень беспеременно обращалась с царским величеством: борода его неоднократно была взъерошена по милости ее маленьких ручек. Зато царь, как поймает ее и посадит на колени, то нацелует обе щечки докрасна.
Причем Тишайший приговаривает:
– Знал я другую Натю, и коли б я с той совершил, что с тобою, она бы мне нос откусила. Право слово.
Маленькая Натя сделалась, таким образом, предметом особой нежности и заботливости царя, и он готов бы был оставаться Бог знает сколько в качестве осаждающего Смоленскую крепость: без кровопролития, но рать вывела его из этого мирного покоя.
После оршинского погрома нашей рати войско прямо потребовало приступа к крепости, чтобы идти потом на Радзивила. Нечего было делать, вечером с 15 на 16 августа войскам отдан приказ: с рассветом, после всеобщего молебна, двинуться на приступ.
Возликовали воины, раздались веселые песни, но вечером все погрузилось в глубокий сон.
Не спал, однако ж, царь Алексей Михайлович: он долго молился и плакал, и когда все успокоились и в его шатре, он тихо вышел.
Ночь была лунная. Свет ее падал на белокаменные церкви Смоленска и на крепость, открывая чудный вид. В отдалении и как будто из крепости слышался отклик часового.
– Боже, – подумал он, – какая теперь тишь да гладь, а завтра что будет? Яростные крики, резня… Стоны и вопли умирающих… Страшно и подумать… И для чего это?… Пути твои, Боже, неисповедимы.
Едва это подумал он, как увидел приближающегося к нему человека. Несмотря на то, что царь был без оружия, он хладнокровно выждал, пока тот подошел к нему.
– Кто идет? – спросил он бестрепетно.
– Я, голова стрелецкий, великий государь. Напрасно по ночам трудишься, на то мы, твои рабы, чтобы бодрствовать.
– Спасибо, Артамон Сергеевич. Хорошо, что вижу тебя. Меня беспокоит одно: думаю я, что будет, коль мы понесем большие потери в приступе и вынуждены будем отступить… или, все в воле Божьей, – коль мы умрем… Что тогда будет с твоей Натей?
– На случай отступления, – сказал тогда Матвеев, – я распорядился: лошади и колымага готовы и повезет ее мой Афанасий в Тверь. А вот на случай смерти моей ничего сделать не могу – сам гол как сокол: окромя домишка я ведь ничего не имею.
– Об этом-то я и думал… Вот, возьми эту грамоту: коли меня не станет, она получит из вотчин моих село… будет это для нее хорошее приданое.
Царь вынул из кармана грамоту и передал ее Матвееву.
Это тронуло до слез стрелецкого голову: накануне приступа к Смоленску, когда царь был так озабочен, он не забыл его питомицу, маленькую Натю.
Принимая поэтому у царя грамотку, он поцеловал его руку и как бы пророчески сказал:
– Наташа моя никогда не забудет царской милости, и придет время, когда она отблагодарит тебя, великий государь, сторицею.
Чтобы прервать этот разговор, так как он не любил благодарностей, Алексей Михайлович вдруг спросил:
– Ведь Натя дочь Кирилла Нарышкина?
– Точно так.
– Отчего Нарышкины захудали?
– Один из Нарышкиных был воеводою при Иване Грозном; после него, известно, одни не хотели служить Годуновым, другие – самозванцам, третьи – Шуйскому, а при покойном отце вашем государство не установилось, все еще бродило, а вотчин у Нарышкиных было мало, и как пошло на дележ, то и захудали. От того, – заключил он, – и многие не только боярские дети, но и княжеские приписывались к боярским дворам, а там вышел указ, кто из них был женат на крепостных девках, так и тех закрепостили.
В это время в отдалении запели петухи.
– Пора, великий государь, на покой, завтра до свету приступ, – заметил Матвеев.
Царь простился с ним и ушел в свой шатер.
Матвеев пошел в стрелецкий лагерь, осмотрев, все ли в порядке и не спят ли часовые, и отправился в свой шатер.
После третьих петухов все ратники были уж на ногах и полковники повели их на приступ; многие из солдат несли с собою лестницы.
Едва забили барабаны в русском лагере, как поляки бросились на стены, чтобы отбить приступ. Но русские двигались вперед так, что нельзя было отгадать, где будет сосредоточено нападение.
Крепостные стены, как мы уже говорили, были растянуты на огромном пространстве, и поэтому полякам приходилось перебегать с одного места на другое, тем более, что фальшивое нападение было то с той, то с другой стороны.
После таких маневров огромная масса ратников бросилась вдруг с восточной стороны, т. е. где глядел с высоты сам царь на крепость, и тысячи лестниц сразу очутились у стен. Неприятель стрелял из пищалей, лил горячую смолу, бросал каменья, но ратники все шли вперед, карабкались по лестницам и, наконец, с криками ура и гиком они очутились на стенах. За первыми, как вода, потекли ратники, и не более как в четверть часа вся стена с той стороны покрылась сонмом воинов и царская хоругвь передового царского полка водрузилась на стене.
Но раздался вдруг страшный грохот, так что и царь, и окружающая его свита попадали, и над крепостною стеною поднялся столп дыма к небесам, и когда он рассеялся, то предстоящие и царь увидели вместо стен какие-то развалины и ни одного воина на них.
Ужас овладел всеми, и царь приказал бить отбой, чтобы собрать осаждающих.
Войска, наступавшие с других сторон, возвратились в целости, но из наступавших с восточной, по сказанию иностранцев, будто бы убито пятнадцать тысяч и ранено десять тысяч, а царь писал сестре, что убито пятьсот и ранено тысяча человек; причем он присовокупляет, что это поляки подложили под стены порох.
После отбоя царь послал объявить перемирие на неделю, чтобы собрать убитых и раненых; многие были если не ранены, то страшно опалены и умирали в муках; лекаря потребованы со всех городов белорусских, и тогда-то явились к царю крещеные евреи Данилов и Самойлов.
Оба действовали энергично и с самоотвержением: устроили для больных особые помещения, и под их руководством образовался огромный штат фельдшеров и аптекарей, все ухаживали день и ночь за больными.
Царь и все бояре посещали раненых и раздавали им деньги и пищу; воинство от этой неудачи не только не пришло в уныние, но горело нетерпением вновь идти на приступ крепости.
Пороховой взрыв, сделанный поляками, повредил сильно крепостные стены; они строились русскими многие годы и поляки еще более их расширили, и они были такой толщины, что огромным количеством пороха взорвало хотя часть стены, но ее трудно было восстановить в короткое время.
Русские могли бы поэтому со дня на день предпринять новый приступ, и тогда падение крепости было бы неминуемо.
Употребив много пороху на взрыв, у поляков оказалась недостача в нем, между тем воевода Обухович получил уведомление, что войска Радзивила у реки Шкловки разбиты и что Усвят и Шклов уже сдались русским, вся же Белоруссия до Могилева восстала против поляков.
Окруженный и отрезанный от Польского королевства, Обухович понял тогда, что крепость не может более держаться, а потому начались переговоры с русскими о том, чтобы сдать Смоленск, с тем, чтобы Обуховичу и Корфу разрешено было выехать в Литву, что представлено было на волю и остальным смоленцам.
Но окончанием этого дела поляки медлили, ожидая вестей от Радзивила.
Начал чувствоваться сильный недостаток в провизии, так как русские еще теснее обложили Смоленск и закрыли подвоз припасов по Днепру. В городе, как мы уже говорили, проживали пан Голимонт и два Соколинских.
Знатные и богатые шляхтичи и униаты сражались за Польшу, которой служили, так как стояли во главе белоруссов с Обуховичем. Нужда у этих бояр, проживавших в Смоленске с семействами, достигла крайних пределов, и они потребовали, чтобы Обухович сдал Смоленск, так как дольше держаться было равносильно тому, что обречь всех голодной смерти.
Обухович отказал.
Голимонт созвал сейчас всех наличных шляхтичей Смоленска и вместе с Соколинскими говорит так энергично, что шляхта согласилась на сдачу города.
Как только это совершилось, Голимонт, Соколинские и шляхта бросились к замковой пехоте, велели ударить тревогу, и, когда ратники собрались, они возмутили ее и отправились с барабанным боем к воеводскому дому.
Услышав шум, крик и стук оружия, Обухович с Корфом и еще с несколькими другими из свиты своей вышел на крыльцо.
Голимонт и Соколинские объяснили ему, что решение и шляхты, и войска – тотчас сдать крепость русским.
Обухович заплакал.
– Радные паны, шляхтичи и ратные люди, – воскликнул он, – в царствование Михаила Федоровича польская кровь лилась здесь реками, но еще при приснопамятном Иоанне Собеском здесь тысячи польских голов легли, и все эти кости умостили дорогу на Смоленск, так как это ключ в сердце России и ключ к Польше. Вот почему за невзятие Смоленска боярин Шеин лишился головы и он был в гораздо труднейшем положении, чем мы. И если он лишился головы за невзятие крепости, то нас придется четвертовать. Умываю себе руки от этого позорного дела: снимаю оружие – делайте со мною и с городом, что хотите. Но предупреждаю, если я медлю, то имею основания: мне в русском стане говорили положительно, что в Москве и в окрестностях ее страшная чума. Люди мрут, как мухи, и, несмотря на заставы, она легко может проникнуть в царский стан. А раз она проникнет сюда, царь тотчас снимет осаду и уйдет отсюда, – тогда вам вечная честь и слава будет.
– Не хотим больше ждать, наши семьи умирают с голоду, – крикнули шляхтичи.
– А мы жалованья не получаем, – заголосили ратники.
Толпа обступила Обуховича и Корфа и заставила их идти: те повиновались силе.
Многие ратники бросились на воеводскую крышу, сорвали оттуда хоругвь и бросились вперед. Барабаны ударили, и нестройной массою двинулась шляхта, воины, а за ними и народ к крепостным воротам. За ними тронулись с знаменами и барабанным боем остальные войска.
Ворота раскрылись, и все они вышли за город, послав вперед к царю Голимонта и Соколинских с изъявлением ему покорности.
Тотчас в русском лагере ударили тревогу, и весь стан поднялся. Войска собрались пред воротами Смоленска и тут-то, окруженный всеми боярами, воеводами и полковниками, царь Алексей Михайлович ожидал побежденных.
Литовские воеводы и полковники, выходя из Смоленска и проходя мимо него, били челом и клали знамена к его ногам: ратники делали то же самое и складывали в одно место оружие.
После этого царь отслужил благодарственный молебен и велел тотчас части войска занять Смоленск.
С распущенными знаменами, трубным звуком и барабанным боем вступили 23 сентября 1654 года вновь войска в Смоленск, т. е. ровно двадцать лет после неудачи Шеина.
Торжество было великое. Со Смоленском во власть нашу подпадала не только вся Белоруссия, но окончательно присоединилась и Малороссия, так как Киев и Смоленск командуют всем течением Днепра.
Празднование этого великого события началось на другой же день: бояре, окольничие, стольники, стряпчие и дворяне явились поздравить царя и подносили хлеб-соль и соболей; а царь в столовом шатре своем угостил обедом не только их, но и сотенных голов имени его полка. За обедом присутствовал тоже и наказный атаман Золотаренко, прибывший в это время к царю за приказанием. Несколько дней спустя царь угощал обедом есаулов своего полка и смоленскую шляхту. Но спустя несколько дней, получив известие о взятии города Гор, царь выступил в Вязьму.
XXXIXВозвращение царя в Москву
С осени моровая язва стала утихать, заболевшие люди начали выздоравливать, а к зиме она совсем прекратилась.
Но моровая язва захватила не одну Москву, а покосила много народу и в Нижнем Новгороде, Калуге, Троицком монастыре, Торжке, Звенигороде, Верее, Кашине, Твери, Туле, Переяславле Рязанском, Суздале, Переславле-Залесском. Обширный район захватила она и выморила почти половину народонаселения.
Когда же она утихла, радость была неимоверная; но царь перевез из Калязина в Вязьму семейство и Никона, так как в Тверской губернии было небезопасно. Он остался бы в Вязьме даже зимовать, да в Москве чума совсем прекратилась, а многие прямо затосковали по матушке-то своей.
И к царскому приезду убралась и нарядилась столица белокаменная, точно невеста для встречи жениха.
Церкви все выбелили снаружи и внутри, все дома обкурены внутри и вычищены, многие избы, где была большая смертность, снесены и новые воздвигнуты, улицы вычищены; а тут стала еще зима ранняя и крепкая – сначала снег, а потом трескучий мороз.
Дворец и палаты, и приказы, и избы тоже вновь отделаны, а бояре, их семьи, и гости иностранные, и свои, узнав о возвращении царя в столицу, тоже возвратились восвояси, а тут еще наехало много дворян, чтобы узнать о своих, бывших на войне.
Съезд сделался огромный, и закипела и зашумела белокаменная; а тут каждый день возвещают с красного крыльца: царь ночевал там-то и приедет в Москву тогда-то, а перво-наперво приедет патриарх Никон приготовить царскую встречу.
А гости московские, и жильцы, и дворяне готовят хлеба-соли царю и соболей дорогих с поздравлением о Смоленске.
Вот загудели 9 февраля все сорок сороков и появился Никон. Впереди него несут крест, а за ним все московское духовенство и монашествующие с хоругвями, образами и крестами; и пошли крестным ходом по Москве, а потом в Успенском служили молебен.
На другой день выехали московские ратные люди, воеводы, дворяне, гости и жильцы, все верхами, навстречу царю.
И видят они: идут впереди трубачи и литаврщики, за ними две сотни царского полка, потом две сотни стрельцов и далее две сотни казаков, за ними верхами дворцовые воеводы, а за этими царь-солнышко, на белой лошади, в горностаевой шубке, в шапке Мономаховой, со скипетром в руке. За ним бояре, окольничие, стольники и стряпчие. А там потянулись санные колымаги царя, царицы, царевичей, царевен и дворцовых бояр и боярынь, а вот и обоз.
Поднесли царю москвичи хлеба-соли на серебряном кованном блюде и соболей дорогих и присоединились к поезду.
Проезжают они по Москве к Успению, а народ так поклоны и бьет челом в землю и чуть не молится на батюшку царя, а Тишайший кланяется по всем сторонам.
У Успения слез царь с лошади и все поездные, а на паперти патриарх Никон со святою водою и крестом и со всем московским духовенством. Говорит он со слезами на глазах краткое слово царю, а тот обнимает и целует Никона, называет отцом своим и великим государем.
Служит патриарх соборне молебен и по окончании службы царь просит и патриарха, и всех бояр окольничьих, и стольников, и дьяков, и сотенных голов к себе хлеба-соли откушать.
Москва ликует, все сорок сороков гудят, народ кричит ура, а пищали или пушки стреляют, духовенство же всей Москвы поет: «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Многая лета».
Ликует тоже юный царь и Никон. Хотя потеря под Смоленском велика, но великая твердыня вновь в руках, а Польша показала свое бессилие. Нужно за зиму приготовиться к новой борьбе на следующий год: он окончательно возмужал и сделался подвижен.
Ежедневно на прелестных резных санях, покрытых дорогими коврами и огромною медвежью полостью, тройкой с бубенчиками и наборными серебряными хомутами, в горностаевой шубке и собольей шапке начал он разъезжать но Москве.
Да и царица и царевны перестали прятаться от людей – начали выезжать они в возках, а дома давали вечеринки боярыням и их семьям.
Это оживило и воодушевило Москву. Только одно смущало всех – во время моровой язвы многие из дворян, купечества и мещан в ожидании неминучей смерти приняли схиму, а тут, как назло, они остались в живых, и стало им смутно и грустно, что они поторопились, да и монастырская жизнь не ахти как сладка. Вот порешили они меж собой вновь сойтись, как ни в чем не бывало.
Дошло это до Никона, собрал он собор, потолковали тайно, что делать?
Решили, что это большой соблазн, так как после схимы расстрижения нет; отнеслись поэтому строго и разлучили супругов.
Поднялась на ноги вся Москва. Это безбожно, кричали все: что Бог связал, того и схима не развяжет. Коли б сам патриарх был женат, то и тогда он мог бы жить со своею женой.
Но разлученные супруги, преследуемые духовенством, бежали из своих мест и, продолжая в глуши жить брачною жизнию, основали секту, отвергшую священство и брак как таинство.
Вспомнил тогда Никон схимницу Наталью и ее слова: разве исправление у нас книг не равносильно-де женитьбе патриарха: пожалуй, снисходительнее к последнему отнесутся, чем к первому.
Но Никон шел вперед. Он поручил Арсению Суханову не только собрать всевозможные рукописи в Греции, но посетить и Иерусалим и привезти оттуда точный снимок храма Воскресения на гробе Господнем.
Теперь тот привез все это, и необходимо было взяться за исправление книг, что и поручено Епифанию и Арсению.
Но не забыл Никон и мирских дел; ему доставил Епифаний из Киева карту всей Европы, и он по целым дням сидел над нею и, изучая ее составил целый план войны будущего года.
Над этой работой застали его однажды Морозов и Милославский.
Когда те вошли в его кабинет, или комнату, как тогда назывались кабинеты, Никон встал со своего места и благословил пришельцев.
– Дурные вести, – сказал он. – Поклонского нашего Радзивил осадил с двадцатитысячным войском в Могилеве и он изменил нам, но воевода Воейков с мещанами Могилева не сдают: а Золотаренко сидит в Старом Быхове: его отрезал от нас Гонсевский.
– Теперь зима, и зима крепкая, лютая… Велеть бы из Смоленска дать тому и другому помощь, да отсюда в Смоленск некого отправлять, да если бы и было, так зима сурова, – возразил Морозов.
– Если, – заметил Никон, – поляки могут осаждать зимою, то почему мы не можем делать передвиженья? Конечно, – прибавил он, – нужна при этом хорошая обувь, рукавицы и шубы… Все это я изготовил на собственные свои деньги… Теперь, бояре, от вас зависит послать туда ратных людей. Вы говорите, что здесь их нет в Москве, что нет их в Смоленске… Вот что мне пишет смоленский воевода Григорий Пушкин. «Хоша изменили нам Ляпуновы и молодой Соколинский, зато белорусы ежедневно являются в Смоленск и поступают в ратники; да и я велел всем ратникам в Москву не идти, – собираться украинским в Переяславле, а новгородским, калужским, тверским – в Смоленске».
– Что же гонцы бают из Малой Руси? – спросил Милославский.
– Митрополит киевский и попы мутят шляхту: они говорят, что хотим будто бы подчинить митрополита их московскому патриарху. Мы-де, кричат они, поэтому и унию не приняли, чтобы остаться за царьградским патриархом, а гетман Богдан нас продал. Все это наделало нам книжное дело, – горячился Никон, – со соизволения царя вызвал я сюда антиохийского патриарха Макария и многих восточных архиереев. Нужно и Малороссии, и Белоруссии доказать, что мы едины и но духу, и по вере. Но с Божьею помощью мы с этим делом сладим. Нужно же нам подумать, что делать с гетманом Богданом, – он не помог нам на Украине ничем, он-де будто боится татар. Теперь Василий Борисович Шереметьев доносит, что на него и на Богдана напали татары и поляки под Ахматовым; отбиваясь от них, он по страшному снегу и морозу отступил к Белой Церкви, где, впрочем, нашел и войска окольничьего Федора Васильевича Бутурлина. Татары и поляки, пишет он, страшно опустошали Украину. Вот тут что делать?
– Как ты, великий государь, на это соизволишь, – отвечал Милославский.
– Моего хотения тут мало, а думаю я своим слабым разумом, что гетман Богдан с Бутурлиным должен идти на Волынь, в Галицию и Краков.
– А с татарами кто справится? – спросил Морозов.
– Казаки донские доносят, что они ранней весной, как только размерзнутся реки и морс, поедут на ладьях в Крым, разорят татарские улусы: вот и будет им не до похода, – объяснил Никон.
Потом, поглядев на карту, он показал, каким путем пойдет царь на Вильно, Варшаву и Краков.
– Таким образом, – заключил он, – царь соединится с Бутурлиным и Хмельницким в Кракове, а мы посылать будем из Смоленска войска и в те места, которые уж заняты будут, и в те, где надобность укажет.
– Аминь, – произнесли Морозов и Милославский.
– Но разве мы можем окончить это за одно лето? – спросил после некоторого молчания Милославский.
– Нужно напрячь для этого все силы и старания. Нужно собрать большое ополчение к весне, нужно собрать казну, где только можно, и нужно двигаться вперед и вперед, пока вся Польша будет наша. Сила ее была в Малороссии и Белоруссии, откуда она получала свои полчища, и если мы захватим в начале года еще Подолию и Волынь, то едва ли с одной Литвой она выдержит с нами борьбу. Нам нужно только не медлить, чтобы не давать очнуться ни им, ни их соседям. Молдавский и волошский господари и венгры, вот пишет гетман, просятся тоже под высокую царскую руку; но Виговский называет их изменниками. И я-то им не верю, но послать им дары нужно – пущай не помогают врагу. А вот свейцы, те, как узнают, что Польше плохо, то они или нападут на нас, или на Польшу, чтобы забрать, что плохо лежит. По этой причине и я говорю: одним ударом нужно забрать Польшу, венчать царя Алексея Михайловича польским королем, а там уж будем разговаривать с соседями.
– План, – сказал Морозов, – хорош, и царь его одобрит, нет и сомнения, но откуда ты возьмешь и казны, и столько войска?
– Надеюсь я много и на то, – возразил Никон, – что все русские восстанут и в Подолии, и в Волынии, и в Галиции, но для этого нужно не притеснять их, не разорять, не бесчестить их семейств, как это делалось нашими ратниками до сих пор.
– Под страхом смертной казни можно это запретить, – воскликнул Милославский.
– Насчет же казны, – продолжал Никон, – то я отдаю все, что имею, и многие сделают тоже вклады, а там что Бог даст: свои подождут, а платить будем чужим. Да, поставщики, подрядчики и иноземцы тоже подождут за ставленные товары, пищали и порох. И с Божьею помощью и по соизволению Царицы Небесной двинемся мы на врагов и одолеем их и возвеличится наше царство. Вот пишут тоже нашим грекам, что все народы турского султана ждут не дождутся, когда мы перейдем Дунай, – все они пойдут с нами.
– Придет когда-нибудь время, – вставил задумчиво Морозов, – и все это исполнится, но теперь нам тяжело – моровая язва столько людей прибрала в Великой Руси.
– С Божьей помощью народ будет нарождаться, а мы должны свое дело делать. Чтобы достичь обетованной земли, Моисей сорок лет с целым народом блуждал в пустыне, неужели же нам тяжело поднять меч на год или другой? Только нужно решиться и не отступать – знамя наше должно быть: вперед и вперед! А Иверская Божья Матерь (она будет с царем) приведет нас и в Варшаву, и Краков. Мы избавились от ига ляхов и теперь должны избавить от них и наших братьев, – вся русская земля, как оно сказывается в летописях, собранных мною, должна быть единая. Так глядели предки наши, так и мы должны глядеть. Придя в Киев, Олег сказал Аскольду и Диру: «Вы не князья, не бояре», и велел их умертвить, давая этим знать, что Киев – Русь; а на врата Царьграда он прибил свой щит – вот де наша граница. Будем молить небо, чтобы оно дало нам силы, а теперь настало уж время сражаться за обетованную нам издревле землю. Аминь.
– Аминь, – произнесли набожно Милославский и Морозов и, подойдя к его благословению, отправились к царю.
Когда они передали разговор своей с патриархом, тот перекрестился и сказал:
– Куда Дух Божий устами патриарха направит нас, мы пойдем и готовы положить кости наши, да не посрамим земли русской.