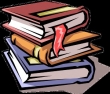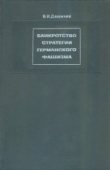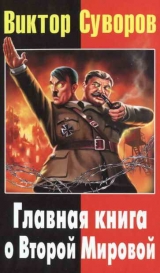
Текст книги "Виктор Суворов: Главная книга о Второй Мировой"
Автор книги: Михаил Веллер
Соавторы: Андрей Буровский,Марк Солонин,Владимир Бешанов,Дмитрий Хмельницкий,Ричард Раак,Ирина Павлова,Джахангир Наджафов,Ури Мильштейн,Томас Титура,Юрий Цурганов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
А что говорят давно опубликованные официальные советские документы (которыми пренебрег Г. Городецкий) о том, как в Кремле оценивали ситуацию на европейском континенте после предоставления английских гарантий Польше в ответ на нацистскую агрессию? Почувствовали ли на себе товарищ Сталин со товарищи «трагические последствия» гарантий? По этим документам легко установить, что «действительные события» развивались не так, как описано в «Мифе «Ледокола».
По мнению сталинского руководства, «наиболее серьезные события, в корне ухудшившие положение в Европе», были связаны с действиями нацистской Германии и ее фактической союзницы фашистской Италии. Таковыми событиями, угрожавшими многим странам, оно считало расторжение Гитлером, использовавшим в качестве повода предоставление Польше английских гарантий, англо-германского морского соглашения от 18 июня 1935 года и декларации о дружбе и ненападении между Германией и Польшей от 26 января 1934 года, а также объявление о предстоящем заключении военно-политического союза между Германией и Италией. Наконец, говорилось в цитируемом советском документе (от 11 мая 1939 года), на этой почве «возникли переговоры между Англией и Францией, с одной стороны, и СССР, с другой, об организации эффективного фронта мира против агрессии» [362]362
Передовая газеты «Известия» «К международному положению». 11 мая 1939 г. // МИД СССР. Год кризиса. Документы и материалы. В 2-х тт. М., 1990. Т. 1. С. 452. Передовица была воспринята советскими дипломатами за рубежом как указание Москвы.
[Закрыть].
Так когда же сказались «трагические последствия» английских гарантий Польше – после их предоставления или десятилетия спустя, когда писался «Миф «Ледокола»? Или одно из «трагических последствий» гарантий Польше в политико-дипломатическом возвышении Сталина? И это плод «бесконечных поисков новой информации и материалов» (с. 4)?
Но случайно ли, как утверждает Г. Городецкий, товарищ Сталин оказался в роли третьей силы в назревшем общеевропейском конфликте? В чем тогда был смысл постоянно провозглашаемой сталинским руководством особой линии в международных делах – линии вне– и надкоалиционной политики, которую оно считало вполне самодостаточной? Разве не в том, чтобы воспользоваться «второй империалистической войной» и ее ожидаемыми социальными последствиями по-своему – в интересах классово-имперских? Западные союзники-«империалисты», вспоминал В.М. Молотов, правая рука Сталина во внешнеполитических делах, рассчитывали на ослабление Советского Союза в мировой войне. Но: «Тут-то они просчитались. Вот тут-то они не были марксистами, а мы ими были. Когда от них пол-Европы отошло, они очнулись. Вот тут Черчилль оказался, конечно, в очень глупом положении» [363]363
Чуев Ф.М. Молотов: Полудержавный властелин. М., 1999. С. 82.
[Закрыть].
Тем не менее, автор «Мифа «Ледокола» настаивает на том, что ему сопутствовал успех – «в особенности в последовательном анализе сталинской политики этих лет» [364]364
Ответы Г. Городецкого на вопросы журнала «Новая и новейшая история». // «Новая и новейшая история». 1995, №. 3. С. 71 (курсив мой).
[Закрыть].
Но я бы не сказал, что в его книге уделяется должное внимание словам и делам сталинского руководства. Собственный же критерий автора – «постараться понять настроения людей того периода и не судить о них с позиций сегодняшнего дня» – не применяется там, где более всего уместен. Мягко говоря, недооценены документы Коммунистической партии, материалы ее центральных органов – газеты «Правда», журнала «Большевик». Между тем, именно анализ партийных материалов позволяет прийти к заключению, что Сталин и его окружение рассматривали классовые мотивы как подоснову своей международной политики. Как можно без таких материалов судить о взглядах и деятельности высшего советского руководства, непонятно.
Из сталинских документов я бы обратил внимание читателя (израильского историка это вряд ли заинтересует) на «Краткий курс истории ВКП (б)», увидевший свет в сентябре 1938 года. Товарищ Сталин гордился этой книгой как своим трудом, в котором движение истории зависит исключительно от непримиримой борьбы идей. Партийные кадры, считали в Кремле, «могли свободно ориентироваться во внутренней и международной обстановке» только при условии их политико-идеологической подготовки [365]365
Постановление ЦК ВКП (б) от 14 ноября 1938 г. О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП (б)». // «Правда». 15 ноября 1938 г.
[Закрыть].
В последней главе «Краткого курса», ее международном разделе, опубликованном в «Правде» в сентябре 1938 года – еще до Мюнхена, провозглашалась независимая, сепаратная линия СССР в международных делах в противовес практически сложившимся обеим враждующим капиталистическим группировкам. А одной из них, странам демократического Запада, было обещано (со ссылкой на печальные последствия для русской буржуазии большевистской революции 1917 года) «историческое возмездие» [366]366
«Правда». 19 сентября 1938 г.
[Закрыть]. Положения раздела, говорилось на самом высоком официальном уровне, давали «марксистское объяснение» переменам в мире, а значит, по ним только и можно «судить о внешней политике Советского Союза и всех международных событиях последнего времени» [367]367
21-я годовщина Октябрьской революции. Доклад тов. В.М. Молотова на торжественном заседании Московского совета 6 ноября с.г. // «Правда», 7 ноября 1938 г.
[Закрыть]. Эти положения получили развитие в выступлении Сталина на закрытом совещании в ЦК (см. ниже) и позже вошли в его доклад на партийном съезде. Международные разделы истории партии и сталинского доклада на партийном съезде – явления одного порядка, позволяющие судить о тенденции советской внешней политики.
Существенно и другое. Г. Городецкий, отстаивая право сталинского руководства на защиту «российской революции» от внешних врагов, попросту повторяет версию «Фальсификаторов истории» о тождественности ситуации революционного 1917 года и кануна Второй мировой войны. В упомянутой выше сталинской правке в тексте брошюры так объясняется решение заключить пакт с нацистской Германией: «Как в 1918 году ввиду враждебной политики западных держав Советский Союз оказался вынужденным заключить Брестский мир с немцами, так и теперь, в 1939 году, через 20 лет после Брестского мира, Советский Союз оказался вынужденным заключить пакт с немцами ввиду той же враждебной политики Англии и Франции» [368]368
Фальсификаторы истории. С. 54.
[Закрыть]. Но оправдан ли подход, сопоставляющий внешнеполитические акции большевистских руководителей, разделенные двумя десятилетиями? Ответ содержится в отвергаемых Г. Городецким работах «других историков», которые пришли к выводу, с одной стороны, о переоценке Сталиным вероятности образования антисоветского фронта капиталистических стран, а с другой – о недооценке им опасности фашизма. В самом деле, возникшую в 1930-е годы глобальную угрозу фашизма Сталин и его окружение рассматривали не с общедемократических, а с классовых позиций и интересов. В фашизме они усматривали прежде всего «признак слабости капитализма» (Сталин), считали фашизм проявлением так называемого общего кризиса капитализма и, таким образом, еще более приближающим гибель мировой системы капитализма.
Стоит отметить, что в вопросе о целенаправленности политики СССР перед мировой войной позиции большинства отечественных авторов практически совпадают. Д.М. Проэктор, много и плодотворно изучавший историю мировой войны, объясняет решение Сталина пойти на «беспринципное и пагубное» соглашение с Гитлером его стратегией воспользоваться ослаблением врагов в межимпериалистической войне [369]369
Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М., 1989. С. 202.
[Закрыть]. В свою очередь, член Российской академии наук А.Н. Сахаров (возглавляющий Институт российской истории РАН) вполне определенно – как «четкую» – характеризует линию предвоенной дипломатии Сталина. Линию на то, чтобы «сработать на столкновение своих потенциальных соперников в Европе, а в дальней перспективе войти в войну с целью не только закрепления уже достигнутых геополитических преимуществ, но и осуществить революционную экспансию» [370]370
Сахаров А.Н. Война и советская дипломатия: 1939–1945. // Вопросы истории. 1995. № 7. С. 32.
[Закрыть].
Таковы суждения «других историков», следующих принципу «постараться понять настроения людей того периода и не судить о них с позиций сегодняшнего дня». Адекватность их суждений историческим реалиям подтверждается свидетельствами современников. В своих воспоминаниях писатель К.М. Симонов делился мыслями, рожденными советско-германским пактом: до неизбежной схватки с фашизмом «будет долго идти война между Германией, Францией и Англией, и уже где-то потом, в финале, столкнемся с фашизмом мы. Такой ход нашим размышлениям придал пакт» [371]371
Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. М., 1990. С. 86. См. также: Вишневский Вс. «…Сами перейдем в нападение». Из дневников 1939–1941 годов. // М. 1995. № 5. С. 104–105, 107–109.
[Закрыть].
Архивные материалы говорят то же самое. Да, такие глобальные антикапиталистические планы не только вынашивались в Кремле, но и были приняты как руководство к действию.
За неделю до доклада Сталина на XVIII съезде ВКП (б) 10 марта 1939 года в Ленинграде выступил А.А. Жданов [372]372
РГАСПИ. Ф. 77, on. 1, д. 714, л. 33–54. Далее ссылки на отдельные листы не приводятся. Стиль документа сохранен. (Курсив мой. – Авт.)
[Закрыть], критика которого политики Запада, получившая огласку на съезде, была доведена до логического конца. Один из самых близких Сталину деятелей был откровенен: «здесь партийная конференция, стесняться нечего».
Мировая обстановка, говорил докладчик, складывается так, что фашистская агрессия «направлена главным образом против Англии и Франции». Хотя Англии «очень хотелось бы уравновесить положение таким образом, чтобы Гитлер развязал войну с Советским Союзом. Но Гитлер понимает по-своему и считает, что должен развязать войну там, где слабее. И так как видит, что слабее на Западе, он туда и прет, вместе с Муссолини». Слушатели-партийцы аплодировали, смеялись.
«Товарищи, – продолжил А.А. Жданов, – под маской миролюбия, под маской коллективной безопасности Англия стравливает одну державу с другой, не прочь втравить и войну с нами организовать, используя в этом отношении действия, тактику, старые традиции буржуазных политиков – чужими руками жар загребать, дождаться положения, когда враги ослабнут, и забрать». Но эта политика рассчитана на людей наивных. Что касается Советского Союза, то «у нас даже пионеры могут разгадать это дело, уж очень грубовато это дело».
Раз все так очевидно для сталинского руководства, которое «обмануть трудно», то и советская внешняя политика уже вполне определилась: «…Будем копить наши силы для того времени, когда расправимся с Гитлером и Муссолини, а заодно, безусловно, и с Чемберленом». Встречено было аплодисментами.
Израильский историк (впрочем, как и другие критики «Ледокола») игнорирует факты и документы, характеризующие глубинный сталинский замысел воспользоваться агрессией нацистской Германии против Англии и Франции, чтобы добиться их ослабления. Тем более что в этой идее, верно схваченной В. Суворовым, – использовать Германию, революционную ли, нацистскую ли, как таран против капитализма в Европе, – нет ничего нового. Напомним, что стратегия Коминтерна, направляемая Кремлем, строилась на том, чтобы инициировать пролетарскую революцию в Германии и тем самым пробить решающую брешь в системе капитализма [373]373
См.: Коминтерн и идея мировой революции. Документы. М., 1998.
[Закрыть].
С приходом Гитлера к власти в Германии цель распространения социализма (в его советской модели) на Европу не претерпела значительных изменений. Основным инструментом для достижения этой цели оставалась все та же Германия, теперь уже нацистская, что сулило новые возможности. Ибо нацистское движение, считал Сталин, было естественной реакцией на несправедливости Версаля. Такой Германией, следовательно, удастся манипулировать. Иначе трудно расценивать эйфорию, охватившую товарища Сталина после подписания советско-германского пакта о ненападении: «Ну, кто кого обманет? Мы обманем Гитлера!» [374]374
Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева. // «Вопросы истории». 1990, № 8. С. 60.
[Закрыть].
Пользуясь обстановкой «второй империалистической войны», Кремль активизировал давние экспансионистские планы. Интересно, как бы Г. Городецкий прокомментировал откровения члена президиума и секретариата Исполкома Коминтерна Д.З. Мануильского, которого называли «рукой Сталина» в этой международной коммунистической организации. Уже летом 1939 года, еще до начала мировой войны, судьба Польши, по его мнению, была предрешена. Выступая в закрытой аудитории, он прогнозировал: «Если бы вместо СССР была бы старая царская Россия, мы могли бы сказать, что в случае конфликта, по существу, произошел бы новый раздел Польши». Но и от России советской Польша не ждет ничего лучшего: «боится, что если она свяжет свою судьбу с нами, то из этого выйдет социализм на ее территории (смех)» [375]375
Стенограмма доклада тов. Мануильского о международном положении. 14 июля 1939 г. // РГАСПИ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 92. Л. 16.
[Закрыть].
Под этим же классовым углом зрения – как расширение сферы социализма – оправдывал В.М. Молотов советские захваты в Восточной Европе во исполнение советско-германской договоренности по секретному протоколу [376]376
Внешняя политика Советского Союза. Доклад председателя Совета народных комиссаров и Народного комиссара иностранных дел тов. В.М. Молотова на заседании Верховного Совета СССР 1 августа 1940 г. // «Правда», 2 августа 1940 г.
[Закрыть].
Надо полагать, что Г. Городецкий в курсе оценок советской внешней политики, зафиксированных в документах своего времени [377]377
По утверждению критика В. Суворова, он изучил, помимо архивных документов, «также широкий круг опубликованных документальных материалов». // Городецкий Г. Миф «Ледокола». С. 27.
[Закрыть]. Но он предпочитает не останавливаться на них, не опирается на них для анализа описываемых событий. Налицо – в который раз – фактический отказ от продекларированного им же принципа видеть события прошлого «именно такими, какими они были» и «не судить о них с позиций сегодняшнего дня».
Другими словами, если исходить из заинтересованности Советского Союза в том, чтобы его многочисленные капиталистические враги «лучше разодрались» (Сталин – см. ниже), то вслед за подрывом позиций классово чуждых крупнейших государств Европы следовало, разумеется, воспользоваться этим в своих целях. Только у Г. Городецкого эти цели сугубо оборонительные, а у В. Суворова и «других историков» – экспансионистские, классово-имперские. Различия между ними – в реконструкции хода событий в соответствии с разными представлениями о критериях объективности.
Так кто же следует логике исследовательского поиска – В. Суворов и «другие историки» или Г. Городецкий, если все исходят из установки, что руководители Советского Союза считали себя окруженными врагами? Тот, кто анализирует предвоенную сталинскую внешнюю политику с ее стратегией воспользоваться «империалистическими противоречиями» в стане врагов социализма, чтобы, столкнув их друг с другом, прорвать «враждебное капиталистическое окружение» и получить другие преимущества? Или тот, кто, не заботясь о должной интерпретации «действительных событий», желает прослыть первооткрывателем более чем сомнительной исторической истины в духе и стиле сталинских «Фальсификаторов истории»?
4. «Оценка» советской внешней политики
Как уже подчеркивалось, Г. Городецкий избегает более или менее внятного изложения событий преддверия мировой войны, чтобы не считаться с совокупностью обстоятельств перехода, пользуясь сталинскими определениями, от «второй империалистической войны» к «войне всеобщей, мировой». И, по логике вещей, задаться вопросом, какое преломление это сталинское представление о развитии международных отношений нашло во внешней политике Советского Союза. То есть попытаться выявить, какова была роль товарища Сталина в развязывании Второй мировой войны, ставшей точкой отсчета всех последующих судьбоносных перемен и в Европе, и за ее пределами. Но автора «Мифа «Ледокола», увлеченного своими странностями, мало интересует проблема взаимосвязи сталинской внешней политики и начала мировой войны. О чем говорит его более чем скромное внимание к такому знаковому для всеобщего мира и для самого Советского Союза событию, каким был доклад Сталина на XVIII съезде ВКП (б) 10 марта 1939 г.
Между тем доклад Сталина на партийном съезде – единственное его публичное выступление за все месяцы, предшествовавшие мировой войне. Естественно, что историки уделяют этому выступлению то внимание, которого оно заслуживает. Г. Городецкий же посвящает сталинскому докладу всего один абзац:
«Большинство историков считают водоразделом оценку Сталиным советской внешней политики на XVIII съезде партии 10 марта 1939 года. При этом часто ссылаются на знаменитое предостережение Сталина в адрес западных демократий, что он не собирается «таскать для них из огня каштаны». Под влиянием происшедших затем событий историки усматривают в этом решение Сталина пойти на сближение с нацистской Германией. Однако (?) достаточно даже поверхностного ознакомления с полным текстом выступления Сталина, чтобы стало ясно, что антинацистская направленность его очень сильна. Если бы Суворов ознакомился с этим выступлением, он бы заметил, что Сталин отказался от ленинской идеи революционной войны и предупредил, что война представляет собой угрозу для всех. Кроме того (?), отказ Гитлера от Мюнхенских соглашений, выразившийся в аннексии оставшейся части Чехословакии неделю спустя, породил надежды на возрождение идеи коллективной безопасности. Действия Гитлера были осуждены – во всяком случае, публично – Чемберленом, и противники умиротворения укрепили свои позиции. Именно на этом фоне Советское правительство выступило с предложением о заключении военного соглашения с Англией и Францией»(с. 50–51. Курсив мой).
По-своему – не так, как «большинство историков», – трактуя сталинское выступление, Г. Городецкий напрямую связывает его с набором чудных умозаключений. По его мнению, историки недооценивают «антинацистскую направленность» выступления, а на их вывод о том, что своим выступлением Сталин открыл путь к сближению с Германией, повлияли события, не связанные с международными последствиями выступления. И якобы в докладе был озвучен отказ от классовой стратегии в международных отношениях, что подготовило почву для возобновления попыток добиться коллективной безопасности с участием стран Запада. Любой, читавший доклад, скажет, что ничего подобного в его тексте нельзя обнаружить.
Попутно заметим еще раз: «невежество» В. Суворова, в данном случае в интерпретации доклада Сталина, разделяют «большинство историков», а то и все историки, исключая самого Г. Городецкого. Однако попробуем разобраться с обоснованием автором «Мифа «Ледокола» его несогласия с выводом «большинства историков» о том, что выступление Сталина на партийном съезде явилось «водоразделом» для предвоенной советской внешней политики.
Возьмем вопрос о мнимой «антинацистской направленности» доклада. Так представить дело можно только в том случае, если не считаться с прогерманскими акцентами выступления, привлекшими внимание «других историков».
С высказыванием Сталина о том, что Германия – страна, «серьезно пострадавшая в результате Первой мировой войны и версальского мира» [378]378
Отчетный доклад т. Сталина… // XVIII съезд… С. 11 (курсив мой. – Авт.).
[Закрыть](подтверждение распространенного мнения о том, что Сталин рассматривал нацистское движение как главным образом реваншистское). С его заявлением о том, что западным странам так и не удалось « поднять ярость Советского Союза против Германии (в связи с пропагандистской шумихой в иностранной печати вокруг Карпатской Украины. – Д.Н.), отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований» [379]379
Отчетный доклад т. Сталина… // XVIII съезд… С. 13 (курсив мой. – Авт.).
[Закрыть]. Еще с одним заявлением о том, что «немцам отдали районы Чехословакии (имеются в виду Чешские Судеты. – Д.Н.), как цену за обязательство начать войну с Советским Союзом, а немцы отказываются теперь платить по векселю, посылая их(страны Запада. – Д.Н.) куда-то подальше» [380]380
Там же. С. 14 (курсив мой. – Авт.).
[Закрыть].
Анализ международного положения Сталин завершил перечнем принципов своей внешней политики. Главные из них: «Мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми странами… поскольку они не попытаются нарушить интересы нашей страны… не попытаются нарушить прямо или косвенно интересы целости и неприкосновенности границ Советского государства». Это – в адрес нацистской Германии, от которой только и могла исходить угроза советским границам. Их дополнили слова, послужившие основанием для характеристики выступления Сталина за рубежом как «речи о жареных каштанах»: «Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками» [381]381
Отчетный доклад т. Сталина… // XVIII съезд… С. 15.
[Закрыть]. А это – в адрес стран Запада.
Думается, Г. Городецкий сознательно отказался от разбора текста доклада Сталина с его положениями, позволяющими предметно судить о международной стратегии советского руководства. Остановись он, скажем, на сталинском положении об отсутствии для вооруженного конфликта с Германией «видимых на то оснований», пришлось бы задаться вопросами, требующими ответов.
К примеру, какие основания были для такого утверждения, то есть углубиться в прошлое советско-германских отношений и в сталинские представления о нацизме. Задаться вопросом и о том, какая связь существовала между этим утверждением и его же, Сталина, критикой политики стран Запада. Также попытаться сопоставить заявление об отсутствии оснований для советско-германского вооруженного конфликта, сделанное накануне оккупации Чехословакии с трибуны партийного съезда, с официальным протестом, выраженным по дипломатической линии 18 марта М.М. Литвиновым [382]382
Нота народного комиссара иностранных дел СССР М.М. Литвинова послу Германии в СССР Ф. Шуленбургу. 18 марта 1939 г. // ДВП СССР. Т. 22. Кн. 1. С. 202–204.
[Закрыть](которому, кстати, не было дано слово для выступления на партийном съезде), и спросить самого себя: какое из этих «действительных событий» имело большее значение? Словом, последовать своему призыву попытаться «понять настроения людей того периода и не судить о них с позиций сегодняшнего дня».
Посмотрим, как оценивали выступление Сталина современники – иностранные дипломаты в Москве, донесения которых своим правительствам, надо думать, более важны для уяснения политики тогдашних мировых лидеров, чем то, как в наши дни это выступление представляется историку.
Иностранными дипломатами, аккредитованными в советской столице, речь Сталина на партийном съезде была воспринята однозначно – как прогерманская и антизападная. Посол Германии Ф. Шуленбург в донесении в Берлин обращал внимание на то, что «сталинская ирония и критика в значительно более острой форме была направлена против Британии, т. е. против находящихся там у власти реакционных сил, чем против так называемых агрессивных стран, в частности Германии» [383]383
Documents on German Foreign Policy, 1918–1945. Series D (1937–1945). Vol. 6. P. 1.
[Закрыть]. Временный поверенный в делах США в СССР А. Керк сопоставил высказывание Сталина о стремлении Запада спровоцировать советско-германский конфликт «без видимых на то оснований» со сформулированной им задачей «не дать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны». И заключил: «судя по словам Сталина, публично провозглашено, что если Германия не станет непосредственно угрожать советским границам, то она может рассчитывать на советский нейтралитет в случае войны против западных держав» [384]384
Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. The Soviet Union, 1933–1939. Washington, 1952. P. 748–749.
[Закрыть]. С этим был согласен и английский посол У. Сидс. Обстоятельное донесение в Лондон посол завершил рекомендацией тем «наивным людям» в Англии, кто полагает, что Советский Союз только и ждет приглашения, чтобы присоединиться к западным демократиям, поразмыслить над поставленной Сталиным задачей «соблюдать осторожность и не давать втянуть себя в конфликты провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками» [385]385
Documents on British Foreign Policy. 1919–1939. 3rd Ser. Vol. 1–9. London, 1949–1955. Vol. 4. P. 419. Далее – DBFP.
[Закрыть].
Советские заявления были в том же антизападном и прогерманском русле. На позднем ужине в Кремле в узком составе, которым завершилось подписание советско-германского пакта 23 августа 1939 года, В.М. Молотов, согласно немецкой записи переговоров, «поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Сталин своей речью в марте этого года, которую в Германии правильно поняли, полностью изменил политические отношения между двумя странами» [386]386
Запись беседы имперского министра иностранных дел со Сталиным и Молотовым. Государственная тайна. Канцелярия Имперского Министра иностранных дел, 24 августа 1939 г. // СССР – Германия. В 2-х книгах, Vilnius, 1989. Т. 1. Документы и материалы о советско-германских отношениях с апреля по октябрь 1939 г. С. 69.
[Закрыть]. Спустя неделю, выступая на внеочередной сессии Верховного Совета СССР с предложением о ратификации пакта, Молотов повторил: «Теперь видно, что в Германии в общем правильно поняли эти заявления т. Сталина и сделали из этого практические выводы» [387]387
Речь председателя Совета народных комиссаров, Народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова на сессии Верховного Совета СССР. 31 августа 1939 г. // Год кризиса. Т. 2. С. 348.
[Закрыть]. По его словам, «Советское правительство и раньше считало желательным сделать дальнейший шаг в улучшении политических отношений с Германией…» [388]388
Там же. С. 350 (курсив мой. – Авт.).
[Закрыть]
0 реакции в Берлине на сталинскую речь можно прочитать в предсмертных воспоминаниях министра иностранных дел Германии И. Риббентропа, который «ознакомил» Гитлера с речью «и настоятельно просил» полномочий «для требующихся шагов». Но сначала Гитлер занял выжидательную позицию и колебался [389]389
Риббентроп И. Между Лондоном и Москвой. Воспоминания и последние записи. Из наследия, изданного Аннелиз фон Риббентроп. М., 1996. С. 134.
[Закрыть]. Хотя, как теперь известно из документальных публикаций, объясняя германскому военному руководству свое решение заключить пакт о ненападении с Советским Союзом, Гитлер говорил, что еще осенью 1938 года, не будучи уверен в безусловной поддержке своих планов Италией и Японией, он решил «быть заодно со Сталиным» [390]390
DBFP. Vol. 7. Р. 257–258.
[Закрыть]. Есть над чем задуматься, не правда ли? Над тем, скажем, что давало основания Гитлеру рассчитывать на договоренности со Сталиным.
Теперь относительно того, что будто на партийном съезде Сталин провозгласил отказ от революционной борьбы и вообще от наступления на позиции мирового капитализма. Хотя «вторая империалистическая война», грозившая перерасти в «войну всеобщую, мировую», создавала определенные возможности для прорыва «враждебного капиталистического окружения». В то время, по воспоминаниям Н.С. Хрущева, Сталин готовил партработников к «большой войне» СССР с его врагами, которая «неумолимо надвигалась» [391]391
Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева. // «Вопросы истории». 1990, № 7. С. 75, 80.
[Закрыть]. Кому мало этого свидетельства представителя партийной верхушки, нужно обратиться к свидетельству самого товарища Сталина.
В сталинском «Кратком курсе истории ВКП (б)», никак не заинтересовавшем Г. Городецкого, подчеркивается именно военная сторона дела: поскольку «вторая империалистическая война» представляла опасность «прежде всего» для СССР, ответом стало «дальнейшее усиление обороноспособности наших границ и боевой готовности Красной Армии и Красного Флота» [392]392
Краткий курс истории ВКП (б). С. 320.
[Закрыть].
Дальше – больше. В этой книге (увидевшей свет в сентябре 1938 года) в разделе «Теория и тактика большевистской партии по вопросам войны, мира и революции» говорилось о том, что в годы Первой мировой войны «большевики не были против всякой войны». Они признавали законность войн справедливых, относя к таким войнам не только «защиту народа от внешнего нападения и попыток его порабощения», но и «освобождение народа от рабства капитализма», а также «освобождение колоний и зависимых стран от гнета империалистов» [393]393
Там же. С. 161 (курсив источника).
[Закрыть]. Но не потеряли ли эти положения актуальности в новых условиях «второй империалистической войны»? Нисколько, о чем можно судить по многим «действительным событиям».
Возьмем доклад на XVIII съезде ВКП (б) Д.З. Мануильского, который, наряду с отчетным докладом Сталина, стал для заграницы ориентиром для выводов о курсе советской внешней политики. Выступая от имени делегации ВКП (б) в Коминтерне, он заявил, что «указания «Краткого курса» о справедливых и несправедливых войнах – четкая марксистско-ленинская линия в связи с империалистической войной» [394]394
Доклад делегации ВКП (б) в ИККИ на XVIII съезде ВКП (б). Докладчик т. Мануильский. // XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет. С. 59 (курсив мой. – Авт.).
[Закрыть]. Но партийные документы практически остались вне исследовательского интереса Г. Городецкого.
Не обратил внимания израильский историк и на Постановление ЦК ВКП (б) от 14 ноября 1938 года, принятое по случаю публикации учебника по истории партии. В нем решительно отвергались «извращения марксистско-ленинских взглядов по вопросу о характере войн в современную эпоху, непонимание различия между войнами справедливыми и несправедливыми, неправильный взгляд на большевиков, как на своего рода «пацифистов» [395]395
Постановление ЦК ВКП (б) от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП (б)» // «Правда». 15 ноября 1938 г.
[Закрыть].
Это положение Постановления ЦК, проект которого был «исправлен» Сталиным [396]396
Постановление ЦК ВКП (б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП (б)». 14 ноября 1938 г. // Стенограмма заседаний Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б). 1923–1938 гг. В 3-х томах. Том 3. 1928–1938 гг. М., 2007. С. 756.
[Закрыть], в обнаженном виде было прокомментировано им же в выступлении на закрытом совещании по вопросам пропаганды в ЦК 1 октября 1938 года. Товарищ Сталин высмеял представление о большевиках как о людях, которые «вздыхают о мире и потом начинают браться за оружие только в том случае, если на них нападают. Неверно это». А что верно? А то, что «бывают случаи, когда большевики сами будут нападать, если война справедливая, если обстановка подходящая, если условия благоприятствуют, сами начнут нападать». Далее еще конкретнее, еще яснее: «Они (большевики. – Д.Н.) вовсе не против наступления, не против всякой войны. То, что мы кричим об обороне, – это вуаль, вуаль. Все государства маскируются: «с волками живешь, по-волчьи приходиться выть». Ответом партийной аудитории был дружный смех. И в завершение пассажа: «Глупо было бы свое нутро выворачивать и на стол выложить. Сказали бы, дураки» [397]397
И.В. Сталин о «Кратком курсе истории ВКП (б)». Стенограмма выступления И.В. Сталина на совещании пропагандистов. 1 октября 1938 г. // «Исторический архив». 1994, № 5. С. 5—29.
[Закрыть].
Для Г. Городецкого подобные откровения Сталина из разряда свидетельств, которыми можно пренебречь. «Другие историки» не считают себя вправе следовать приему умолчания.
Как же выполнялись указания советского вождя о преодолении неправильного взгляда на большевиков «как на своего рода пацифистов», об агитационно-пропагандистской подготовке к «справедливой войне»?
Остановимся на статье «Международная обстановка второй империалистической войны», появившейся в номере журнала «Большевик» за февраль 1939 г. Она была написана заместителем народного комиссара иностранных дел В.П. Потемкиным (под псевдонимом В. Гальянов), как можно предположить, по заданию Сталина [398]398
См.: Шейнис З.С. Максим Максимович Литвинов: революционер, дипломат, человек. М., 1989. С. 360. После партийного съезда эта же статья вышла в серии «В помощь пропагандисту», открывая брошюру «Материалы к изучению доклада товарища Сталина на XVIII съезде ВКП (б)» (Новосибирск. 1939).
[Закрыть].
Автор статьи отталкивался от основной сталинской установки – «идет вторая империалистическая вой-на» [399]399
Гальянов В. Международная обстановка Второй мировой войны. // «Большевик». 1939, № 4. С. 49.
[Закрыть]. При самом внимательном чтении в ней невозможно обнаружить даже чисто словесных заявлений о необходимости остановить войну, предотвратить ее разрастание. Наоборот, в статье приветствовалось конфликтное развитие событий, ибо, говорилось в ней, «человечество идет к великим битвам, которые развяжут мировую революцию» [400]400
Там же.
[Закрыть]. Пропаганда мира и коллективной безопасности уступила место марксистскому просвещению людей «с обывательским кругозором», надеявшихся, что «все устроится, все обойдется». Подобным рассуждениям противопоставлялась позиция «сознательной части человечества», заявленная в словах о том, что « для учеников Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина вторая империалистическая война представляет собой важнейшее явление жизни людей» [401]401
Там же. С. 50 (курсив мой. – Авт.).
[Закрыть]. И завершалась статья на той же высокой антикапиталистической ноте. Находясь «между двумя жерновами»: Советским Союзом, «грозно поднявшимся во весь исполинский рост», и «несокрушимой стеной революционной демократии, восставшей ему на помощь, – в прах и пыль обращены будут последние остатки капиталистической системы» [402]402
Гольянов В. Международная обстановка Второй мировой войны. // «Большевик». 1939, № 4. С. 65.
[Закрыть].
В.П. Потемкина вдохновляла уверенность, что Советский Союз – «сильнейшая в мире военная держава», а потому без него «неразрешим ни один общий внешнеполитический вопрос, не мыслимо ни одно серьезное начинание в области международной жизни» [403]403
Там же. С. 65.
[Закрыть]. Не преувеличение ли это – что Советский Союз был сильнейшей военной державой? Нет, не преувеличение. В. Суворов в «Ледоколе» приводит на этот счет достаточно доказательств.
Любопытно, что уверенность в военных возможностях Советского Союза подкреплялась верой в революционный потенциал международного пролетариата. Вот что писал по этому поводу Д.М. Проэктор: «Идея неизбежности революции в капиталистических странах в случае агрессии против Советского Союза глубоко вошла в сознание Сталина и его окружения. Они отражались в той или иной мере и в политике, и в военной теории, и в военной доктрине, и даже в планах будущей войны» [404]404
Проэктор Д. М. Указ. соч. С. 89.
[Закрыть].
Материалы бывшего партийного архива (ныне РГАСПИ) говорят: да, таковы были в Советском Союзе «настроения людей того времени».
В докладе Д.З. Мануильского на международные темы (с грифом «инструктивного»), с которым он выступил в середине июля 1939 года, рисовалась радужная картина растущего мирового антифашистского движения, распространявшегося и на страны-агрессоры. Вот несколько мест из его выступления:
«Я утверждаю, что несколько времени тому назад в одной венской казарме появился портрет, повешенный солдатами, товарища Сталина (бурные аплодисменты. Крики «ура». Все встают)» [405]405
Стенограмма доклада тов. Мануильского о международном положении. 14 июля 1939 г. // РГАСПИ. Ф. 523, оп. 1 д. 92, л. 20.
[Закрыть].
«Я утверждаю… что в германской армии имеются такие части, которые находятся под влиянием коммунистов. А в Чехословакии рабочие вместе с немецкими солдатами пели «Интернационал». Комментарий докладчика: «Я скажу откровенно – незавидно положение фюрера, у которого солдаты поют Интернационал… немецкий народ ждет поражения германского фашизма» [406]406
Там же. Л. 20–20 об., 21.
[Закрыть].