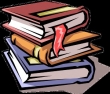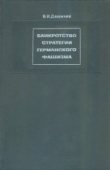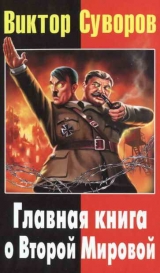
Текст книги "Виктор Суворов: Главная книга о Второй Мировой"
Автор книги: Михаил Веллер
Соавторы: Андрей Буровский,Марк Солонин,Владимир Бешанов,Дмитрий Хмельницкий,Ричард Раак,Ирина Павлова,Джахангир Наджафов,Ури Мильштейн,Томас Титура,Юрий Цурганов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
Никто из критиков Суворова так и не сумел непротиворечиво объяснить логику действий советского руководства весной 1941 г., сути грозного движения гигантской советской военной машины на запад, красоту сталинского замысла, воплощавшегося в жизнь в полном соответствии с марксистско-ленинской «методологией».
И потому плавание «Ледокола» продолжается.
Дмитрий Хмельницкий
Статьи и письма. Виктор Суворов, советская история и советские люди
Значение ключевых книг исторической серии Суворова – «Ледокола» и «Дня М» – далеко выходит за рамки собственно военной истории. Хотя совершенно закономерно, что ключевое для истории СССР открытие совершил военный историк – ведь главные цели Сталина были именно военными. Но именно потому, что сталинский СССР был милитаризованным государством, существовавшим ради решения исключительно военных задач, концепция Суворова дала ключ для понимания всей советской истории. Она логично и непротиворечиво склеила воедино во многом еще мозаичную и неясную картину сталинской культуры и сталинского государства.
Вот один пример из близкой мне области – истории архитектуры.
В апреле 1941 года журнал «Архитектура СССР» публикует материалы архитектурного конкурса, в котором приняли участие все ведущие зодчие СССР. Тема – «Здание для панорамы «Штурм Перекопа». Гигантская панорама (130 х 18 м), посвященная победе Красной Армии в 1920 году, писалась группой художников с 1934 по 1941 год. Это был последний крупный архитектурный конкурс перед началом советско-германской войны.
Трудно объяснить исходя только из истории архитектуры, почему именно весной 1941 года Сталину вздумалось занять самых титулованных советских архитекторов таким странным заданием – монументом в честь полузабытой победы Красной Армии в Гражданской войне.
Может, это, конечно, чистая случайность, но мне так не кажется. Сталин вообще ничего не делал случайно. Если действительно на лето 1941 года готовилось нападение на Германию, то весна – самое время, чтобы начать разработку архитектурных символов будущих побед Красной Армии. Как вполне своевременно, тоже именно весной 1941 года сочинять песни, которые должны были воодушевлять бойцов Красной Армии на эти победы. Такие песни, как как раз тогда заказанная «Священная война».
А храм в честь штурма Перекопа мог быть без малейших проблем чуть позже перепосвящен штурму Парижа, Вены, Берлина, Мадрида… И построен где угодно.
* * *
Дискуссии вокруг книг Виктора Суворова только выглядят дискуссиями о Суворове. На самом деле – это дискуссии о Сталине. В них в концентрированном виде выявился главный и нерешенный вопрос всей советской истории – чего добивался Сталин, ломая и калеча страну и людей, выстраивая личную, неповторимую и ни на что не похожую систему власти? Ради чего происходило все то, что происходило в его правление?
Вариантов ответа даже теоретически может быть только два. Один – крайне лестный для советского прошлого. Второй – исключительно неприятный.
Первый ответ нам хорошо знаком. Несколько поколений советских людей разучивало его буквально с детского сада. Он гласит: СССР всегда последовательно боролся за мир. Сталин стремился предотвратить мировую войну. Пакт 1939 года был спасительным для СССР, а оккупация с согласия Гитлера территорий нескольких европейских стран была вынужденным оборонительным шагом. Сталин к нападению на Германию в 1941 году не готовился, он готовился к обороне и именно с этой целью вывел на границу всю Красную Армию.
Но армия, которая готовилась только оборонять свою страну, защищаться почему-то не смогла и погибла летом 1941 года в результате коварной агрессии Германии.
Второй ответ впервые в полном виде дал в своих книгах Виктор Суворов. Он звучит так: Сталин сознательно, с первого же момента прихода к единоличной власти в конце 20-х годов начал готовить завоевание Европы. Его цель была – милитаризовать страну, спровоцировать мировую войну, вступить в нее в самый удобный момент и остаться в конечном счете единственным победителем. Провокация войны удалась в 1939 году. Кульминация советского нападения на Европу должна была прийтись на лето 1941 года, но Сталин ошибся в сроках и позволил Гитлеру напасть первому.
Иногда встречается и третий вариант – Сталин вообще ни о чем не думал, ни к обороне, ни к нападению не готовился, никаких планов не имел, а войска двигал туда-сюда без всякой цели. Но рассматривать всерьез вариант Сталина-идиота не имеет смысла.
В научных спорах вокруг сталинской политики с обеих сторон принимает участие множество людей, но имя Виктора Суворова по-прежнему остается в центре полемики. Обойти его невозможно, хотя сам Суворов в прямых дискуссиях практически не участвует. Виктор Суворов первым сформулировал проблему, расставил точки над «1» и привел множество доказательств правоты своей концепции сталинской истории. И поставил своих противников перед необходимостью не только опровергнуть его доводы в пользу версии «Сталин-агрессор», но и последовательно аргументировать альтернативный вариант – тезис о «Сталине-миротворце».
Всего в России вышло к 2005 году около двух десятков книг, оспаривающих Виктора Суворова. Большая часть из них направлена против него лично. Это поношения «предателя Резуна», авторов которых даже с большой натяжкой невозможно рассматривать как дискутантов в научном споре. Попытки опровергнуть концепцию Суворова более или менее корректными способами до сих пор ни к чему не привели.
Ситуация оказалась для его оппонентов крайне неудобной. Практически вся связная «антисуворовская» деятельность свелась к малоуспешному оспариванию второстепенных и третьестепенных деталей его книг, до упора набитых аргументацией. Главных контраргументов, то есть доказательств того, что Сталин нападение на Европу вообще и на Германию в частности в 1941 году НЕ готовил, а наоборот, готовил оборону, никто не привел. И похоже, в природе их не существует.
Выстроить последовательную защиту альтернативного варианта советской истории тоже до сих пор никто не решился. Для этого следовало бы доказать, что Сталин не только в принципе не готовил захват Европы, но и что у его внешней, внутренней, экономической и культурной политики были какие-то другие, неизвестные пока цели. Сегодня мы достаточно много знаем о Сталине, чтобы с большой долей уверенности утверждать: такая версия недоказуема.
Остается суворовский вариант развития советской истории, но согласиться с ним мешает очень многое. В первую очередь это означает пересмотр – «ревизию» – устоявшихся и канонизированных послевоенной политкорректностью взглядов на историю Второй мировой войны. В той ее части, где речь идет о роли Советского Союза. Смена статуса сталинского СССР с «жертвы и освободителя» на статус «палача и агрессора» тяжело дается даже людям, не испытывающим симпатий к сталинизму. Даже если они специалисты по истории СССР. И тем более, если они – советские специалисты по военной истории СССР.
Впрочем, и на Западе, скажем в Германии, научный истеблишмент крайне раздраженно реагирует на книги Суворова. Причина раздражения прямо противоположна мотивам российских «антиревизионистов». Последние защищают благородную репутацию СССР во Второй мировой войне.
Немецкие исследователи (не все, но очень многие) боятся неожиданного обеления репутации Гитлера. Логика здесь простая, но абсурдная. Если Суворов прав и Гитлер опередил нападение Сталина всего на несколько недель, значит, нападение было превентивным и оправданным. Значит, Гитлер был прав.
Ни одного слова, оправдывающего Гитлера, в книгах Суворова нет. Мотивы поведения Гитлера, его мораль и его политика никак не могли зависеть от того, собирался Сталин на него напасть или нет. Заподозрить Гитлера в симпатиях к СССР в любом случае невозможно. Вынужденность – «превентивность» – нападения Германии на СССР именно летом 1941 года, а не в другое, более удобное для этого время, никак не может оправдать Гитлера.
Странным образом получается, что репутация Гитлера, уже развязавшего вместе со Сталиным Вторую мировую войну, напавшего на множество европейских стран и установившего нацистский режим на половине Европы, зависит от того, напал он на своего союзника по агрессии превентивно, упреждая его удар, или просто потому, что очень этого захотел.
Однако репутация Сталина весьма сильно зависит от ответа на вопрос, было нападение Гитлера «превентивным» или нет. В первом случае Сталин – агрессор, хоть и не вполне состоявшийся, во втором – практически невинная жертва.
Накал эмоций, очень сильно мешающий научным исследованиям, и превращает дискуссию вокруг теории Виктора Суворова в постоянный общественный скандал.
В дискуссиях российских историков о причинах и характере Второй мировой войны есть один любопытный момент. Обе стороны оперируют второстепенными или косвенными материалами. Ключевых архивных документов нет. Точнее, считается, что как бы нет.
В книге М.И. Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина», вышедшей в 2000 году, – фундаментальнейшем исследовании по предыстории Второй мировой войны, в главе «Советское военное планирование в 1940–1941 гг.» из 122 ссылок только семь – на документы из архивов (Российского государственного военного архива и РГАСПИ). Это все, что было доступно исследователю. Мельтюхов пишет: «…Комплексное исследование всех этих материалов, в совокупности составлявших советский оперативный план, обеспечивающий организованное развертывание и вступление в боевые действия Красной Армии в соответствии с целями и задачами первых стратегических операций, все еще остается, к сожалению, неосуществимым. Пока же мы вынуждены ограничиться рассмотрением доступных текстов четырех докладных записок на имя И.В. Сталина и В.М. Молотова, содержащих основные идеи военных планов…» [31]31
М. Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина. М., 2000. С. 371.
[Закрыть].
В опубликованном журнале посетителей кремлевского кабинета Сталина можно легко выяснить, что Жуков со 2 января по 21 июня 1941 года (начальником Генерального штаба он был назначен 13 января 1941 года) побывал в кремлевском кабинете Сталина 33 раза. В среднем каждые 5 дней. Только в июне – 10 раз. Ни малейшей информации о том, чем они там занимались, нет. Хотя можно легко догадаться, что именно военным планированием.
Мельтюхов: «… В конкретных военных приготовлениях СССР ключевое место занимала деятельность Генерального штаба по военному планированию, до сих пор содержащая, к сожалению, значительное количество «белых пятен», что связано с сохранением секретности соответствующих документов 1939–1941 гг. Ныне отечественная историография располагает довольно цельной картиной хода выработки документов военного планирования на стратегическом уровне, однако их содержание, а также связь с планированием на уровне военных округов все еще остаются слабо изученными» [32]32
М. Мельтюхов. Упущенный шанс Сталина. С. 370.
[Закрыть].
Иными словами, хорошо известно, где именно находятся все документы, касающиеся предвоенного военного планирования. Легко вычислить людей, которым эти документы доступны, которые могут любоваться ими хоть каждый день. Это сотрудники архива Генерального штаба и Президентского архива, бывшего архива Политбюро. Ну и их начальство. То есть самые главные противники суворовской концепции. А прочие ученые в целом уже догадываются о том, как именно происходила разработка этих документов, но ничего не знают об их содержании…
Получается, что где-то совсем рядом лежат буквально тонны недоступных для исследования бумаг – ключевых документов, публикация которых мгновенно разъяснила бы ситуацию и ответила на все вопросы. А дискуссии разворачиваются лишь вокруг нескольких, случайно выпавших из папок и из контекста. При этом есть люди, по долгу службы прекрасно обо всем осведомленные, – хранители секретных архивов. Но они в дискуссиях не участвуют. А может, и участвуют, но информацию свою держат в секрете.
Очевидно, что никакой пользы для себя из обладания секретами архивов Генерального штаба казенные российские военные историки извлечь не могут, иначе бы давно все было бы рассекречено. Единственная польза – сокрытие научной информации, чтобы ею не смогли воспользоваться их противники.
Сторонникам концепции Суворова намного легче. Приказы Генштаба и решения Политбюро можно скрыть в архивах, но реальные процессы, захватившие всю страну в результате исполнения секретных приказов, спрятать невозможно. Это позволяет и без секретных архивов вполне достоверно реконструировать секретный смысл сталинской политики и те же самые недоступные для изучения приказы.
* * *
Дискуссии о том, каковы были предвоенные планы Сталина, автоматически оказываются дискуссиями вокруг концепции Виктора Суворова. Это часто порождает иллюзию того, что Суворов – единственный защитник своей идеи. Однако Суворов с самого начала не был одиночкой. Его концепцию поддержало достаточно много очень серьезных историков – и российских, и иностранных. Просто эта поддержка высказывалась, как правило, в сугубо научных публикациях, не имеющих широкой аудитории. При этом она часто выражалась не в форме прямого согласия лично с Суворовым, а в виде самостоятельных научных изысканий, результаты которых совпадали с выводами Суворова. Можно сказать, что на сугубо научном уровне концепция Суворова уже одержала полную победу. Аргументация его главных противников – генералов Махмуда Гареева и Юрия Горькова, полковника А. Мерцалова и Л. Мерцаловой, Габриэля Городецкого и пр. – опровергнута не только и не столько самим Виктором Суворовым, сколько работами Михаила Мельтюхова, Владимира Невежина, Татьяны Бушуевой, Владимира Данилова, Владимира Дорошенко, Ирины Павловой и многих других.
Сейчас можно с очень большой долей уверенности утверждать, что научной альтернативы суворовской идее о том, что Сталин готовил агрессию против Германии и Европы, нет, поскольку не существует ни малейших доказательств того, что СССР в 1939–1941 годах готовился к обороне, а внешнеполитические планы Сталина носили оборонительный характер. Не существует также никакой внятной альтернативы и предположению, что подготовка агрессивной войны против Запада была главной целью Сталина в течение всего периода его правления и предопределяла всю внутреннюю и внешнюю политику СССР.
Среди историков, фактически поддержавших концепцию Суворова, одно из самых важных мест принадлежит доктору исторических наук Михаилу Мельтюхову. Во-первых, он автор основополагающего труда о подготовке СССР ко Второй мировой войне «Упущенный шанс Сталина». Во-вторых, его нельзя заподозрить как в личных симпатиях к Виктору Суворову, так и в том, что он разделяет политические взгляды Суворова. Подготовку к нападению на Европу, которую Суворов считает преступлением, Мельтюхов воспринимает как совершенно разумный шаг.
Тем важнее совпадения выводов Суворова и Мельтюхова относительно характера подготовки Сталина к мировой войне.
В 1996 году Михаил Мельтюхов опубликовал в сборнике «Советская историография», вышедшем под редакцией академика Ю. Афанасьева, статью «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол» [33]33
М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография», Москва, 1996, с. 488–521.
[Закрыть]. Статья интересна не только взвешенным взглядом на работу самого Суворова, но и жесткой оценкой выступлений его российских критиков – Ю. Горькова, М. Гареева и других. Вот как оценил Мельтюхов основные тезисы книги Суворова на фоне тогдашнего состояния дел в российской историографии:
«Основная идея В. Суворова заключается в том, что главной целью внешней политики большевистского руководства было осуществление «мировой революции». Для ее достижения был разработан четкий план по подготовке мировой войны, которая разрушила бы Европу, облегчив ее «советизацию». С этой же целью в Советском Союзе создавался колоссальный военно-промышленный комплекс и наращивались мощные вооруженные силы.
Кроме того, Москве был необходим политический лидер, которого она могла бы использовать для развязывания войны в Европе. Таким политиком и стал Гитлер, по мнению Суворова, сотворенный и приведенный к власти при помощи Сталина.
Используя экспансионистские устремления Германии, советское руководство всячески способствовало обострению международной ситуации в Европе и возникновению войны. Автор «Ледокола» утверждает, что коммунисты «руками Гитлера… развязали в Европе войну и готовили внезапный удар по самому Гитлеру, чтобы захватить разрушенную им Европу». Из этого проистекает и общий вывод В. Суворова о том, что Советский Союз – главный виновник и зачинщик Второй мировой войны» [34]34
М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография», Москва, 1996, с. 488–489.
[Закрыть]. <…>
«Версия Суворова о Гитлере – «Ледоколе Революции», который подорвет капиталистическую систему и в нужный момент будет разгромлен Красной Армией, для отечественной историографии нова. Но материалы об оценке советским руководством событий Второй мировой войны в 1939–1941 гг., имеющиеся у историков, позволяют говорить о ее определенной плодотворности. Вряд ли стоит отрицать, что советское руководство действительно пыталось использовать любое столкновение между великими державами для осуществления «революции» в Европе, рассматривая в качестве основных своих противников Англию и Францию. И все же смысл советской позиции заключался не в том, чтобы самим начать войну (это могло бы привести к образованию единого антисоветского фронта), а в том, чтобы использовать такую войну в своих интересах. Кроме того, Англия и Франция также надеялись использовать Гитлера для уничтожения СССР, на что справедливо указал А.Д. Орлов, а США намеревались воспользоваться войной в Европе для расширения своего влияния. Другими словами, подход В. Суворова столь же тенденциозен, как и подход некоторых отечественных ученых, видящих во всей предвоенной ситуации только козни «западных империалистов». <… >
«Версия В. Суворова о советско-германском разделе Польши и советских территориальных захватах в Восточной Европе с целью создать будущий плацдарм для удара по Германии также стала достоянием отечественной историографии. Официальная историография продолжает поддерживать версию о том, что нападение Германии на Польшу и ее быстрый разгром обеспокоили СССР и вынудили его начать военные приготовления и ввести Красную Армию на территорию западного соседа. Среди сторонников этой версии очень популярна мысль об антигерманской подоплеке советских действий в Польше [35]35
См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза. Т. 1. С. 395–404; История Второй мировой войны. Т. 3. С. 345–355; История внешней политики СССР. М., 1986. Т. 1. С. 391–392,420—425; Розанов Г.Л. Сталин – Гитлер: 1939–1941 гг. М., 1991. С. 110–116; Орлов А. С. СССР – Германия: август 1939 г. – июнь 1941 г. М., 1991. С. 5, 8-И; Парсаданова B.C. «Польская» политика СССР в сентябре 1939 – июне 1940 г. // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале Второй мировой войны (сентябрь 1939 – август 1940 г.). М., 1990.С. 53–66; Волков С.В., Емельянов Ю.В. Указ. соч. С. 150–160; Антосяк А.В. Освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии // Военно-исторический журнал. 1989. № 9. С. 52.
[Закрыть]. Ряд авторов, наоборот, отмечают, что действия советского руководства в отношении Польши были предопределены договоренностью с Германией о разделе сфер интересов в Восточной Европе и сталинской политикой территориальных захватов. Отсюда делается вывод, что 17 сентября 1939 г. Советский Союз нарушил свои договоры с Польшей и совершил против нее агрессию. В результате договора 28 сентября 1939 г. СССР и Германия поделили Польшу и та исчезла с политической карты мира, а следовательно, рухнула Версальская система в Восточной Европе» [36]36
См.: Орлов А.С. Указ. соч. С. 14–15; Бережков В. М. Просчет Сталина // Международная жизнь. 1989. № 8. С. 19; Семиряга М.И.Указ. соч. С. 84; Розанов Г.Л. Указ. соч. С. 112–113; Лебедева Н.С. Катынь: преступление против человечества. М., 1994. С. 9—34.
[Закрыть]. <…>
«Рассуждения В. Суворова о наступательном характере советской военной доктрины, опирающиеся на работы советских военачальников 20—30-х гг. [37]37
М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография», Москва, 1996, с.492.
[Закрыть], в целом сопоставимы с теми идеями, которые уже высказывались в отечественной литературе. Как правило, указывается, что основной идеей советской военной доктрины являлась оборона и быстрый переход в контрнаступление для разгрома агрессора [38]38
Суворов В. Ледокол. С. 55–64.
[Закрыть]. Правда, ознакомление с тогдашними военно-научными разработками не подтверждает это мнение [39]39
См.: Анфилов В.А. Крушение похода Гитлера на Москву. С. 80–86; Горьков Ю. А. Готовил ли Сталин превентивный удар против Гитлера в 1941 г. // Новая и новейшая история. 1993. № 3. С. 34–37.
[Закрыть]. В литературе приводятся также материалы, свидетельствующие о том, что применительно к проблеме начального периода войны в них доминировала идея внезапного упреждающего удара по противнику, исключающая пассивное ожидание его действий [40]40
См.: Анфилов В. А. Крушение похода Гитлера на Москву. С. 75–76.
[Закрыть]. <…> Вопреки содержанию военно-теоретических разработок того времени в отечественной историографии преобладает точка зрения о сугубо оборонительной военной доктрине Красной Армии. Лишь некоторые авторы отмечают, что оборонительный характер военной доктрины не препятствовал подготовке наступательных действий войск, которая, судя по приводимым в литературе данным, преобладала [41]41
См.: Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Т. 2, ч. 1. С. 56–57; Орлов А. С. Так кто же начал войну? // Армия. 1993. № 8. С. 17; Хорьков А. Г. Указ. соч. М., 1991. С. 51–58.
[Закрыть]. При этом в стороне остается вопрос, почему явно наступательную военную доктрину в литературе упорно именуют «оборонительной»? Вместе с тем в историографии ряд авторов считают ошибкой то, что военной доктрине был присущ наступательный характер [42]42
См.: Исаев С. И., Раманичев Н. М., Чевела П. П. Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. М., 1990. С. 30–31; Бабин А. И. Канун и начало Великой Отечественной войны. М., 1991. С. 56; Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. С. 56; Проэктор Д. М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М., 1989. С. 306–307; Павленко Н. Г. Была война. М., 1994. С. 40–72.
[Закрыть]. Однако, даже признавая наступательную направленность боевой подготовки Красной Армии, авторы отмечают, что советская военная доктрина не содержала агрессивных устремлений [43]43
См.: Горьков Ю. А. Указ. соч. С. 37; Орлов А. С. СССР – Германия. С. 17.
[Закрыть]. Тот факт, что Красная Армия не раз использовалась по приказу советского руководства против соседей СССР, позволяет скептически отнестись к подобным утверждениям.
Кроме того, не следует забывать, что военная доктрина и не может содержать агрессивных устремлений, поскольку в ней эти вопросы вообще не рассматриваются. Агрессивным бывает внешнеполитический курс государства, а военная доктрина отражает вопросы подготовки Вооруженных сил к войне, методов ее ведения. <…> Поэтому попытки некоторых критиков обвинить В. Суворова в том, что он «смешивает предумышленную агрессию с наступательным маневрированием» [44]44
См.: Городецкий Г. Миф «Ледокола». С. 294; См. также: Свободная мысль. 1993. № 6. С. 51.
[Закрыть], выглядят совершенно бездоказательными, поскольку обходят молчанием вопрос о целях «маневрирования» [45]45
М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография». Москва, 1996, с. 496–497.
[Закрыть]. <…>
«Рассуждения В. Суворова о состоянии инженерной подготовки театра военных действий (ТВД) накануне войны [46]46
См.: Суворов В. Ледокол. С. 73—105.
[Закрыть]непривычны для отечественной литературы, в которой эти вопросы изучены слабо. Наиболее подробно описано строительство на новой границе укрепленных районов (УР), которое осталось незавершенным, поскольку было длительным и дорогостоящим процессом и, по мнению ряда авторов, просчетом, так как их сооружение по линии границы не позволяло создать полосу обеспечения и велось фактически на виду у противника [47]47
См.: Анфилов В. А. Крушение похода Гитлера на Москву. С. 76–78; Киршин Ю. Я., Раманичев Н. М. Накануне 22 июня 1941 г. // Новая и новейшая история. 1991. № 3. С. 8—10; Хорьков А. Г. Указ. соч. С. 98—107; Городецкий Г. Миф «Ледокола». С. 281–283; Исаев С.И., Раманичев Н. М., Чевела П. П. Указ. соч. С. 47–48; Владимирский А. В. На киевском направлении. М., 1989. С. 38–41.
[Закрыть]. Подобное размещение УР было утверждено Москвой, хотя в случае внезапного нападения противника войска все равно не успевали их занять [48]48
См.: Сандалов Л. М. Первые дни войны. М., 1989. С. 7—10, 34.
[Закрыть]. В литературе указывается, что эти сооружения предназначались и для обороны, и для наступления, а УР на старой границе вопреки распространенной версии об их уничтожении были лишь разоружены и законсервированы [49]49
См.: Хорьков А. Г. Указ. соч. С. 98—107; 1941 год – уроки и выводы / Под ред. В. П. Неласова. М., 1992. С. 32–34, 206–207.
[Закрыть]. Освещая вопросы аэродромного строительства в приграничных округах, которое велось чрезмерно близко к границе, и отмечая неподготовленность мостов на пограничных реках к взрыву, отечественная историография не предлагает никакого серьезного объяснения всем этим фактам [50]50
См.: Хорьков А.Г. Указ. соч. С. 34, 225–227; 1941 год – уроки и выводы. С. 34–37, 198–199; Семидетко В.А. Истоки поражения в Белоруссии // Военно-исторический журнал. 1989. № 4. С. 27; Сан-да лов Л.М. Указ. соч. С. 46–47; Военно-исторический журнал. 1989. № 3.С. 68–69; Владимирский А.В. Указ. соч. С. 56.
[Закрыть]. Поэтому версия В. Суворова имеет под собой определенные основания и требует дальнейшего изучения» [51]51
М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография». Москва, 1996, с. 497–498.
[Закрыть]. <… >
Тезис В. Суворова о наступательной подготовке Красной Армии [52]52
См.: Суворов В. Ледокол. С. 105–136.
[Закрыть]не слишком популярен в отечественной историографии.
Общее мнение по этому вопросу состоит в том, что солдаты обучались напряженно, но лишь с лета 1940 г. военная подготовка перешла на более высокий уровень в связи с назначением нового наркома обороны. В литературе преобладают малосодержательные высказывания о недостаточной выучке войск [53]53
См.: Анфилов В. А. Крушение похода Гитлера на Москву. С. 67–70; Самсонов А. М. Вторая мировая война: 1939–1945. М., 1990. С. 118; Партийная жизнь. 1991. № 12. С. 29; Киршин Ю. Я., Раманичев Н. М. Указ. соч. С. 11; Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. С. 139–141; Проэктор Д. М. Указ. соч. С. 301–304; Исаев С.И., Раманичев Н. М., Чевела П. П. Указ. соч. С. 32–50; Мельтюхов М. И. 22 июня 1941 г.: цифры свидетельствуют // История СССР. 1991. № 3. С. 26–27; 1941 год – уроки и выводы. С. 45–47.
[Закрыть]. Лишь немногие авторы рассматривают проблему боевой подготовки на конкретном историческом материале, который подтверждает общий вывод о резком усилении боевой подготовки с лета 1940 г., показывают ее содержание по родам войск в приграничных округах. Анализируя данные боевой подготовки войск западных приграничных округов, носившей преимущественно наступательный характер, А.Г. Хорьков приходит к выводу, что, хотя индивидуальная подготовка бойца была невысока, в целом войска оказались неплохо подготовленными к ведению наступательных действий. Вместе с тем исследователь отмечает слабую отработку взаимодействия родов войск на поле боя [54]54
См.: Хорьков А.Г. Указ. соч. С. 51–85; См. также: Сандалов Л. М. Указ. соч. С. 38–42; Кожевников М. Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне. М., 1985. С. 26–31; Захаров М. В. Генеральный штаб в предвоенные годы. М., 1989. С. 269.
[Закрыть].
Большинство критиков «Ледокола» специально этот вопрос не рассматривали, ограничиваясь общими фразами о недостаточном уровне подготовки войск или преувеличении В. Суворовым боевых и технических возможностей Красной Армии [55]55
См.: Солнышков Ю.С. По поводу статьи генерал-полковника Ю. А. Горькова // Новая и новейшая история. 1994. № 1. С. 240; Свободная мысль. 1993. № 6. С. 52; Данилов В. Готовил ли Генеральный штаб Красной Армии упреждающий удар по Германии? // Сегодня. 1993. 28 сентября;Соколов Б. Как началась Вторая мировая война? // Независимая газета. 1993. 31 декабря.
[Закрыть]. В. Анфилов, ссылаясь на «Акт о приеме Наркомата обороны СССР» 1940 г., пытается обосновать мнение об отсталости Красной Армии и невозможности ведения ею наступательных действий. Однако в послесловии к публикации документа указывается на его тенденциозный и предвзятый характер и отмечается, что «Советские Вооруженные Силы даже в то время были современными, по многим показателям не уступали армиям большинства капиталистических государств» [56]56
Российская газета. 1993. 10 июля; Известия ЦК КПСС. 1990. № 1. С. 193–209,214.
[Закрыть]. С другой стороны, Ю. Н. Афанасьев и А. С. Орлов считают, что подготовка советских войск была наступательной [57]57
См.: Афанасьев Ю. Указ. соч.; Орлов А.С. Указ. соч. С. 10.
[Закрыть]. Е. Крохмаль, по сути, солидаризируется в этом вопросе с В. Суворовым, указывая, что войска к наступлению не были готовы, но моряки успешно наступали [58]58
См.: Крохмаль Е.Указ. соч. С. 36.
[Закрыть]. Вывод В. Суворова о том, что защиту государственной границы советскими войсками предполагалось осуществить переходом армий прикрытия в наступление [59]59
См.: Суворов В. Ледокол. С. 136–165.
[Закрыть], не имеет аналога в отечественной историографии. Правда, вопреки мнению критиков В. Суворова, эти идеи принадлежат не ему, а А. И. Егорову и М. Н. Тухачевскому, в чьих трудах 1932–1934 гг. они детально обоснованы [60]60
См.: Егоров А. И. Тактика и оперативное искусство на новом этапе //Военно-исторический журнал. 1963. № 10; Тухачевскй М. Н. Избранные произведения. М, 1964. Т. 2. С. 212–221.
[Закрыть]. В ряде работ и других отечественных историков было показано, что идеи этих военачальников не только не были забыты, но, наоборот, к 1941 г. претворились в жизнь [61]61
См.: Филиппов А. О готовности Красной Армии к войне в июне 1941 г. // Военный вестник АПН. 1992. № 9. С. 6–8; Мельтюхов М. И. Споры вокруг 1941 г.: Опыт критического осмысления одной дискуссии // Отечественная история. 1994. № 3. С. 1214.
[Закрыть]. Такой вывод подтверждается и работами, в которых приводятся сведения о направленности боевой подготовки и военного планирования в приграничных округах, не противоречащие новому взгляду на эту проблему» [62]62
См.: Военно-исторический журнал. 1993. № 6. С. 10–16; № 7. С. 14–21; № 8. С. 28–35; Петров Б. Н. Указ. соч. С. 10–17; Гуров А. А. Боевые действия советских войск на Юго-Западном направлении в начальном периоде войны // Военно-исторический журнал. 1988. № 7. С. 32–37; Семидетко В. А. Указ. соч. С. 22–31; Владимирский А. В. Указ. соч. С. 8—57.
М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография». Москва, 1996, С. 498–499.
[Закрыть]<…>
«Что же противопоставляют тезису В. Суворова его критики? Д. А. Волкогонов утверждает, что во всех документах все было нацелено на оборону, но конкретных примеров не приводит [63]63
См.: Волкогонов Д.А. Эту версию уже опровергли историки.
[Закрыть]. Ю. А. Горьков для опровержения утверждений В. Суворова использует материалы периода конца 1940 г. Мало того что автор цитирует лишь отдельные фразы этих обширных документов, из его примеров следует, в частности, что Киевский особый военный округ (КОВО) получил приказ подготовить наступление, а армиям округа приказано подготовить только оборону [64]64
См.: Горьков Ю.А. Указ. соч. С. 33.
[Закрыть]. Ю. А. Горькова не смущает, что подобные положения лишены всякой логики.
Об оборонительных задачах армий прикрытия пишет и В. Б. Маковский, а в доказательство цитирует одну (!) фразу из обширной директивы Генштаба командованию КОВО от 5 мая 1941 г. [65]65
См.: Маковский В.Б. Указ. соч. С. 52.
[Закрыть]. Однако известно, что 10 апреля 1941 г. заместитель начальника Оперативного управления Генштаба генерал-майор А. М. Василевский составил директиву на разработку плана оперативного развертывания войск приграничных округов. К сожалению, Б.Н. Петров приводит из этой директивы задачи лишь Западного особого военного округа, который должен был совместно с Юго-Западным фронтом, наступая на Седлец – Радом, «разбить люблинско-радомскую группировку противника. Ближайшая задача овладеть Седлец, Луков (так в документе. – М.Н.) и захватить переправы через р. Висла… Разработать план первой операции 13-й и 4-й армий и план обороны 3-й и 10-й армий» [66]66
Петров Б.Н. Указ. соч. С. 12.
[Закрыть].
Подобные материалы как минимум ставят под сомнение утверждение отечественной историографии о чисто оборонительных намерениях армий прикрытия» [67]67
М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография». Москва, 1996, с. 500.
[Закрыть]. <… >
«Рассуждая о советском плане войны с Германией, В. Суворов делает вывод о том, что главный удар Красная Армия должна была нанести по Румынии [68]68
См.: Суворов В. Ледокол. С. 148–152.
[Закрыть]. В отечественной литературе содержание советских военных планов излагается по устоявшейся схеме: планы разрабатывались в ответ на рост германской угрозы и предусматривали отражение вражеского нападения, нанесение ответных контрударов и общий переход в наступление для разгрома противника [69]69
См.: Анфилов В.А. Указ. соч. С. 80–86; Сандалов Л.М. Указ. соч. С. 22–37; Захаров М.В. Указ. соч. С. 213–225; Хорьков А.Г. Указ. соч. С. 85—130; Кирьян М.М. Указ. соч. С. 12–13; Перечнев Ю.Г. О некоторых проблемах подготовки страны и Вооруженных Сил к отражению фашистской агрессии // Военно-исторический журнал. 1988. № 4. С. 46–47; Медведев Н.Е. Артиллерия РВГК в первом периоде войны // Военно-исторический журнал. 1987. № 11. С. 82; Вол-когонов Д.А. Триумф и трагедия. С. 132–136; Горьков Ю.А. Указ. соч. С. 29–39; Маковский В.Б. Указ. соч. С. 51–58; Киршин Ю.Я., Раманичев Н.М. Указ. соч. С. 12–15.
[Закрыть]. Однако новые документальные материалы и исследования последних лет существенно корректируют подобные подходы. Прежде всего, стало известно, что советское военное планирование боевых действий против Германии началось в октябре 1939 г. и продолжалось до середины мая 1941 г. [70]70
См.: Захаров М.В. Указ. соч. С. 213; Проэктор Д.М. Указ. соч. С. 307–312; Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. С. 133; Исаев С.И., Раманичев Н.М., Чевела П.П. Указ. соч. С. 50–58; Горьков Ю.А. Указ. соч. С. 31–39.
[Закрыть]. Опубликованные материалы и работы ряда авторов показывают, что основным содержанием советского военного планирования было внезапное наступление на Германию в подходящий момент» [71]71
См.: Петров Б.Н. Указ. соч. С. 10–17; Киселев В.И. Указ. соч. С. 14–17; Мельтюхов М.И. Споры вокруг 1941 г. С. 4—22; Горьков Ю.А. Указ. соч. С. 29–45; Исаев С.И., Раманичев Н.М., Чевела П.П. Указ. соч. С. 55–56; Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. С. 136
[Закрыть].
«А.С. Орлов разделяет мнение В. Суворова о том, что главный удар советских войск должен быть направлен в сторону черноморских проливов [72]72
М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография». Москва, 1996, с. 501.
[Закрыть]. Остальные критики «Ледокола» вопреки фактам пытаются отрицать наличие каких-либо планов, которые бы подтверждали замысел Сталина совершить нападение на Германию в определенный момент [73]73
См.: Волкогонов Д.А. Эту версию уже опровергли историки; Орлов А.С. Так кто же начал войну. С. 18; Городецкий Г. Миф «Ледокола». С. 130–138, 284–289.
[Закрыть]. В литературе признается, что последний вариант советского военного плана предусматривал нанесение внезапного удара по противнику. Большинство авторов утверждают, что такой план был Сталиным отвергнут, хотя материалов, содержащих данные о его мнении по этому вопросу, нет [74]74
См.: Исаев С.И., Раманичев Н.М., Чевела П.П. Указ. соч. С. 55–59; С. 36–39; Афанасьев А. Указ. соч.; Городецкий Г. Миф «Ледокола». С. 294–297.
[Закрыть]. Но сведения о порядке рассмотрения подобных документов советским руководством, сообщаемые А.М. Василевским, вносят полную ясность: все указания Сталин давал устно.
А.Афанасьев полагает, что в войсках не было никаких наступательных планов, так как во время войны они были бы захвачены и опубликованы немцами [75]75
См.: Афанасьев А. Указ соч.
[Закрыть]. Однако Ю.А. Горьков утверждает, что «за несколько недель до нападения фашистской Германии …вся документация по окружным планам была передана из Генштаба командованиям и штабам округов» [76]76
См.: Горьков Ю.А. Указ. соч. С. 39.
[Закрыть]. Правда, в литературе имеются сведения о том, что эта документация не передавалась не только в штабы армий, но даже и в штабы округов, а все распоряжения отдавались устно [77]77
См., например: Казаков М.И. Над картой былых сражений. М., 1971. С. 64–65; Галицкий К.Н. Годы суровых испытаний. М., 1973. C. 24–25; Военно-исторический журнал. 1989. № 5. С. 51.
[Закрыть]. Таким образом, опровергается версия А.В. Афанасьева и мнение М.А. Гареева о том, что утвержденные планы стратегического развертывания для упреждающего удара отсутствовали и в Генштабе, и в штабах округов [78]78
См.: Гареев М.А. Указ. соч. С. 202.
[Закрыть]. Ю.А. Горьков настаивает на необходимости поисков документов, подтверждающих наличие решения о начале войны со стороны советского политического руководства и правительства [79]79
См.: Горьков Ю.А. Указ. соч. С. 37.
[Закрыть]. Однако не совсем ясно, какой именно документ он хочет обнаружить» [80]80
М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография». Москва, 1996, с. 501–502.
[Закрыть]. <… >
«Одним из наиболее содержательных мест книги
B. Суворова являются его рассуждения о сосредоточении и развертывании частей Красной Армии накануне войны [81]81
См.: Суворов В. Ледокол. С. 186–233.
[Закрыть]. О том, что такие меры принимались, было известно и ранее, но только теперь открылись конкретные данные о сроках, месте и составе сосредоточиваемых войск. Сосредоточение началось в феврале, а выдвижение войск из внутренних округов – в апреле 1941 г. [82]82
См.: 1941 год – уроки и выводы. С. 80–86.
[Закрыть]. Ныне в литературе уточнен состав армий второго эшелона, сроки и места их сосредоточения на Западном ТВД, приводятся материалы, позволяющие уточнить запланированную группировку войск. Судя по ним, 20-ю и 21-ю армии предполагалось использовать в первом эшелоне войск Юго-Западного фронта, хотя позднее они действовали на центральном участке советско-германского фронта в районах Смоленск – Гомель [83]83
См.: Гуров А.А. Указ. соч. С. 32; Владимирский А.В. Указ. соч. С. 50–52; Захаров М.В. Указ. соч. С. 258–262; Хорьков А.Г. Указ. соч. С. 167–168; 1941 год – уроки и выводы. С. 80–88, 214–223.
[Закрыть]. Приводятся данные о сосредоточении ближе к границе войск приграничных округов, начавшемся 12–16 июня 1941 г. [84]84
См.: Петров Б.Н. Указ. соч. С. 12–13; Семидетко В.А.Указ. соч. С. 31; Киселев В.Н. Указ. соч. С. 14–15; Анфилов В.А. Крушение похода Гитлера на Москву. С. 96–97; Владимирский А.В. Указ. соч. С. 50–52; Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. С. 125–128; 1941 год – уроки и выводы. С. 84–86; Филиппов А. Указ. соч. С. 4.
[Закрыть]. Все это опровергает распространенное мнение о том, что перегруппировки войск в приграничных округах были запрещены Москвой, а Сталин, несмотря на настойчивые просьбы военного руководства, отказывался разрешить передислокацию войск и всячески тормозил проведение подобных мер [85]85
См.: Якушевский А.С. Фактор внезапности в нападении Германии на СССР // История СССР. 1991. № 3. С. 22; Перечнев Ю.Г. Указ. соч. С. 49; Данилов В.Д. Советское Главное командование в преддверии Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1988. № 6. С. 18–19; Самсонов А.М. Указ. соч. С. 112–118; Анфилов В.А. Указ. соч. С. 94–97; Исаев С.И., Раманичев Н.М., Чевела П.П. Указ. соч. С. 48–58; Горьков Ю.А. Указ. соч. С. 36; Гареев М.А. Указ. соч. С. 202; Коммунист. 1988. № 9. С. 88–94.
[Закрыть]. К сожалению, эти проблемы все еще слабо разработаны в литературе.