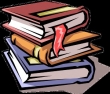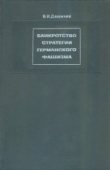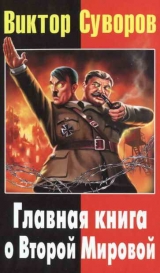
Текст книги "Виктор Суворов: Главная книга о Второй Мировой"
Автор книги: Михаил Веллер
Соавторы: Андрей Буровский,Марк Солонин,Владимир Бешанов,Дмитрий Хмельницкий,Ричард Раак,Ирина Павлова,Джахангир Наджафов,Ури Мильштейн,Томас Титура,Юрий Цурганов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Я думаю, нет нужды приводить дальнейшие цитаты, чтобы сделать однозначный вывод о сталинской политике в 1941 г.
В заключение коснемся наступательной стратегии Красной Армии и ее военных приготовлений [296]296
О военных планах Советского Союза и стратегии Красной Армии см.: Evan Mawdsley (Universitat Glasgow): «Crossing the Rubicon. Soviet Plans for Offensive War 1940–1941», The International History Review XXV, 4: December 2003. Heinz Magenheimer: «Entscheidungskampf 1941. Sowjetische Kriegsvorbereitungen – Aufmarsch – Zusammensto?», Osning Verlag, 2001. Д-р Магенхаймер преподает в Австрийской академии обороны и в университете г. Зальцбурга.
[Закрыть]против Германии летом 1941 г.
Еще Виктор Суворов определил военные приготовления Красной Армии летом 1941 г. как наступательные. Аэродромы были расположены вблизи границ, чтобы суметь нанести внезапный удар по Германии. В начале войны это сыграло роковую роль для военно-воздушных сил Сталина. Сотни самолетов были уничтожены немецкой авиацией прямо на земле или при попытке взлететь.
Так оценивает ситуацию известный американский историк Е. Ф. Цимке: «После того как была совершена непоправимая ошибка и главные силы красной авиации в ожидании наступательных действий были размещены вблизи границы, она была практически полностью уничтожена на земле и в воздухе еще до наступления темноты 22 июня 1941 г. и полностью так и не оправилась до самого конца войны» [297]297
Earl F. Ziemke: «The Red Army, 1918–1941: From Vanguard of World Revolution to America's Ally)), Frank Cass Publishing, 2004, Seite 277.
[Закрыть].
То же самое произошло и со сконцентрированными во Львовском и Белостокском выступах танковыми войсками Советского Союза. Сконцентрированные там ударные танковые клинья были вермахтом обойдены, окружены и уничтожены.
Для обороны от немецкого нападения эти военные приготовления были полностью непригодны. Благодаря им эти танковые части были преподнесены немцам для уничтожения как на тарелочке. Но Красная Армия и готовилась не к нападению, а к осуществлению внезапного глубокого удара по немецким войскам в оккупированной немцами Польше. Это признают даже А. Кокошин (первый заместитель министра обороны и бывший советник по безопасности президента Ельцина) и генерал-майор В. Лавринов, авторы предисловия к книге о советской военной стратегии [298]298
A.A. Kokoshin/V.V. Lavrinov: «Origins of the Intellectual Rehabilitation of A.A. Svechin» in Alexander A. Svechin: «Strategy», Eastview Press, 1991.
[Закрыть].
Эван Моудсли тоже приходит к похожему выводу [299]299
Evan Mawdsley: «Thunder in the East: The Nazi-Soviet Struggle 1941–1945», Hodder Arnold, 2005, Seite 38.
[Закрыть]: «За планированием 1940–1941 гг. стояла наступательная доктрина Красной Армии». «Наступательная советская доктрина означала не только то, что силы Красной Армии были выведены далеко вперед. Это означало еще, что они были сконцентрированы не у того региона границы» [300]300
Evan Mawdsley: «Thunder in the East: The Nazi-Soviet Struggle 1941–1945», Hodder Arnold, 2005, Seite 39.
[Закрыть].
Советский военный план от 15 мая 1941 г. предполагал удар по южной Польше из Украины для того, чтобы отрезать Германию от нефтяного района Плоешти. Поэтому сильнейшие советские танковые части были сконцентрированы на Украине [301]301
См. классическую работу мюнхенского историка Вальтера Поста «Операция «Барбаросса». Немецкие и советские военные планы 1940/41 гг.». Walter Post: «Unternehmen Barbarossa. Deutsche und sowjetische Kriegsplane 1940/41», Verlag E.S. Mittler & Sohn, 1995. Эту книгу и сегодня можно рекомендовать как лучшее исследование по данной теме на немецком языке.
[Закрыть].
Военный план от 15 мая 1941 г. можно рассматривать как самый сенсационный документ предвоенного времени. Пятнадцатистраничный документ, озаглавленный как «Соображения по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками» содержит предложения по нанесению превентивного удара по Германии.
Соответствующая формулировка гласит: «Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск».
Этот план был предложен Сталину наркомом обороны маршалом Тимошенко и начальником Генерального штаба генералом армии Жуковым. Написан документ рукой генерала Василевского, начальника отдела планирования советского Генерального штаба.
Хотя этот план не был подписан Сталиным, предложенные в нем мероприятия проводились в жизнь вплоть до самого начала войны. Сталин обычно не подписывал подобные документы лично, на предыдущих военных планах (например, ноября 1940 и марта 1941 гг.) тоже нет его подписи.
Эти планы ни в коем случае не были лишь играми Генерального штаба, как охотно утверждают некоторые специалисты. Так, например, на военном плане марта 1941 г. можно найти примечание генерал-лейтенанта Николая Ватутина: «Наступление начать 12.6.». Как известно, Ватутин был не просто некий генерал-лейтенант, а заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии.
Также абсурдно мнение о том, что планы наступления были разработаны без ведома Сталина или против его воли. Решился бы Генштаб в 1940–1941 гг. на приведение в действие такого далеко идущего плана без ведома Сталина или без его приказа? Естественно, в Советском Союзе 1941 года это было невозможно. Тот, кто настаивает на этом, делает вид, что никогда не было только что закончившихся кровавых чисток среди офицерского состава Красной Армии. Сталин бросил бы непокорных ему генералов в подвалы Лубянки, не размышляя ни секунды.
Интересна позиция по отношению к тезисам В. Суворова двух известных на Западе авторов – полковника Давида Э. Глантца [302]302
См., к примеру: «The initial Period of War on the Eastern Front. 22 June – August 1941», Frank Cass Publishing,1993 (второе издание – 2001); «The Stumbling Colossus. The Red Army on the Eve of World War», University Press of Kansas, 1998; «The Battle for Leningrad 1941–1944», Kansas University Press, 2002; «Colossus Reborn. The Red Army at war, 1941–1943», Kansas University Press, 2005.
[Закрыть](издатель журнала «Journal of Slavic Military Studies»), и Габриеля Городецкого [303]303
«Grand Delusion. Stalin and the German Invasion of Russia.», Yale University Press, 2000.
[Закрыть](университет Тель-Авива).
Несмотря на то что вряд ли кто-то опубликовал больше материалов на тему «План «Барбаросса», чем Давид Глантц, в его книгах нет практически ничего, касающегося советских военных планов 1940–1941 гг. Если он и упоминает об этом, то в лучшем случае одним или двумя короткими абзацами. Он также упорно избегает цитирования ключевых документов по советскому военному планированию, хотя в других случаях публикует каждую мелочь, какую только можно себе представить.
Похоже ведет себя и Габриель Городецкий. Городецкий не только не признает достоверность речи Сталина 19 августа 1939 г., но и считает советские наступательные планы 1940–1941 гг. совершенно безобидными. Он утверждает, что эти планы – в лучшем случае внутренние документы Генштаба, каковые имеются в любом Генштабе мира. Даже оккупация и аннексия Сталиным Бессарабии, Литвы, Латвии и Эстонии представлены Городецким как чисто защитная мера! Роль Сталина при разделе Польши его тоже особенно не огорчает. Расширение границ Германии Гитлером всегда выглядит нападением, расширение границ СССР Красной Армией, по Городецкому, преследовало только оборонительные цели.
Можно только надеяться, что в будущем станут доступны новые документы из бывших советских архивов, которые дадут возможность следующим поколениям историков приходить к более взвешенным заключениям.
Ричард Ч. Раак [304]304
Ричард Ч. Раак – заслуженный профессор Калифорнийского государственного университета (Hayward, USA). Статья впервые опубликована в журнале «Word Affairs», том 158, № 4, весна 1996.
[Закрыть]
Роль Сталина в развязывании Второй мировой войны
«Виктор Суворов» – псевдоним бывшего офицера советской военной разведки, многие годы проживающего в Англии. В 80-х годах он опубликовал исследование военных планов Сталина, которое, если версия Суворова заслуживает доверия, должно было бы потрясти тверди исторического истеблишмента. В 1990 г. британское издательство выпустило, наконец, английский перевод его книги «Ледокол». Суворов предлагает в ней новое понимание цели Сталина в войне, детально обоснованное цитатами из советских военных мемуаров и другими важными документами. Американское издательство в том же году выпустило книгу Суворова в Нью-Йорке. Подзаголовок лондонского издания был: «Кто начал Вторую мировую войну?» Естественно, это должно было привлечь внимание читателей. Но, несмотря на постоянный интерес, особенно в те юбилейные годы, к истории войны 1939–1945 годов, на лондонское и нью-йоркское издания не появилось рецензий ни в общих периодических изданиях, ни в профессиональных исторических журналах США [305]305
На книгу Суворова была написана краткая рецензия, вместе с рецензией на книгу Д. Уатта (см. в тексте и в сноске 2) и на другие книги того же времени, в New York Review of Books, 12 октября 1989, 11–16, отставным профессором Гордоном Крейгом из Стэнфордского университета. Но Крейг писал для американского читателя о немецком издании – английское тогда еще не вышло в свет. Крейг, который многие годы работал в области немецкой истории, но мало занимался советскими или восточноевропейскими темами, как военными, так и другими, сталинского периода, посчитал аргументы Суворова недостаточными. Крейг выразил мнение, что если Сталин действительно собирался нападать в западном направлении в 1941-м, как считает Суворов, то западные военные атташе и дипломаты в Москве сообщили бы об этом. Он не нашел «никаких записей об этом в документах зарубежных посольств или в докладах их военных атташе». Даже если мы предположим, что Крейг перерыл документы и отчеты во многих относящихся к делу архивах, он должен был иметь в виду западные документы и отчеты, так как в 1989-м многие архивы бывшего Восточного блока не были еще открыты для западных и других независимых исследователей. Более того, исследователь, который работал с западными дипломатическими документами из Москвы, должен знать, что в параноидально скрытном государстве Сталина иностранные дипломаты и военные обозреватели не могли свободно передвигаться по Советскому Союзу, и особенно по его недавно оккупированным западным приграничным районам, чтобы проводить свои наблюдения. Многие западные дипломаты упоминали об этих огорчающих обстоятельствах в своих докладах. Поэтому этот аргумент против Суворова вряд ли действенен.
[Закрыть]. Разумеется, издательства «Гамиш Гамильтон» и нью-йоркское «Викинг Пресс» заинтересованы в успехе своих изданий – и поэтому разослали экземпляры для рецензий. Отчего же странное молчание?
Книга под схожим названием, «Как пришла война», лондонского профессора Д. Уатта была опубликована в Англии и в США в 1989-м. На нее вышли рецензии – в основном положительные – как минимум в пятнадцати журналах (учитывая только рецензии из Digest of American Book Reviews и Index of Book Reviews) [306]306
Нью-Йорк, 1989.
[Закрыть]. Профессор Уатт представил общепринятую версию начала войны, в подавляющем большинстве случаев основанную на западных и германских материалах и не учитывающую множество новых источников, появившихся из-за бывшего «железного занавеса» в те ранние дни гласности.
На самом деле две книги похожи только названиями. Книга Уатта шире, ее подход к освещаемому предмету гораздо более традиционен. А у книги Суворова только один фокус – сталинские планы войны, игнорируемые большинством историков, и она использует совершенно иные источники, в основном военно-исторические.
Суворов выстраивает свою аргументацию на исторической почве, оставленной без внимания: плане советского нападения в западном направлении. По утверждению Суворова, Сталин развертывал свои войска для осуществления именно этого плана, но был застигнут врасплох упредившим его нападением Германии. В тексте Уатта нет ни малейшего намека на этот советский план войны.
Суворов предложил также новое рассмотрение более ранних замыслов Сталина, когда тот в 1939 году подписал «пакт о ненападении» с Гитлером, что подготовило ситуацию для нападения Германии и СССР на Польшу. Этот пакт, учитывая существующие британские гарантии Польше, сделал общеевропейскую войну неизбежной и в течение месяца привел вермахт к советской границе. Без этой общей границы, которую Сталин умышленно помог создать в 1939-м, не могло бы быть прямого нападения Германии на СССР в 1941-м.
Как сказано ранее, Уатт не одинок в том, что не взглянул вперед для того, чтобы лучше разглядеть то, что произошло в прошлом. Бесчисленные авторы так же, как и он, полностью и непонятно почему игнорировали слова Гитлера по этому поводу, хотя именно Гитлер был главным участником событий.
Гитлер много раз говорил, что он вынужден был напасть на Советы прежде, чем они нападут на него [307]307
См. Ralf Georg Reuth, Goebbels (перевод с немецкого, Нью-Йорк), запись в дневнике Геббельса от 16 июня 1941 г. В феврале 1945 г. Гитлер повторил, что Сталин собирался напасть в западном направлении. См. Alan Bullock, Hitler and Stalin (перевод с английского, Берлин, 1991), SS. 924—26, 939, 941.
[Закрыть]. Был ли он прав? Были ли у Сталина планы использовать войну, особенно войну 1939-го, на пользу СССР и большевизма, интересы которых были, с точки зрения Сталина, идентичны? Широко распространяемая марксистско-ленинская теория, объявившая войны между «империалистическими» державами необходимой дорогой к их неизбежной гибели в пролетарских и колониальных революциях, должна была бы заострить внимание как современников, так и историков на связи между этой войной и вероятной заинтересованностью Сталина в извлечении пользы из нее.
Эти явные связи так же, как и пророчества Гитлера и Ленина, были почти полностью игнорированы историками, которые не задали очевидный вопрос: чего именно ожидал Сталин от второй «империалистической» войны? Они явно предпочли поверить Сталину, что его намерения при подписании пакта были чисто оборонительными, так же как и его планы накануне неожиданного нападения Гитлера в 1941-м.
На самом деле, в своей большей части «информированное» западное общественное мнение полностью приняло тогда сомнительные заверения СССР в том, что он якобы потерял интерес к центральным принципам международного авантюризма, движимого марксизмом-ленинизмом [308]308
Судя по всему, многие авторы воспользовались подвернувшейся коммерческой возможностью, представленной пятидесятилетним юбилеем войны в 1989-м, чтобы написать книги о 1939-м. Когда буря разглашений разразилась в начале 1988-го в СССР, а вскоре после этого в остальном Восточном блоке, они, видимо, не знали, что там происходит, либо были связаны договорами или другими обязательствами, заставлявшими их закончить работу к годовщине окончания войны (т. е. практически к 1989 г.). Новые материалы, жизненно важные для понимания истории возникновения войны, остались вне рассмотрения. О руководителях западной дипломатии, ведущих кампанию веры в оборонительные намерения Сталина, см. R.C.Raack, Stalin's Drive to the West, 1938–1945. The Origins of the Cold War (Stanford, 1955), 55, 89.
[Закрыть].
Привлечет ли вышеописанное внимание читателя, у которого сейчас есть вполне обоснованные причины относиться с подозрением к всевозможным фантазиям, порожденным средствами массовой информации? И есть ли причины относиться с подозрением к выпущенной известными издательствами книге, содержащей совершенно новую историческую концепцию, но оставшейся без рецензий? Даже в Британии только один видный журнал опубликовал рецензию на книгу Суворова – кстати, положительную. Джон Заметика, рецензент «Обозревателя», высказал мысль о том, что книга Суворова подвергнется нападкам «многих академических историков, предыдущие работы которых окажутся лишенными смысла, если Суворов прав». Было бы естественно увидеть среди таких критиков многих академических авторов, изучавших события 1938–1941 годов, начиная с захвата Гитлером Австрии и Судет и кончая нападением Германии на СССР. Но к Суворову отнеслись иначе: его не рецензировали, что уведомило бы о нем широкую публику, а игнорировали, дали спокойно исчезнуть из области академического общественного мнения. Его практически изолировали, оставив вне внимания интеллигенции западного побережья Атлантического океана, получающей информацию из межрегиональных газет и ведущих общественно-политических журналов [309]309
Observer, 5 мая 1990, 30. Книгу проигнорировали главные академические и специальные (занимающиеся славянскими исследованиями) журналы. В США были рецензии только в двух относительно малоизвестных военных журналах. В обоих случаях рецензенты отвергли доводы Суворова: один очень решительно (The Journal of Soviet Military Studies, 4[1991]:195—97); вторая рецензия была краткой, в Air Force Magazine 7[1991]:55. Рецензент JSMS написал, что германские военные документы не подтверждают выводы Суворова, согласно которым Советы были неподготовлены, и что Сталин отверг жуковский план упреждающего удара. Смотри сноску 26 – обсуждение работы немецкого военного историка Иоахима Хоффмана, доводы которого частично поддерживают Суворова на основании тех же немецких источников. Смотри в тексте также обсуждение жуковского плана. В Британии книгу не рецензировали в двух наиболее важных академических журналах, специализирующихся на славянских исследованиях.
[Закрыть]. Стал ли Суворов жертвой интеллектуальной «чистки» в наших краях?
Какого рода историческую концепцию могла бы разрушить версия Суворова, если его аргументы обоснованны?
Современный читатель, интересующийся Второй мировой войной, по всей вероятности, знаком со следующей общепринятой концепцией (изложенной здесь упрощенно ради краткости). На ней основана система распространенных на Западе мнений, в течение многих лет дающая как минимум благосклонное объяснение поведения Сталина в военные и послевоенные годы. Общепринятая история выглядит так.
Недоверие Сталина к западным демократиям, Великобритании и Франции, резко выросло после того, как они практически прекратили поддерживать чешского президента Бенеша, которому Гитлер предъявил свои требования накануне мюнхенского кризиса в сентябре 1938-го. Советский Союз был тогда связан двухсторонними оборонительными пактами с Чехословакией и Францией. Оба эти соглашения были частью системы коллективной безопасности, которую европейские державы медленно создавали в противовес нацистской Германии. Но когда англичане и французы договорились в Мюнхене с Гитлером и позволили ему присоединить к Германии заселенные немцами области Чехословакии, Сталин потерял веру в эти демократии. Он полагал, что их желание умиротворить Гитлера, удовлетворив его требования к Чехословакии, а также то, что они не консультировались с Советским Союзом по этому вопросу, указывает на готовность позволить Гитлеру захватить всё, что он хочет на востоке Европы. После этого Гитлер был бы готов к нападению на Советский Союз [310]310
Игор Люкес в нескольких статьях успешно опроверг мнение о том, что Сталин хотел предоставить чехословакам серьезную военную помощь в 1938-м. См. статьи Люкеса «Желал ли Сталин войны в 1938? Новый взгляд на советское поведение во время майского и сентябрьского кризисов», Diplomacy and Statecraft, 2 (1991): 2—53; и «Benesch, Stalin und die Komintern 1938/1939. Vom Munchener Abkommen zum Hitler-Stalin Pakt», Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte, Jg. 1993, Heft 3, 325–353.
[Закрыть].
Гитлер громко декларировал свою враждебность к тому, что он называл «иудео-большевизмом», и свою решимость получить для германского народа «жизненное пространство» на Востоке. Учитывая такие склонности Гитлера, было бы трудно допустить, что эта расплывчатая экспансионистская цель не включает в себя как минимум большинство западных славянских земель Советского Союза.
Согласно этой версии, Сталин, предвидя войну с Германией, усиливал борьбу с тем, что ему представлялось кознями Запада. Он позволил Гитлеру продвинуться на восток и занять половину Польши в обмен на согласие Гитлера разрешить ему, Сталину, передвинуть советскую границу на запад, заняв вторую половину Польши. Таким образом Сталин смог создать из восточной Польши и других восточноевропейских государств и территорий, полученных им в результате этой сделки, земляной вал, буфер между СССР и немцами, прикрывающий восемь миллионов квадратных миль первоначальной советской территории. В результате Гитлер оказался в состоянии конфронтации с западными державами. Так Сталин выиграл и пространство и время, отчаянно необходимые ему для строительства собственной обороны, поскольку он знал, что Гитлер был непреклонен в решении в скором будущем выступить против него. Поэтому пакт Сталина с нацистами и его согласие поставлять Германии многие виды сырья, в которых она тогда нуждалась для войны на западе Европы против Англии и Франции, были оборонительными мерами, частью плана для оттягивания конфликта с целью приобретения жизненно необходимого пространства и времени.
Как следует из этой версии, декларирующей оборонительные цели Сталина, сталинский вариант большевизма не был агрессивен, несмотря на войны, которые он вел против Польши и Финляндии после пакта, и вопреки последующему жестокому захвату малых стран Балтии. Часто приходится читать, что к тому времени уже пошел на убыль кровавый большевистский экспансионизм, первоначальными создателями которого в дни революции были Ленин и Троцкий и одним из безуспешных проявлений которого было катастрофическое (для большевиков) вторжение в Польшу в 1920-м. Хотя Сталин сам был одним из политических руководителей Красной Армии и одним из главных виновников того вторжения, верящие в эту версию тем не менее доказывают, вопреки очевидности, что позже Сталин отказался он таких дорогостоящих зарубежных авантюр по рецептам его умершего учителя Ленина. Сталин, как следует из этой версии, был озабочен в основном внутренней безопасностью, боялся за будущее Советского Союза. Так считали многие историографы, и очень многие в течение последних пятидесяти лет с симпатией воспринимали внешнюю политику советского вождя. Они полагают, что у Сталина практически не было иного выхода, кроме как заключить пакт с Гитлером и сыграть собственную роль в разрушении того, что осталось от независимой Центральной и Восточной Европы.
Далее, согласно этой версии, Сталин фатально просчитался, поскольку вскоре после неожиданного и быстрого поражения Франции в руках Гитлера оказался весь Европейский континент. Не имея серьезных врагов на западе континента, фюрер начал сосредотачивать свои армии против Советского Союза. Советский диктатор, планы которого – выиграть время и строить в безопасности свою страну – были прерваны германскими победами во всей Европе, не предвидел такого поворота событий. И хотя после пакта с немцами он поспешно перевооружался, укреплял свои оборонительные позиции на западе и выиграл два года в подготовке к войне, его армии тем не менее не сдержали первоначальное германское нападение в июне 1941-го. Красный военно-воздушный флот был практически уничтожен на своих аэродромах по всему фронту германского наступления. Все это произошло несмотря на то, что Сталин получал бесчисленные предупреждения о приближающемся нападении. С самого начала германского вторжения русские почти везде панически отступали. Их потери были огромны: миллионы солдат были убиты или пленены немцами и их союзниками, которые вскоре захватили главные города и промышленные центры запада СССР. За невероятной политической катастрофой последовала невероятная военная.
В вышеприведенной версии (в которой часто замалчиваются масштабы катастрофы, на которую обрек свою страну Сталин, «величайший гений человечества», как его, к его собственному удовольствию, называли) содержится нечто большее, чем отдельные ошибки. Однако, насколько невероятным это ни кажется, именно ее можно услышать чаще всего. Кто не верит, может почитать исторические труды на эту тему или заглянуть в университетские учебники или в «Нью-Йоркер» – один из множества популярных журналов, которые регулярно бомбардируют читателей любительской историографией о различных аспектах войны против Гитлера, как правило, подтверждая при этом, хотя и не всегда прямо, сталинистскую версию о советских оборонительных планах.
Даже во время войны эта версия убедила многих людей, разрабатывавших политический курс Лондона и Вашингтона и искавших исторические обоснования для предсказания того, что будут делать Советы после войны. Ее явно приняли за чистую монету наши лидеры военного времени, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. Она легла, как общепринятая историческая истина, в основу многих критически важных решений и послевоенного планирования во время ВМВ – решений, принятых в Тегеране, Ялте и Потсдаме. На этих важнейших конференциях Запад решал, как себя вести по отношению к сталинскому Советскому Союзу, своему союзнику в войне, опираясь на собственные надежды относительно поведения Сталина в ближайшие годы после войны. И часто решения Запада, обусловленные незнанием и непониманием того, что произошло в действительности, помогали Сталину. Эта версия долго преподносилась населению Запада в оправдание ошибочного доверия к Советскому Союзу и после начала холодной войны, когда советские армии удобно расположились в центре Европы, а сталинские границы и сферы влияния оказались серьезно расширены в Азии. Всего лишь несколько лет назад бывший коммунистический лидер Михаил Горбачев все еще рассказывал эту сказку для укрепления своего нынешнего оправдания Сталина [311]311
Горбачев в «Правде», 3 ноября 1987 г. Далее следует небольшая, но представительная выборка работ как популярных, так и академических авторов, поддерживающих мнение об обороняющемся Сталине. Не все авторы согласны друг с другом по всем деталям вышеприведенной версии. Но суть, т. е. то, что намерения Сталина в 1939-м были оборонительными, присутствует везде, явно или намеком. См. Winston S. Churchill, «The Gathering Storm» in The Second World War, I (Boston, 1948), 391—94; Arnold J. and Veronica Toynbee, eds., «The Eve of War, 1939» Survey of International Affairs 10 (London, 1958): 23, 25, 504; A. J.P. Taylor, The Origins of the Second World War (New York, 1968), 163—64, 241, 261, 263, 267, 278; D.C. Watt, How War Came. The Immediate Origins of the Second World War (London, 1989), 112–113, 117–119, 369–370, 372–373; Peter Calvocoressi, Guy Wint and John Pritchard, Total War. The Causes and Course of the Second World War (second ed., Harmsworth, 1989), 71, 96—100, 106; Hermann Graml, Europas Weg in den Krieg. Hitler und die Machte 1939 (Munich, 1990), 251. Контрастируя с вышеприведенными авторами, James Е. Macsherry, (Stalin, Hitler and Europe. The Origins of World War II, 1933–1939, vol. II (Cleveland, 1970) уделил должное внимание советским источникам, существовавшим во время, когда он писал, но тем не менее оптимистично заключил (задолго до недавнего открытия источников и архивов бывшего Восточного блока), что «сравнительно легко сформулировать ясную картину советской зарубежной политики в 1938-м и 1939-м». Еще недавно наличие оборонительных намерений Сталина в 1939-м представлялось как неоспоримое Джонатаном Гасламом: Jonathan Haslam, Soviet Foreign Policy, 1939–1941: Isolation and Expansion», Soviet Union 18 (1991): 106.
[Закрыть].
За этой версией, разные варианты которой никогда далеко не отклонялись от вышеприведенного, слышится голос сталинистской пропаганды и желание общественности Запада, легковерных журналистов и политиков, а также многочисленных историков верить защитникам Сталина и принимать пропаганду за чистую монету. Сегодня это удивляет, но это должно было удивлять с самого начала. Ведь у современников Сталина на Западе никогда не было серьезных причин ожидать чего-либо хорошего от неожиданно обретенного военного союзника – бывшего военного союзника Гитлера! Серьезных причин не было и у их преемников. Фактически у них было еще меньше причин вообще видеть в нем что-либо хорошее – хотя многие предпочитали это делать в течение долгих лет. Сегодня мы должны признать, что долговременная популярность вышеприведенной сказки – это блестящий продукт наилучшей из когда-либо проведенных пропагандистских кампаний. Но нынешний доступ к многим архивам бывшего Восточного блока, прежде закрытым для независимых исследователей, приводит к тому, что эта версия больше не может оставаться вне критики.
Если так долго распространявшаяся историческая сказка неверна, то какая история заменит ее? По Суворову, Сталин вообще не хотел мира, ни во время судетского кризиса в 1938-м, ни в 1939-м, ни в 1941-м. Его позиция не была ни оборонительной, ни реагирующей на кого-либо. Он не тянул время для подготовки обороны, а готовил нападение, ожидая подходящего момента для собственного похода на запад. Он видел в Гитлере «ледокол», пробивающий большевикам путь на запад, демонического нигилиста, которой разорвет в клочья непрочную ткань постверсальской Европы, повсеместно разрушая правительства, экономический и общественный порядок, натравливая народ против народа, государство против государства, группу против группы.
Таким образом, предполагалось, что «ледокол» – Гитлер широко раскроет ворота континента для вторжения марксистских terribles simplificateurs («ужасных упростителей» (франц.). – Прим. ред.) и поможет реализовать их мечты об окончании империалистических войн повсеместным триумфом пролетарских революций, во время которых массы, пришедшие в отчаяние от бед и лишений войны с Гитлером, наконец восстанут против капиталистических поджигателей войны.
Суворов доказывает, что сталинское вторжение на запад при помощи РККА было назначено на начало лета 1941-го. Если бы его доказательства широко обсуждались, то читатели, столкнувшись с хорошо разработанной системой цитат из советских военно-исторических источников, могли бы начать пересматривать всю прежнюю историю начала войны. И если бы суворовские доказательства были подвергнуты проверке, то приведенная выше псевдоисторическая версия могла быть в конце концов опровергнута. Ведь если Сталин действительно намеревался напасть на Запад в им самим выбранный момент, то причиной, по которой он заключил пакт с Гитлером в 1939-м, было не стремление к обороне, а часть тщательно разработанного плана завершить европейскую войну на истощение политическим, общественным и экономическим разрушением европейских держав.
Суворов писал военную историю и не углублялся в изучение доступных в тот момент документов, чтобы выяснить политические причины военного плана Сталина. Но в действительности этот план войны должен был иметь под собой – и имел – политический фундамент.
Очевидно, что авторами политического курса на агрессивную войну были Сталин и его ближайшие соратники в Кремле. Путь, по которому они шли, был начертан Лениным, и на их долю выпало воплотить в жизнь вышеописанную схему войны и последующей всеевропейской революции. Сообщения об этом мы находим в достоверных источниках из Коминтерна. Кроме того, что Сталин был членом его президиума, руководитель Коминтерна Георгий Димитров был частым гостем в Кремле и находился в регулярном контакте со Сталиным и с теми представителями его ближайшего окружения, кто лично передавал решения вождя органам политического контроля, а в случае Димитрова – международного политического контроля. Задолго до нападения Гитлера на СССР в июне 1941-го Сталин и его ближайшее окружение планировали исход европейской войны именно таким образом, как Суворов описал ее почти пятьдесят лет спустя: разрушение воюющих держав изнутри в результате массового недовольства (которое Красная Армия сможет поощрять силой), возникающего вследствие войны и ее неизбежных тягостей. Он готовил Красную Армию вступить в действие, как только ожидаемый гражданский конфликт – повторяющий внутренние волнения и революции в воюющих странах в 1917-м и 1918-м – вспыхнет в Западной Европе за фронтами воюющих армий как союзников, так и Германии.
Суворов только набросал эскиз этого рискованного плана. Но теперь мы получили информацию о нем от трех независимых источников, каждый из которых подтверждает слова других, каждый рассказывает о том, что сам слышал из уст кремлевских лидеров и от других высокопоставленных советских деятелей.
Информация самого подробного из этих источников является просто древней, по стандартам современной историографии [312]312
См. мою статью «Stalin's Plans for World War II» in Journal of Contemporary History, 26 (1991): 215—27.
[Закрыть]. Самое свежее свидетельство (из самого Коминтерна), подтверждающее этот план, стало известно совсем недавно благодаря открывшемуся доступу в партийные архивы бывшего Восточного блока. Описание этого устрашающего плана похода на запад было сделано руководителем Коммунистической партии Германии в московском изгнании, верным сталинцем, близким к исполкому Коминтерна. Сообщение этого руководителя, скопированное в феврале 1941-го другим источником, знавшим Сталина, обрисовало возможные и предполагавшиеся тогда Кремлем последствия бушующей на Западе войны, в которую Советский Союз не был тогда непосредственно вовлечен [313]313
Доклад Вальтера Ульбрихта в архиве Stiftung der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (Berlin), Wilhelm Pieck Nachlass 36/528: «Politischer Informationsabend am 21.2. 1941». Пик также отметил, что Ульбрихт непосредственно перед этим выступил в Президиуме Исполкома Коминтерна. См. также «Did Stalin Plan а Drang nach Westen?» in World Affairs, 155 (1992), 13–22; особенно важно – «Послесловие», 22.
[Закрыть].
Тогда, в феврале 1941 г., Вальтер Ульбрихт, немецкий коммунистический лидер (в будущем – строитель позорной Берлинской стены), рассказал своим товарищам по изгнанию о том, что только что узнал: о запланированных Кремлем возможных сценариях окончания идущей тогда в Западной Европе войны [314]314
Читатель помнит, вероятно, что в феврале 1941-го, когда Ульбрихт это рассказывал, Советы были вовлечены в несколько необъявленных войн, связанных с общей европейской войной, формально объявленной Британией и Францией после вторжения Германии в Польшу в сентябре 1939-го. У Советов было несколько серьезных схваток с Японией на границе Маньчжурии в конце лета 1939-го. Они вторглись в Польшу в конце лета – начале осени того же года, в сотрудничестве с Гитлером, потом сделали то же в Финляндии без его помощи. Через несколько месяцев они военной угрозой присоединили страны Балтии и румынские провинции Бессарабию и Северную Буковину к Советскому Союзу. Но слишком многие историки, часто видящие события от 1938-го до 1945-го исключительно через очки, изготовленные в Западной Европе и в США, проглядели связь между советским авантюризмом на востоке и германской войной на гораздо более знакомом им западе Европы.
[Закрыть]. Одним из них была описанная выше безумная затея мировой революции, поддержанной Красной Армией. Очевидно, что этот исход был наиболее благоприятным в глазах Кремля, так как только он из всех предполагавшихся ближе всего подводил Советский Союз к достижению внешнеполитических целей большевиков [315]315
Наиболее доступным из нескольких сообщений, если читатель не понимает литовский язык, является свидетельство бывшего министра иностранных дел Литвы Винкаса Креве-Мицкевичуса, переведенное на английский в U.S. Congress, House of Representatives, Select Committee on Communist Aggression, Third Interim Report (Washington, D.C., 1954), 340—45, 451—63. J. Эдгар Гувер предоставил явно независимое сообщение о нем же от одного из «высших русских источников», А.А. Берлу 17 июня 1940 г. в United States National Archives, M982, R25. См. также Grigorii A. Tokaev, Stalin Means War (London, 1951), chapter 2, passim.
[Закрыть].
Мы не знаем, как долго разрабатывался этот план Сталиным и его кремлевской бандой [316]316
Вероятнее всего – с первых же дней большевистской власти в России, поскольку этот план в общем дублирует недавно опубликованную ленинскую идею войны против Польши: В.И. Ленин, «Я прошу записывать меньше: это не должно попадать в печать», Исторический архив, № 1/1992, 12–30; см. также Joachim Hoffmann, Stalins Vernichtungskrieg, 1941–1945 (Munich, 1995), 18.
[Закрыть]. Он предполагал использование большевистскими агитаторами кризиса гражданского общества внутри воюющих держав. Кремль рассчитывал на то, что Красная Армия, следуя модели 1917–1922 годов, придет на помощь воюющему пролетариату (или, возможно, воображаемому воюющему пролетариату) и рабочим и солдатским революционным советам на Западе. Революционные правительства будут установлены по всей Европе. Планы Ленина о международной революции как последствии Первой мировой войны будут исполнены таким образом в процессе Второй мировой войны.
Кроме отсутствия убедительного документального источника этого политического замысла, в доказательствах Суворова есть еще один возможный изъян. Этот драматический сценарий, с учетом предварительных условий, подразумеваемых планом похода Красной Армии на запад, совсем не совпадает с условиями военного времени, существовавшими в период, когда Сталин, согласно Суворову, планировал напасть на Гитлера: 6 июля 1941 г. Дело в том, что в то время Гитлер, еще не напавший на Советский Союз (что он фактически совершил 22 июня), должен был быть в зените своей военной силы. Он был занят, но только на нескольких второстепенных полях сражений из-за продолжающейся войны против Британии. Исходя из этого, можно сомневаться в аргументированности ряда важных доводов Суворова, особенно в предложенной им последовательности военных действий. Но на сегодняшний день общий план военного вторжения красных на Западе хорошо известен на основании исторических свидетельств. Так что сомневаться в нем, без предварительного опровержения этих свидетельств, не приходится. В любом случае, две исторических концепции, одна – устанавливающая политический замысел Кремля, и другая – его военную реализацию, должны рассматриваться по отдельности. Существование самого плана может сегодня считаться доказанным благодаря высказываниям его авторов и их ближайших сотрудников, хотя в работах Суворова оно недостаточно обосновано [317]317
См. R. C. Raack, «Stalin's Plans for World War II», passim, и того же автора «Stalin's Plans for World War II Told by a High Comintern Source», The Historical Journal 38 (1995).
[Закрыть].
Сегодня главный военно-исторический аспект доводов Суворова подтверждается данными, недоступными ему во время написания «Ледокола». И эти данные, полученные из советских военных архивов и из других, доселе закрытых архивов Восточного блока, заслуживают очень пристального внимания. Имеет смысл привести мнение другого советского военного историка, В.И. Семидетко. Начиная свое исследование «Результаты битвы в Белоруссии» о поведении Советской армии ранним летом 1941-го, он вряд ли предполагал, что придет к нижеприведенным выводам.
Семидетко, вероятнее всего, ничего не знал тогда о работе Суворова. Но, публикуя в советском «Военно-историческом журнале» результаты своих поисков в недавно открытых советских военных архивах, он пришел к выводу, что причина, по которой германская армия так легко прошла через позиции Красной Армии на центральном фронте в Белоруссии в июне 1941-го (где у обеих армий, нападающей и защищающейся, были приблизительно равные силы), была в том, что позиция Красной Армии была атакующей [318]318
В.И. Семидетко. Истоки поражения в Белорусии, № 4/1989, 1—30.
[Закрыть]. Это открытие, разумеется, является главной составляющей сформулированной за несколько лет до этого концепции Суворова, объясняющей тот самый разгром. Суворов тогда сказал, что Красная Армия была развернута для атаки на запад и поэтому располагалась вне оборонительных позиций, заброшенных из-за наступательной доктрины Кремля. Поэтому Красная Армия оказалась очень уязвима во время наступления немцев, которые, упреждая Сталина, напали первыми.
В мои руки попали другие материалы, подтверждающие заключения, к которым Суворов и Семидетко пришли независимо друг от друга (эта независимость важна сама по себе). Один материал – советского дипломатического происхождения, совершенно независимый от военных источников, приведенных русскими авторами. Второй, совсем другой источник, содержит ту же удивительную информацию! Он из чешских архивов, закрытых до недавнего времени для независимых исследователей.
Перед германским нападением в Москву поступали предупреждения о германских военных приготовлениях на западной советской границе (многие из них британского и американского происхождения, а одно от германского посла в Москве [319]319
С.А. Горлов в «Новом времени», № 8/1991, 38–39 и В.В. Соколов, «Дипломатический ход во имя мира», Вестник Министерства иностранных дел СССР, № 20/1990, 57–58.
[Закрыть]), и Сталин явно решил успокоить дипломатические круги и унять разговоры о германском вторжении. Сегодня мы можем только догадываться, каковы были его цели.
Кремль отправил к советскому послу в Лондоне Ивану Майскому эмиссара, ведущего советского журналиста (источник не называет его имени). Майский, действуя, несомненно, по указаниям из Москвы, давно притворялся якобы самостоятельным, заигрывал со многими политическими группами и личностями по всему демократическому Лондону, передавал британцам разные, вероятно успокаивающие вести от Сталина. Мы знаем, что 15 июня у Майского была очень длительная встреча с очень высокопоставленным чиновником британского МИДа. Там настойчиво домогались того, чтобы он передал в Москву срочные предупреждения о предстоящем германском нападении. (Читатель помнит, насколько успешны были тогда британские перехваты германских сообщений.) Доказательства, которые британский дипломат представил на этот раз, явно впервые потрясли веру Майского в утверждения его собственного начальника [320]320
Gabriel Gorodetsky, «Was Stalin Planning to Attack Hitler in June 1941», RUSI Journal (June 1986): 71–72.
[Закрыть]. (Посол, которого могли отозвать домой в Москву, наверняка не часто подвергал сомнению слова, провозглашенные «величайшим гением человечества».) После этого британцы передали своим союзникам в качестве политических разведывательных данных сталинское послание, отрицающее вероятность германского нападения. Через три дня сообщение из Москвы было записано как минимум одним из них, Карелом Эрбаном, аналитиком Министерства иностранных дел Чехословацкого национального комитета (в изгнании), и передано чешскому руководству в Лондоне [321]321
Датировано 18 июня 1941-го, найдено в Archiv ministerstva zahranicnich veci' в Праге, дело 4—70—114.
[Закрыть].