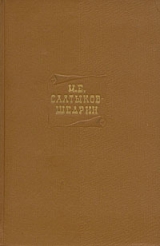
Текст книги "Том 5. Критика и публицистика 1856-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 54 страниц)
Но г. Майков не внял этому простому голосу и, начиная с 1854 года, вступил на почву политическую и социальную * . Он бичует и приветствует; бичует старую «клубнику», которую сам же воспевал; приветствует… приветствует всё ту же старую клубнику, которую он потому только мнит быть новою, что она окрещена «мудреными словами».
Рассмотрим сперва так называемую сатиру г. Майкова.
Сатира, как составной элемент, входит в значительную часть стихотворений г. Майкова, но вполне сатирическим по содержанию можно назвать только одно из них; это – «Другу Илье Ильичу». Так как оно очень длинно, то мы не будем его выписывать * , ибо хорошо понимаем, что прочесть такую тяжеловесную и в то же время вялую и бесцветную вещь – труд далеко не маловажный. Но признаемся, что, по запутанности своего содержания, оно представляет весьма любопытный психологический факт.
В прошлом году (да простит нам читатель этот маленький анекдот) к одному из наших сотрудников явился молодой человек. «Я желаю свистать» * , – сказал он вместо всякой рекомендации. «Свищите», – был ответ. «Но я желал бы знать, об чем свистать?» Вот и весь этот краткий, но поучительный разговор, который, конечно, не стоило бы и вспоминать, если б не напомнила его нам выписанная выше сатира г. Майкова. Сатиру эту следовало бы собственно назвать так: «Ювенал неведающий, или Бичевать желаю, но что – не знаю».
В самом деле, для того, чтоб сатира была действительною сатирою и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало. Ни того, ни другого сознания в сатире г. Майкова не замечается.
Идеал скрыт нашим сатириком до такой степени тщательно, что уяснить его читателю нет никакой возможности. Что хочет он бичевать? Во имя чего протестует? желает ли крикнуть жизненному движению: довольно! пора воротиться назад! или же находит, что даже и сего недовольно, что совершающийся на его глазах прогресс есть прогресс мишурный и что жизнь должна отыскать себе другое, более широкое ложе? Ни на один из этих вопросов сатира его определительного ответа не дает.
На первый взгляд может, однако, показаться, что автор более склонен показывать дорогу назад.
В самом деле, единственные сочувственные строки, которые встречаются в его сатире, относятся к лицу, называемому им «папенькой». Это человек, который
Раздавит, кажется… ан, смотришь, покричит —
И сам расплачется, да тут же и простит!
и далее:
Конечно, память твой папа у стариков
Оставил добрую – и ставят пред икону
И нынче за него свечу…
Сочувствие, по-видимому, несомненное; но в то же время сатирик как будто стыдится своего сочувствия и спешит отречься от всякой солидарности с рисуемым им идеалом. И вот он надевает на своего героя следующий не совсем лестный костюм:
Вот, в самом деле, был забавный-то старик!
Полжизни на плацу вытягивал он ногу,
Был губернатором, здесь чем-то управлял…
Застегнут, вытянут, каким-то дикобразом
Старался выступать – казалось, съест вот разом!
.
Закона – не любил! его боялся даже,
Всегда в нем видел то, против чего на страже
Быть должно всякому…
Отсюда двойственность; с одной стороны, похвальные качества: накричит человек, да тут же и простит; с другой стороны, качества непохвальные: выступание на плацу дикобразом и законобоязнь. Конечно, если мы будем вникать очень пристально в существо этой двойственности, то без труда найдем, что она составляет, так сказать, только последнюю уступку чувству ложной стыдливости; тем не менее она все-таки поражает очень неприятно и обнаруживает в сатирике совершенно неуместную в его ремесле шаткость воззрения на жизнь. Сатирик всегда несколько фанатик своих воззрений, и потому в нем всего менее понятна уступчивость, и особливо такая уступчивость, которая явно допускается под влиянием внешнего гнета и собственной внутренней робости. И если б г. Майков был вполне искренен, то он, конечно, не колеблясь, стал бы на сторону «папеньки», ибо, в сущности, здесь самые противоречия устраняются очень легко, ибо здесь похвальные качества до такой степени примиряются с качествами непохвальными, что едва ли даже отыщется в целом мире то тонкое перо, которое в состоянии провести между ними разделяющую черту. И действительно, весь идеал г. Майкова заключается, кажется, в том, чтоб в России были начальники вспыльчивые (по человечеству, это им прощается), но добрые, чтоб они, пожалуй, и кричали, но умели бы снисходить к оправданиям и слабостям подчиненных. Не хорошо только то, что они выступают «дикобразами» и «боятся закона». Но разве стоит из-за этого распинаться? Разве стоит из-за этого острить жало сатиры? Не достаточно ли внушать этим людям, что ходить дикобразом не следует, равно как не следует и бояться законов, но видеть в них вящее для себя поощрение?
Уверяем, что это гораздо легче, нежели кажется с первого взгляда, и что г. Майков совершенно напрасно скрывает свое сочувствие к «папеньке», ибо скрытность эта, без всякой надобности, лишает его сатиру силы. Мы понимаем: его смущает в этом случае образ Скалозуба, нарисованный мастерской рукой Грибоедова, но ведь кто же может поручиться, что и за него никто не «ставил пред иконы свечу»? Да и на каком, наконец, основании сатирик усматривает противоречие между непохвальными свойствами своего скрытного идеала и другими, которым он положительно сочувствует? Мы думаем, что те и другие совсем не чужды друг другу, что они суть явления одной и той же категории, не только взаимно друг друга пополняющие, но и не могущие существовать один без другого. Мы слишком охотно говорим иногда: «хороший человек: накричит, да зато потом и простит!», однако, выражаясь таким образом, мы прямо свидетельствуем, что мало понимаем значение употребляемых нами слов. Что такое «накричит»? что такое «простит»? Неужели же так трудно понять, что самое существование подобных слов говорит об отсутствии первого и самого необходимого условия всякого человеческого общежития, – об отсутствии равноправности? Да вникните же, вникните хорошенько в прямой смысл этих слов и поймите, наконец, что в них заключается гораздо более горечи, нежели в том выступании дикобразом и в той законобоязни, которые кажутся вам столь смешными!
Из такого-то смутного идеала приходит г. Майков к бичеванию. Кого он бичует? Мы думаем, что он сам не найдется что-либо ответить на это, кроме того, что он бичует «друга Илью Ильича». Кто же таков этот Илья Ильич? С одной стороны, это пропагандист либерализма, ревнитель свободы, с другой – это отчасти департаментский сторож, отчасти бюрократ чичеринской школы, отчасти один из тех дрянных Робеспьериков, сведения о которых можно почерпать в исторических анекдотах, лихо рассказываемых гг. Семевским и Есиповым. Мы не отрицаем, что такое противоестественное смешение понятий самых противоположных и несовместимых совсем не составляет редкости в нашем так называемом обществе; мы даже думаем, что это могло бы навести талантливого писателя на множество очень комических соображений, но г. Майков не имеет ни возможности, ни права воспользоваться комизмом этого положения, потому просто, что он сам очень искренно признавал и признает, что либерализм и плевание в лицо истории, свобода и регламентация – вещи совершенно однородные * . Он сам искренно смешивает эти понятия и, смешавши, силится испоместить по этому поводу все острые слова, которые имеются у него в запасе.
Как назвать такую сатиру? Разумеется, если бы она носила хотя малейший признак преднамеренности, то ее надлежало бы заклеймить именем клеветы, но так как она свидетельствует лишь о близорукости самого сатирика, не умеющего полагать различие между представлениями совершенно противоположными, то и следует ее просто-напросто приобщить к числу прочих опытов попадания пальцем в небо, которыми так богата новейшая русская литература.
Посмотрим теперь, каковы-то приветствия г. Майкова. Эти приветствия всецело выразились в стихотворении под названием «Картинка», которое мы приведем здесь вполне.
Картинка
(После манифеста 19 февраля 1861 г.)
Посмотри: в избе, мерцая,
Светит огонек;
Возле девочки-малютки
Собрался кружок;
И с трудом, от слова к слову
Пальчиком водя,
По печатному читает
Мужичкам дитя.
Мужички в глубокой думе
Слушают, молчат;
Разве крикнет кто, чтоб бабы
Уняли ребят.
Бабы суют детям соску,
Чтобы рот заткнуть,
Чтоб самим хоть краем уха
Слышать что-нибудь.
Даже с печи не слезавший
Много-много лет,
Свесил голову и смотрит,
Хоть не слышит, дед.
Что ж так слушают малютку, —
Аль уж так умна?..
Нет! одна в семье умеет
Грамоте она.
И пришлося ей, младенцу,
Старичкам прочесть
Про желанную свободу
Дорогую весть!
Самой вести смысл покамест
Темен им и ей:
Но все чуют над собою
Зорю новых дней…
Вспыхнет, братцы, эта зорька!
Тьма идет к концу!
Ваши детки уж увидят
Свет лицом к лицу!
Тьма пускай еще ярится!
День взойдет могуч!
Вещим оком я уж вижу
Первый светлый луч.
Он горит уж на головке,
Он горит в очах
Этой умницы-малютки
С книжкою в руках!
Воля, братцы, – это только
Первая ступень
В царство мысли, где сияет
Вековечный день.
Признаемся: нужно много решимости, чтоб прочитать до конца эту более нежели странную штуку. Здесь что ни слово, то фальшь. Г-н Майков сумел соорудить водевильно-грациозную картину даже из такого дела, которое всего менее терпит водевильную грациозность. История не новая, повторяющаяся неоднократно со всеми переделывателями французских водевилей на русские нравы. Поэт, очевидно, вдохновился каким-нибудь французским эстампом с подписью: La petite Nini faisant la lecture à sa mère [85]85
Маленькая Нини, читающая матери вслух.
[Закрыть], и задумал снискать расположение почтеннейшей публики, изобразив этот эстамп в стихах и переложив его на русские нравы. И, может быть, он действительно успел бы в своем намерении, если б не сбили его с толку так называемые современные тенденции и если б он местом действия для картинки выбрал не избу, а коттедж досужих людей. Но кто же поверит этой русской семье, где
…с трудом, от слова к слову
Пальчиком водя,
По печатному читает
Мужичкам дитя…
Кого обманет этот балетный обман? Кого не возмутит этот противный ненужный отвод глаз? И неужели в самом деле не может быть ничего священного, коль скоро речь идет об увеселении досужих людей? Неужели даже такой предмет, как свобода нескольких миллионов людей, не огражден от водевильных поползновений?
Грустно.
Воздушное путешествие через Африку *
Издание Алексея Головачева. Москва. 1864 год
Составленное по запискам доктора Фергюссона Юлием Верн. Перевод с французского.
Мы с удовольствием обращаем внимание наших читателей на издательскую деятельность г. А. Головачева. Книга, которой заглавие выписано выше, вместе с недавно изданною «Историей кусочка хлеба» * , непременно должна сделаться настольною детскою книгой, особенно если принять во внимание скудость нашей текущей детской литературы. Ребенок не встретится здесь ни с благонравным Ваней, ни с обжорливою Соней, ни с лгуном Павлушей, рассказы о которых так тлетворно извращают детский смысл, но сразу увидит себя окруженным здоровой и свежей атмосферой. Он увидит, что автор не обращается к нему, как к низшему организму, для которого требуется особенная манера говорить с картавленьем, пришепетываньем и приседаниями и которому нужны какие-то особенные «маленькие» знания; он поймет, что ему дают настоящие знания, что с ним говорят об настоящем, заправском деле. По нашему мнению, этот взгляд на педагогическую деятельность есть единственно верный, и мы охотно поговорили бы об этом предмете подробнее * , но в настоящем случае ограничиваемся лишь краткою заметкой, так как в скором времени надеемся возвратиться к нему по поводу бесполезной деятельности московского общества распространения полезных книг.
Но так как всякое даже самое лучшее дело не избавляется от некоторых недостатков, то и в изданном г. Головачевым «Путешествии» мы можем указать на один такой недостаток, который, но нашему мнению, значительно вредит книге. Он заключается в слишком большом изобилии юмористических и не относящихся к делу разговоров между Фергюссоном и его спутниками. Дело отвечает само за себя и имеет свой собственный внутренний интерес, достаточно значительный, чтобы представлялась крайность прибегать к сдабриванию его какими-нибудь околичностями. И издатель, конечно, поступит очень хорошо, если, при дальнейшем развитии своей деятельности, будет без милосердия урезывать из французских подлинников все, что не относится прямо к делу.
Записки и письма М.С. Щепкина. С его портретом, факсимиле и статьею о его сценическом таланте, писанною С.Т. Аксаковым. Москва. 1864 г *
Пробегая эти «Записки», читатель не должен забывать, что имеет дело не столько с знаменитым и полезным деятелем русской сцены, деятелем, которого имя надолго останется в ее летописях, сколько с одною из тех даровитых русских натур, которые, несмотря на самые неблагоприятные условия, успевают-таки возвыситься над общим уровнем и умеют поставить себя в положение далеко не заурядное.
К сожалению, записки Щепкина дают очень немного для биографии знаменитого актера, да и то, что они дают, представляется в виде каких-то разрозненных отрывков, между которыми лежат значительные промежутки. А между тем биографии таких людей, как Щепкин, не только интересны, но и в высокой степени поучительны; только, разумеется, нужно, чтобы такого рода труд был выполнен не только с талантом, но и без малейшей утайки. Не легка жизнь русского человека, а в особенности подневольного русского человека, каким, по рождению, был Щепкин. Самая страшная сторона неволи измеряется не числом ударов, и не в том состоит, что она с маху бьет человека, а в том, что она всасывается в его кровь, налагает руку на его внутренний мир и незаметно заставляет его не только примириться с неволей, как с таким состоянием, против которого всякая борьба была бы материально напрасна, но даже относиться к нему, так сказать, художественно, все свои умственные и нравственные силы направлять к его вящему утверждению и украшению. И если изобразить историю такого разлагающего действия подобных форм жизни на человека есть дело далеко не легкое, то еще труднее поддается художественному и правдивому воспроизведению та борьба с ними, на которую решается человек смелый и сильный. Тут предстоит проследить не только все фазисы борьбы, но и то клеймо, которое она необходимо оставляет после себя на человеке, даже в случае его торжества; а здесь-то именно и встречаются на каждом шагу такие тонкие штрихи, которые могут быть уловлены только при полной свободе биографа от всякой фальшивой примеси и при совершенной известности ему даже мельчайших подробностей жизни избранного лица.
Мы слышали, что биография Щепкина пишется и что с этою целью уже собираются материалы * . От души желаем, чтобы намерение это осуществилось, хотя, признаемся, не можем ожидать от него многого. Кроме того, что у нас есть дрянная привычка показывать в таких случаях только казовые концы жизни, мы думаем, что есть еще множество и других условий, которые положительно неблагоприятны для трудов подобного рода. Рассказать с большею или меньшею подробностью происшествия жизни известного лица, конечно, очень легко и возможно, но ведь для добросовестного биографа этого недостаточно. Он захочет увидеть своего героя лицом действующим, окруженным известною средою, а тут-то именно и предстоят ему со всех сторон различные непреодолимые преткновения. «Вот это неловко, вот это несвоевременно, а вот этого и совсем нельзя» – будет он слышать на каждом шагу и поймет, что задуманное им дело не только трудно, но едва ли и удобоисполнимо.
Сравнительно с другими людьми, воспитавшимися на лоне крепостного права, судьба была довольно снисходительна к Щепкину: господа у него были добрые и милостивые. Родился он в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенсе (так начинает он свои записки); отец его был камердинером, а впоследствии управляющим имениями графа Волькенштейна, мать – горничною графини. И мать и отец пользовались неограниченным доверием своих господ, которые перенесли свое расположение и на маленького Мишу. В рассказе Щепкина помещики его являются действительно очень добродушными, но, к сожалению, записки его имеют слишком личный характер, и потому очень трудно определить по ним общий характер этого помещичьего добродушия. Известно, что пресловутая патриархальность тем и отличается, что одних благодетельствует, других угнетает, и притом сегодня благодетельствует, а завтра угнетает, и наоборот, вследствие чего одни не нахвалятся ею, а другие не знают, как от нее избавиться. Мать и отец Щепкина, по-видимому, настолько были довольны своим положением, что решились удержать его за собой, в чем и успели; отсюда благоприятные последствия для нашего будущего знаменитого актера: господа позволяли ему валяться на господских диванах и жаловали его к ручке. Это же самое обстоятельство дозволило Щепкину получить сравнительно порядочное первоначальное образование и потом беспрепятственно удовлетворить своей страсти к театру.
Щепкин довольно пространно объясняет в своих «записках», каким образом возникла в нем наклонность к сцене, но, к сожалению, мы не можем вынести из этих объяснений никакого определенного впечатления. Здесь автор стоит ниже своей задачи, и пространность его объяснений есть не что иное, как многословие. Он, видимо, не может уловить и определить признаков зарождавшейся в нем страсти, и потому ограничивается повторением, в разнообразных формах, таких избитых фраз, как, например: «я весь горел», «я ничего не помнил», «слезы брызнули из моих глаз». Поэтому-то, хотя детству и первым еще ребяческим сценическим попыткам посвящено почти три четверти всей книги, но впечатление, получаемое читателем, очень неполно. Подробностей, мелочей, которые относились бы именно к этой главной, артистической стороне жизни знаменитого актера и которые в таком случае всего драгоценнее, почти нет, а имеется именно одно разглагольствование, вдобавок еще перемешанное со многими рассказами, которые не могут иметь ни для кого интереса (к таким совершенно лишним подробностям мы относим, например, рассказы: о потере маленького Миши в дороге, об ухе из ершей, о спасении двоих утопающих и т. д.). Нет также ровно никаких заметок о нравах и обычаях тогдашних провинциальных театров, о требованиях публики, о жизни, которую вели тогда актеры, кроме разве того замечания, что актрис в то время «господа» считали неприличным поить чаем в гостиной, а угощали вместе с дворовыми людьми.
Но если так мало представляют интереса рассказы Щепкина о его детстве и первых сценических попытках, занимающие, как сказано выше, более двух третей всей книги, то еще беднее содержанием остальные главы его записок, относящиеся к дальнейшему и притом самому любопытному периоду его разнообразной и далеко не заурядной деятельности. Вся эта часть записок посвящена рассказу об актрисе С – ной, не имеющему никакого отношения к жизни автора, да двум-трем анекдотам, из которых в одном повествуется о том, как одна курская аристократка вылечилась от ипохондрии тем, что каждый день давала одной из горничных девок две пощечины, а в другом – о том, как покойный Щепкин препирался с каким-то генералом, причем генерал нападал на новые времена и отстаивал старые, а Щепкин нападал на старые времена и отстаивал новые. В этом последнем анекдоте всего замечательнее то, что Щепкин говорит генералу вы,а генерал отвечает ему ты.
Одним словом, записки Щепкина ничего не характеризуют: ни того времени, в которое он жил, ни его собственной замечательной личности. А между тем в одном месте записок автор выражается о себе так: «Я знаю русскую жизнь от дворца до лакейской». И нет сомнения, что в этом отзыве нет ничего преувеличенного, потому что Щепкин был человек высокодаровитый, и притом отличный рассказчик. Следовательно, он и мог бы рассказать о многом, да и было о чем рассказать; однако не сказалось ровно ничего, кроме нескольких пустых анекдотов. Отчего это? Не оттого ли, что при известной обстановке жизнь самая замечательная и разнообразная в конце концов все-таки истрачивается на пустяки?..
Моя судьба *
М. Камской. Москва. 1863 г
Недоумения играют весьма важную роль в человеческом существовании. В особенности сильно сказываются они в так называемом обществе, в том обществе, которого вся жизнь сложилась под влиянием искусственных форм, условных понятий и всякого рода случайных или не случайных предрассудков. В такого рода среде люди говорят и не договаривают, хотят идти и не идут, хотят сидеть и не сидят. Вечно им что-нибудь мешает, вечно они чего-то боятся, перед чем-то трепещут. Сумма таких недоумений, постепенно накопляясь, образует наконец такую громадную бессмыслицу, которая на здорового и непричастного этой недоумевающей среде человека действует вытягивающим жилы образом. Так и хочется всем этим резонерствующим куклам сказать: что вы дразнитесь? что вы приседаете друг перед другом? чем намазан у вас язык, что вы ни одного слова сказать без ужимок не можете? Да идите же! да садитесь же! да говорите же, говорите же, черт возьми!
Но если такова роль недоумений в жизни вообще, то еще более решительную роль играют они в жизни современной женщины. Положение этой последней в обществе таково, что каждый ее шаг есть самое неистовое и неестественное кривлянье. Мужчина все-таки имеет средство более или менее уклониться от гнета форм, которые почему-либо кажутся ему мертвыми и бессодержательными; он может хотя по временам отдаваться свободным внушениям рассудка; в нем самый протест даже охотно оправдывается. Напротив того, женщина, так сказать, фаталистически осуждена делать то, что ей не хочется, молчать, когда она чувствует желание говорить, говорить, когда она не имеет к тому ни малейшего поползновения; одним словом, осуждена соблюдать приличия, то есть кривляться. Самый протест с ее стороны, если таковой по временам и прорывается, кажется каким-то кривляньем; от того ли, что мы привыкли ее видеть постоянно запуганною и стянутою, или от того, что она, именно по причине этой запуганности, не умеет даже формулировать свой протест вразумительным образом, нам все кажется, что она домогается чего-то не должного, что, по-настоящему, ей следовало бы сидеть смирно и ожидать, покуда мы сами не догадаемся: отчего, дескать, наши самочки сидят, повесивши носики?
Чем обусловливается такое содержание жизни вообще и женской в особенности – это вопрос очень обширный, который неуместно было бы здесь разбирать, но верно то, что положение это есть факт несомненный, и следовательно, наравне с прочими жизненными явлениями, подлежащий изучению и дающий обильную пищу для наблюдений. И действительно, мы видим, что недоумения дали содержание целому очень обширному отделу беллетристики, и если не вполне, то в весьма значительной степени легли в основание так называемого домашнего романа, играющего такую блестящую роль в современной английской литературе. В особенности искусными в анализе и описании таких недоумений оказываются женщины-писательницы. Потому ли, что они на самих себе испытывают всю силу такого неестественного положения, или потому, что оно до того уже прочно осело над ними, так слилось со всею их жизнью, что не представляется даже ненормальным, как бы то ни было, но в исследованиях своих по этому предмету женщина-писательница обнаруживает мастерство изумительное. Быть может, в их описаниях читатель не почувствует правильного и резонного отношения автора к предмету, но верность подробностей, наглядное сходство описываемых форм с действительно существующими и добросовестность разработки положения в том виде, как оно есть, не должны подлежать никакому сомнению.
Образцы подобного отношения к делу мы видим в английских писательницах, между которыми ярче прочих выдаются авторы романов: «Джэн Эйр» и «Адам Бид». Вся основа этих романов лежит на психологических недоумениях, к которым авторы относятся не только без малейшего нетерпения или негодования, но, напротив того, с полным и невозмутимым спокойствием. В глазах их, жизнь есть узел, в котором перепутаны все нити, но перепутаны не случайно или вследствие известных, иногда очень досадных условий, а, так сказать, преднамеренно искусственно, и именно для того, чтобы люди, попавшие в этот узел, имели удовольствие его распутывать. Понятно, что при таких условиях изображаемые лица не могут быть ни истинно живыми, ни истинно страстными лицами. Конечно, они, в качестве врожденной силы, могут в избытке обладать и энергией, и страстностью, но и то и другое уйдет у них на пустяки, то есть на борьбу с пустяками, на распутывание пустяков и на постоянное самонадувание посредством пустяков. Как тонко ни исследуйте, с каким искусством ни извлекайте напоказ, одно за другим, их внутренние сокровища, все-таки это будут сокровища мертворожденные, и сами обладатели их будут не живыми лицами, а более или менее искусно сделанными фарфоровыми куклами. Поэтому-то, при всем искусстве и несомненно замечательном таланте упомянутых выше авторов, сочинения их никогда не могут удовлетворить вполне и оставляют в уме читателя то неполное и отчасти болезненное впечатление, которое необходимо должно иметь место во всех тех случаях, когда автор-художник не настолько стоит выше своего предмета, чтобы вполне свободно им обладать, когда он не только не обладает им, но сам, так сказать, неотвязно и шаг за шагом за ним плетется.
К такой именно категории повествовательных сочинений относится и рассматриваемый нами роман. Но если уже в самом своем источнике этот род производит не всегда удовлетворительное впечатление, то понятно, что перенесенный на иную, не совсем благоприятную для него почву и разрабатываемый менее искусными руками он должен поражать еще более невыгодным образом. Как ни мало развито русское общество, но, быть может, по этому-то самому в нем меньше замечается той тошной и скучной искусственности, которая так ловко замаскировывает себя всякого рода лицемерными тонкостями и приличиями. Характеристические черты русской жизни крупны, резки и откровенны; в ней можно отыскать непочатые углы всякого рода грубости и самого несносного невежества, но очень мало лицемерства. Поэтому-то, быть может, писательница, сама по себе очень даровитая (мы говорим о Крестовском, авторе повести «В ожидании лучшего» * ), но постоянно стоявшая в своих сочинениях на почве психологических тонкостей, никогда не пользовалась у нас тем успехом, который принадлежал ей по праву таланта, и стяжала себе лишь почетную известность.
Тем меньшее право может предъявить на внимание публики г-жа Камская. Роман ее положительно плох. Тут все дело в том, что какая-то Настасья Алексевна не может дать себе отчета в том, любит ли она Александра Сергеича или не любит. С лишком 160 стр. очень убористой печати наполнены этим каверзным распутыванием и запутыванием нитей, лежащих ровно и не нуждающихся ни в каком сплетении. Напутает эта девица – и станет поодаль, полюбуется, хорошо ли напутала; потом зачнет распутывать, распутает – и опять станет поодаль, посмотрит, не рано ли распутала. Даже законных побудительных причин для путаницы никаких нет, а просто хочется нелепым образом подразнить себя и других. С своей стороны, Александр Сергеич тоже охотник попутать; он любит Наталью Алексевну и даже знает это, но в то же время действует относительно ее как совершенный шалопай. В заключение эти люди соединяются браком и уезжают куда-то в захолустье, где, конечно, будут с успехом продолжать свою игру в прятки. Сознайтесь, что неестественнее этого положения трудно что-нибудь выдумать.
Ко всей этой путанице очень неискусно приплетено несколько вводных лиц, которые бродят, как тени, и решительно не знают, что над собою сделать. Им даже и путать нечего, а приходится состоять при чужой путанице, что уже из рук вон мучительно.








