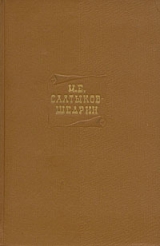
Текст книги "Том 5. Критика и публицистика 1856-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 54 страниц)
По всем требованиям мышления, на этом открытии должна бы была разрешиться развязка всей драмы. Ибо что, в сущности, может составлять содержание драмы вообще? Это содержание может составлять исключительно протест, протест, быть может, и не формулирующийся определенным образом, но явственно выдающийся из самого положения вещей, из того невыносимого противоречия, в котором находится действие или требование, послужившее для драмы основой, с его обстановкою. Есть требования и действия, которые сами по себе не идут вразрез ни указаниям здравого рассудка, ни общим законам человеческой природы, но которые тем не менее, вследствие известных условий общественного развития, признаются незаконными. Сила естественная и (с точки зрения драматурга) разумная, но вследствие разных причин попранная и непризнанная, представляется в борьбе с силою искусственною и (тоже с точки зрения драматурга) неразумною, но, вследствие тех же причин, торжествующею и установившеюся – вот единственный материал, из которого может возникнуть действительное драматическое положение. Но такое содержание неминуемо должно иметь влияние и на самое развитие драмы. Отовсюду окруженное враждебностью и препятствиями, всякое требование такого рода на первых порах невольным образом облекает себя известною таинственностью и, прежде чем придет к мысли о необходимости открытой борьбы с враждебными силами, внутри самого себя испытывает известную борьбу. Эта внутренняя тайная борьба, предшествующая борьбе явной, отнюдь не может быть названа продуктом человеческого малодушия или слабости – это просто законная потребность человеческого духа, в силу которой человек прежде всего ищет ориентироваться и уяснить свое положение. Затем уже следует переход борьбы из тайной в явную, затем развязка, то есть кара, то есть посрамление. Таков обычный и естественный ход драмы. Если она пропустит хотя один из названных выше моментов, то в результате получится впечатление отрывочное и спутанное.
В противоположность такому естественному ходу, г. Писемский начал свою драму именно с конца, то есть взял за исходную точку тот момент, где основа драмы уже совершенно исчерпана. Мы уже не говорим о том, что факту, на котором он построил все свое произведение, не дано никакого развития, что он представляется во всей своей наготе и грубости и что вследствие этого в зрителе возбуждается не интерес, а только смущение, но мы невольно спрашиваем себя, что может автор сказать об этом предмете более того, что уже сказано им в первом акте? Куда может он повести зрителя далее того, до чего он довел его в конце первого акта? Какой ряд насильств изобретет он, чтоб поддержать погасший в зрителе интерес? или же все дальнейшее развитие драмы будет уже представлять ненужную тавтологию, неловкое переливание из пустого в порожнее, свидетельствующее о тяжкой необходимости, чем бы то ни было и во что бы ни стало наполнить остальные четыре акта?
Да; г. Писемский именно находился между этими двумя печальными необходимостями и выбрал из них последнюю. Остальные три действия именно составляют не более как неловкую пришивку к драме, не начинавшейся, но уже совершенно закончившейся в первом акте, и притом пришивку, решительно ничего не поясняющую и не проливающую никакого света ни на характеры, ни на отношения действующих лиц.
Но виноваты: мы еще не досказали содержания конца первого действия. Ананий призывает жену к допросу и, дознавши от нее, что и как, начинает срамить ее. С известной ограниченной точки зрения он прав: он любил Лизавету, по-своему, горячо; он взял ее из бедного семейства, он поссорился из-за нее с отцом, он для нее терпел в Петербурге всякого рода лишения… все это совершенно естественно могло вспомниться ему в эту горькую минуту, и всего этого, для неразвитого его ума, весьма достаточно, чтобы получить право истерзать бедную женщину, оказавшуюся недостаточно твердою в той вере, в которой так тверд сам герой пиесы. А потому мы и не виним г. Писемского за то, что он заставил своего героя разгневаться на Лизавету; мы вовсе не требуем, чтоб он сделал из него Жака или Лопухова * ; но мы положительно ставим ему в вину, что он не сумел воспользоваться даже теми примирительными элементами, которые сами собой напрашивались под перо его и с помощью которых искаженный образ его героя мог бы быть возведен на степень образа человеческого. Очевидно, наш драматург задался мыслью, что пишет драму оригинальную,русскую и что русский человек никакого душевного движения не может выразить иначе, как посредством ругательства, и вследствие такого решения просто-напросто превратил, на время, душу Анания в лексикон отборных ямских слов. Сцена вышла поистине возмутительная. По наружности Ананий волнуется и находится под влиянием величайшего пароксизма гнева и негодования, но, в сущности, все это беснование есть не что иное, как холодная злость и преднамеренное резонерство, украшаемое выражениями вроде: «шкура ободранная», «криворожая», «шельма бесстыжая», «лукавая бестия» и т. п. В результате дело кончается чем-то вроде сделки, выражающейся в следующих словах Анания: «Одного стыда людского теперь обегаючи, за неволю на себя все примешь, и по крайности для чужих глаз сделать надо, что ничего аки бы этого не было: ребенок, значит, мой, и ты мне пока жена честная! Но ежели что, паче чаяния, у вас повторится с барином,так легче бы тебе… слышишь ли: голос у меня захватывает… легче бы тебе, Лизавета, было не родиться на белый свет!.. Кому другому, а тебе пора знать, что я за человек: ни тебя, ни себя, ни вашего поганого отродья не пощажу, так ты и знай то!.. это мое последнее и великое тебе слово!» Каково само по себе достоинство подобной сделки, и также представляется ли возможность вывести ее оправдание из действительной жизни, – это вопрос покамест посторонний, но дело в том, что на ней, на этой сделке, драма совершенно исчерпывается. Ананий высказывается тут вполне; он является чем-то вроде Жака, но, разумеется, с примесью крепостного права, то есть: за прошлое не взыскивает, но впредь грешить не разрешает. Мораль известная, хотя, при условиях крепостного права, и довольно трудно выполнимая, ибо крепостное право тем-то именно и было характеристично, что оно проявляло себя необыкновенно цельно, резко и определенно и что при подобной обстановке не могло быть места для сделок, а было ли, нет ли место, так или для совершенной приниженности, или для явного и резкого протеста. Но г. Писемский пожелал продолжать драму и тем в миллионный раз доказал, что ежели желание сильно, то его одного достаточно, чтобы заменить всевозможные основания и поводы.
Второе действие застает нас в доме помещика Чеглова-Соковина, того самого, который нехитрыми мерами успел обворожить Лизавету. Что это за личность – даже определить невозможно. Из того, что он сидит, потупивши голову, надобно заключить, что он человек слабый, из того, что он говорит вздор, – что он человек глупый, а из того, что между этим вздором прорываются сентенции в катковско-либеральном * духе * , – что он человек либеральный и если бы дожил до известной крестьянской реформы, то был бы, пожалуй, мировым посредником и удивлял бы Россию своею гуманностью. Тем не менее г. Писемский коснулся всех этих качеств только слегка и предпочел остановиться на четвертом, а именно, он изобразил Чеглова-Соковина человеком пьющим, – свойство души, как известно, тоже очень трогательное. Слабо-глупо-либерально-пьяный помещик беседует с зятем своим, г. Золотиловым (он же предводитель дворянства). Золотилов говорит, что не понимает, «чтоб из-за крестьянки можно было так тревожиться», что от бабы только и услышишь: «Ах ты, мой сердешненький! ах ты, мой милесенький!»; что, наконец, во всем уезде ходят слухи, что Чеглов пьет и что Лизавета поддерживает в нем эту страсть; на это Чеглов-Соковин отвечает (с горькой усмешкой):«Что ж тут непонятного?», откровенно сознается в пристрастии к чарочке (в доказательство чего тут же выпивает рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой), но с негодованием отвергает всякое подстрекательство со стороны Лизаветы к поддержанию в нем этой несчастной привычки и в заключение решительно отказывается перестать тревожиться. Одним словом, происходит один из тех разговоров, какие могут происходить * между двумя благородными людьми, из коих один пьяно-либерально-глуп, а другой трезво-консервативно-ограничен. Приходит бурмистр, Калистрат Григорьев, и докладывает барину, что Ананий Яковлев «из Питера сошел», да «уж оченно безобразничает», и что Лизавета пришла с жалобою. Тип бурмистра очерчен г. Писемским довольно метко; это именно один из тех пронырливых, в душу пролезающих людей, которыми так обильны были недра крепостного права. По-видимому, слабо-глупо-либерально-пьяный помещик больше с помощью бурмистра и приурочил к себе Лизавету; по крайней мере, мать ее именно так объясняет это дело. Во всяком случае, Калистрат Григорьев составляет лицо вводное, и потому мы на нем останавливаться долее не будем. Лизавета, вопреки сделке, заключившей первый акт, продолжает-таки похаживать к барину; она плачет, жалуется, что ей «оченно опасно», что муж третью ночь не спит и все «глядит ей в лицо», и в заключение просит барина поговорить с Ананием лично. Чеглов разводит руками, говорит: «Послушай, не плачь, бога ради», и обещает принять меры. Призывают Анания: барин внушает ему, что связь его с Лизаветой была делом одной любви, что если он, Ананий, оскорблен, то это может очень просто разрешиться дуэлью, но что если он думает сделать жене своей какое-нибудь зло, то сделает это не иначе, как перешагнув через его, Чеглова, труп; затем Чеглов, пошатываясь от слишком частых возлияний Бахусу, уходит. Остаются на сцене Ананий и бурмистр и ругаются, причем последний обещается первому что-то «всучить». На этих ругательствах занавес опускается.
По крайнему нашему разумению, весь этот акт совершенно лишний. Он еще может быть терпим и понятен как отдельная живая картина, но отнюдь не как часть драмы. Все эти новые лица совершенно для драмы не нужны, все происходящие между ними разговоры не имеют с драмою ни малейшей связи, по крайней мере той связи, которая называется живою и органическою и которая в картине более или менее цельной одна только и может служить законным оправданием для введения тех или других подробностей. Правда, что личность Лизаветы, в первом акте очень сбитая и спутанная, здесь несколько выясняется, но это выяснение такого рода, что, пожалуй, лучше бы, если б его не было вовсе. Зритель хочет узнать мотивы, из которых вытекла несчастная страсть, он думает понять и объяснить их себе, надеется, наконец, набрести на что-нибудь человеческое, уловить хоть какой-нибудь луч, который вывел бы его из тюрьмы на свет вольный, и, к полному своему разочарованию, вынуждается автором (впрочем, помимо воли последнего) остановиться на том предположении, что вся эта драма есть не что иное, как дело рук Калистрата Григорьева. И невольным образом выражения «шкура ободранная», «псовка» и т. д., которыми так изобилует первый акт, остаются единственным мерилом для определения этой загадочной личности.
В третьем акте Ананий Яковлев, все еще не решаясь на крайность (он только бил жену, но это, как известно, еще не составляет крайности), уговаривает Лизавету «образумиться», жить, как «прочие добрые люди», но бабу, очевидно, обуял сам сатана, потому что она на все ласковые и разумные слова мужа отвечает бессмысленною брехотнею. Во время этих переговоров является бурмистр с выборными и объявляет Ананию господскую волю взять от него Лизавету и с ребенком. Выборные скроены по известной мерке; они говорят всякий невнятный вздор и сплошь оказываются дураками, подлецами и трусами. Лизавета уже готова идти за бурмистром и уходит только за перегородку, чтобы взять ребенка, но Ананий бежит вслед за нею. Через мгновенье раздается вопль и слышится голос Лизаветы: «Батюшки! убил младенца-то!» Ананий выбивает окно и убегает.
В этом акте есть действительно нечто похожее на драматическое движение, и характер Анания Яковлева получает, по временам, оттенки довольно человеческие. Но и здесь хорошие проблески совершенно утопают в куче разного ругательного мусора и бессмысленной, ничем не мотивированной Лизаветиной брехни. Во всяком случае, этот акт лучший и единственный, который вызывает в зрителе нечто похожее на мысль, хоть бы о том, что бывают же на свете такие разудивительные положения (оба положения здесь равно доказательны: и Лизаветы и Анания), что человек какою-то сверхъестественною силой устраняется от участия в своей собственной судьбе. Правда, что г. Писемский вводит зрителя в это положение путем чисто уголовным, но, судя по той закладке, которая положена в первых двух актах, мы и на это не имели права рассчитывать, а просто думали, что дело кончится тем, что Ананий кого ни на есть разразит, и разразит именно тем хладно-резонерским способом, к которому он так охотно прибегает в первом акте. Ну, а тут выходит, что убийство-то совершается словно как бы между делом. Стало быть, и на этом спасибо.
Третьим же актом второй раз оканчивается драма, потому что четвертое действие прибавлено единственно с целью выставить франта-чиновника из «новеньких», из сил выбивающегося, чтоб открыть в деле истину, и ограничивающего свое усердие разными пошлостями и гадостями. Тип этот нарисован широкой рукой, но увы! не мастерской; он носит на себе обычные недостатки манеры г. Писемского – крайнее однообразие тонов и происходящую отсюда утрировку. Ананий Яковлев добровольно является из бегов; следователь сажает его в острог; происходит сцена прощанья: бабы воют (Лизавета делает это почти в продолжение всего четвертого акта); занавес опускается в последний раз.
Таково содержание этой новой на сцене и не новой в печати драмы г. Писемского. Мы рассказали его со всеми подробностями, без всяких ужимок, которые могли бы подать повод к обвинению в преднамеренном искажении мысли автора. Содержание оказывается скудное, мотивы для драмы – ничтожные, развития драматического нет вовсе, характеры действующих лиц однообразны и монотонны, и притом вылеплены на скорую руку и из самого грубого материала. Одним словом, драма, не заключая в себе никаких элементов, из которых могла бы родиться действительная драматическая коллизия, не имеет никакой разумной причины существования, кроме воли автора.
Понятно, что даже наша снисходительная публика * , строгими мерами приученная терпеливо выносить * разных «Неровней» * да «Бедных племянниц», – и та пришла в какое-то недоумение от произведения г. Писемского и отнеслась к нему если не враждебно, то, во всяком случае, совершенно равнодушно…
Но есть в этом произведении еще одна сторона, которой мы до сих пор не касались, – это именно его так называемый реализм.
Русская публика видит в г. Писемском одного из самых сильных представителей реального направления в русской литературе и, между прочим, к числу произведений, порожденных этим направлением, относит и «Горькую судьбину». Что реализм есть действительно господствующее направление в нашей литературе – это совершенно справедливо. Она, эта бедная русская литература, столько времени питалась разными чуждыми, фальшивыми, отчасти даже и нечистыми соками, что время отрезвления настало наконец и для нее. Действуя под влиянием какого-то одуряющего чада, живя чужими страданиями, болея напускными болями, литература не могла не ужаснуться своей собственной пустоты и, убедившись в ней, весьма естественно пожелала освежиться. Попытки в этом смысле делались постоянно от времени до времени, но решительным образом освежение это начато Гоголем и с тех пор продолжается непрерывно. Гоголь положительно должен быть признан родоначальником этого нового, реального направления русской литературы; к нему, волею-неволею, примыкают все позднейшие писатели, какой бы оттенок ни представляли собой их произведения. Исключения в этом случае представляют лишь такие гениальные писатели, как Д. В. Григорович и П. И. Мельников, из коих первый доселе питается французским миросозерцанием, а последний – татарским * . Но дело в том, что мы иногда ошибочно понимаем тот смысл, который заключается в слове «реализм», и охотно соединяем с ним понятие о чем-то вроде грубого, механического списыванья с натуры, подобно тому как многие с понятием о материализме соединяют понятие о всякого рода физической сытости.
Это, однако ж, не так. Мы замечаем, что произведения реальной школы нам нравятся, возбуждают в нас участие, трогают нас и потрясают, и это одно уже служит достаточным доказательством, что в них есть нечто большее, нежели простое умение копировать. И действительно, ум человеческий с трудом удовлетворяется одною голою передачей внешних признаков; он останавливается на этих признаках только случайно, и притом лишь на самое короткое время. Везде, даже в самой ничтожной подробности, он допытывается того интимного смысла, той внутренней жизни, которые одни только и могут дать факту действительное значение и силу. Очевидно, что если б реализм не отвечал этой потребности, то он ни под каким видом не мог бы войти в искусство как основной и преобладающий его элемент.
И в самом деле, истинный реализм не только не потворствует исключительности и односторонности, но даже положительно враждебен им. Таким образом, имея в виду человека и дела его, он берет его со всеми его определениями, ибо все эти определения равно реальны,то есть равно законны и равно необходимы для объяснения человеческой личности. Обращаться с ними грубо, выставлять напоказ только те из них, которые сами по себе выдаются наиболее резко, он не имеет права, под опасением впасть в противоречие с самим собою, под опасением оказаться совершенно несостоятельным перед тем делом, которое, собственно, и составляет его задачу. Точно таким же образом, приступая к воспроизведению какого-либо факта, реализм не имеет права ни обойти молчанием его прошлое, ни отказаться от исследования (быть может, и гадательного, но тем не менее вполне естественного и необходимого) будущих судеб его, ибо это прошедшее и будущее хотя и закрыты для невооруженного глаза, но тем не менее совершенно настолько же реальны,как и настоящее. Конечно, очерчивая таким образом значение реализма в искусстве, мы очень хорошо понимаем, что рисуем идеал очень трудно достижимый, но дело не в том, в какой степени легко или трудно достается та или другая задача искусства, а в том, чтобы отыскать мерило, которое дало бы нам возможность с большею или меньшею безошибочностью обращаться с произведениями человеческой мысли, и отдавать себе отчет в том впечатлении, которое они на нас производят.
В смысле всего изложенного выше г. Писемский является реалистом весьма сомнительным, а рассматриваемая его драма едва ли может удовлетворять требованиям строгой критики * . Выведенные в ней лица не только не имеют в себе никаких задатков действительной жизненности, но скорее напоминают собой деревянные фигуры, к которым прибиты ярлыки с надписями: «бахвальство», «тупоумие», «пронырливость», «пагубная страсть к пьянству» и т. д. Самый язык является верным только со стороны внешних признаков, но ни силы, ни меткости, ни юмору, ни поэзии (какими, например, отличается язык простого русского человека в комедиях Островского, в рассказах Тургенева, Слепцова и друг.) в нем не найдется и следа. Поэтому г. Писемский совершенно напрасно причисляется к сонму реалистов. В произведениях его проглядывает какой-то темный саддукеизм * – и ничего более.
В заключение скажем несколько слов об исполнении пьесы на петербургской сцене. Положение актеров, а в особенности исполнителя роли Анания Яковлева, довольно тяжелое. В продолжение четырех актов тянуть все одну и ту же ноту, и притом ноту грубую и фальшивую, в продолжение целой пьесы не играть, а все, так сказать, приготовляться к игре – как хотите, а это ремесло совершенно несносное. Поэтому игры, собственно, никакой и не было, а было точное и неуклонное исполнение обязанностей. Г-н Васильев 2-й (Ананий Яковлев) отчеканивал свои ругательства в самом лучшем виде и говорил каким-то неестественным басом, г-жа Петрова (Лизавета) мучительно выла; прочие подругивались и подвывали с полным усердием. Неслыханные ругательства и бессмысленное вытье оглашали сцену в продолжение трех часов сряду, и зритель, вместо живого образа, вместо мысли, уносил из театра довольно значительный запас бранных, но неострых слов.








