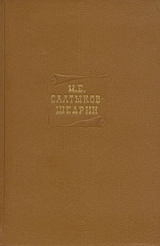
Текст книги "Том 16. Книга 1. Сказки. Пестрые письма"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
Письмо VIII *
Если бы не одно дельце, да дядя Захар Иваныч вовремя удержался, то был бы он воротилою, наравне с прочими.
Дядя Захар Иваныч Стрелов – старик старый. Родился он в 1812 году, во время француза, и, следовательно, теперь ему с лишком семьдесят лет. Однако он еще довольно проворно семенит ногами, да и руки у него еще цепкие, так что если бы попала в них взятка, то, мне кажется, он мог бы ее ухватить. Сверх того, он сохранил вкус к жизни, любит поесть и выпить, но лицо у него начинает уже походить на лицо младенца, который только что начал понимать зажженную свечу и радуется, когда ею перед глазами машут. Этому сходству много способствует лысина во всю голову, напоминающая голое колено. Новых порядков он не любит, не исключая даже нового обмундирования. В шкафу у него висит старинный путейский мундир, с расходящимися сзади фалдочками, и он, от времени до времени, надевает его, подходит к зеркалу, поиграет фалдами и вздохнет.
Во время коронации императора Николая * он был уже кадетом, а в начале тридцатых годов получил первый офицерский чин и в качестве инженера рыл канавы в Шлюшине [56]56
Народное название Шлиссельбурга. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть].
Хищником, в современном значении этого слова, он не был – в то время люди были для этого слишком бесхитростны, – но взятки брал более чем охотно и в казне черпал неупустительно. Уже в Шлюшине он изыскивал недурные, в этом смысле, случаи. Выроет, бывало, один кубик, а напишет два: один – кесарю, другой – себе. Скопивши таким образом сокровище, он не только сам жил в свое удовольствие, но и доставлял удовольствие другим. Съездит на лодке в Петербург, накупит конфект, апельсинов и угощает шлюшинских дам. Сверх того, был мастер устроивать вечеринки, пикники; словом сказать, был душою общества. Поэтому дамы говорили о нем: «точь-в-точь кавалергард!» Он же, придя в умиление от такой похвалы, сравнивал исправничиху с княгиней Шептаевой, а предводительшу – с графиней Подстаканниковой, которые, по его словам, составляли цвет тогдашнего петербургского бомонда и принимали его в своих салонах за то, что он им привозил в презент копченых ладожских сигов.
В сороковых годах он был уже штабс-капитан и почувствовал у себя в кармане такие деньги, что хоть подполковнику не стыдно. Сороковые годы, вообще, были странные годы. С одной стороны, Грановский, Белинский и их кружок * (обратившийся потом в стадо свиней), с другой стороны – Стрелов, крепостные дела и целая армия исправников и становых. Смешение человеческого образа с звериным. Кстати, в это время уже начал ходить слух, что Петербург намереваются соединить с Москвой железным путем. * Надеялись, что в Петербурге подешевеет икра. Дядя Захар нюхнул в воздухе и унюхал, что тут уже не шлюшинскими кубиками пахнет. Причислился к главному управлению и начал похаживать по коридорам, в надежде попасть на глаза власть имущему. Стрелов был подвижен, изворотлив и юрок, имел хорошенькое брюшко и веселую турнюру, что при тогдашней амуниции выходило очень мило. Станет дяденька передом – у него пупочек играет; станет задом – играют фалдочки; не удивительно, что зоркий глаз начальника, при первой же встрече в коридоре, заметил его.
– Кто этот расторопный офицер? – спросил генерал.
Назвали Стрелова.
– Мне такие люди нужны!
Объяснились. Начальник возложил его на лоно, подчиненный – так и прилип к лону. В скором времени Стрелов очутился в самом сердце железнодорожных вожделений, и как только почувствовал, что навстречу ему ходит лафа, то съездил в Муромские леса, набрал там шайку и держал атаманам такую речь:
– Вы будете у меня заместо подрядчиков и строителей. Если кто у вас спросит: кто ты таков? – то не отвечайте: я муромский разбойник, а говорите: десятник, поставщик и т. п. Слушайте теперь. Вот, примерно, перед вами рельс; сто́ит он, положим, хоть двадцать рублей, а мы запишем сорок. Если спросят: кто ставил? – говорите: разбойник… то, бишь, подрядчик Кудимыч. Вот и всё. А когда уйдут спрашиватели, мы возьмем да двадцать рублей отдадим кесарю, а из других двадцати десять возьму я себе за выдумку, а остальные десять – вам на вино. Любо ли?
– Любо! любо! – крикнули в ответ атаманы-молодцы.
– Или: вот вам глина, вот камень, шпалы, песок, рабочие силы, – продолжал дядя, припоминая строительные элементы. – И везде одна половина – кесарева, другая – наша. Любо ли?
– Любо! любо!
И деятельность по дороге закипела. Дядя Захар бегал и ездил днем по работам, а ночью метал разбойникам банк. Денег появилась такая масса, что не знали, куда девать. Выписывали из Петербурга прелестниц и где-нибудь в селе Едрове устроивали афинские вечера. На одном таком вечере цыганку Стешку исщипали так, что для того, чтоб замять дело, потребовалось отдать табору не меньше двадцати тысяч рублей. Поливали друг друга шампанским, поили шампанским реку, загоняли на станции лошадей, чтобы побывать вечером в Александринке, с риском попасть на гауптвахту, или чтоб какой-нибудь крале, поселенной в Едрове с специальною целью увеселять муромских разбойников, доставить букет. Словом сказать, груды денег извлекались из недр казначейских кладовых, распределялись по карманам и исчезали неведомо куда.
В самый разгар этого распутства Стрелов женился. Он уже настолько имел в ломбарде, что мог без боязни глядеть вперед. Партия ему представилась прекраснейшая, даже знаменитая. России, лет пятнадцать тому назад, подчинился один из касимовских князей, Абдулка. Но искренности его подчинения не сразу поверили, а посадили в кибитку и приказали возить взад и вперед по Касимовскому уезду, покуда он не познает света истинной веры. Разумеется, он познал очень скоро; его окрестили, наименовали Михаилом и оставили за ним княжеский титул с фамилией Мамалыгина. Тогда же окрестили его дочь, назвав Надеждой и поместив в Екатерининский институт. Там ее выпоили, но училась она плохо, что не помешало ей в свое время прийти в совершенный возраст и сделаться невестой. Вот на нее-то и обратил взоры дядя Захар Иваныч. С месяц времени кормил он Абдулку в палкинском трактире шашлыком, а будущую невесту – шепталой, и наконец получил согласие. Ему лестно было ездить с визитами с женой, у которой на карточках было напечатано: «Надежда Михайловна Стрелова, рожденная княжна Мамалыгина». При этом он намекал, что жена его происходит по прямой линии от Мехмеда-Кула, «сибирских стран богатыря», который первый воскликнул: «Нет, лучше смерть, чем жизнь поносна!» * , а за ним этот возглас стали повторять и прочие армии и флоты.
Теперь бы майору Стрелову остепениться и начать бы жить да поживать с капитальцем и молодой женой, но его лукавый попутал. Дорога велась по ровному месту, а он рапортовал, что срыл гору, и потребовал сверхсметного назначения. На его несчастие, место это было хорошо знакомо, и потому рапорт его произвел изумление. Любостяжание его заметили где-то очень высоко и послали фельдъегеря… Фельдъегерь, вместо двадцати четырех часов, судил всего двадцать четыре минуты, посадил Стрелова в тележку и привез в Петербург. Покуда он сидел в кутузке и мыкался по мытарствам, Надежда Михайловна отчаянно вопияла:
– Неужто я буду солдаткой?
Но дело кончилось благополучнее, нежели можно было ожидать. Начальство вспомнило прежние заслуги майора (он несколько таких гор прежде срыл) и велело ему подать в отставку, вместо того чтоб забрить лоб.
Стрелов поселился безвыездно в деревне и считал деньги. Очень редко он наезжал в Петербург, и именно только в тех случаях, о которых будет упомянуто ниже. Жена его, от скуки, народила груду детей, которые впоследствии все сделались инженерами. Наступило полное одиночество, которое еще более отравлялось воспоминаниями о прошлых блестящих днях.
– И черт меня попутал, – жаловался майор, раскладывая пасьянс, – в другом месте две горы мог бы срыть, а тут из-за одной гору́шки пропадаю!
Он видел окончание монументальной дороги и строил воздушные за́мки. Теперь он был бы уж полковником и, наверное, заведовал бы дистанцией. Некоторое время он вел переписку с прежними друзьями, посылал им откормленных индюков, просил похлопотать, но постоянно получал в ответ: «Ничего не поделаешь!» Наконец друзья совсем замолчали, и он мало-помалу окунулся на самое дно реки забвения.
Но вот в воздухе почуялись новые веяния. Сначала радовались, потом стали тужить. Наконец Подхалимов открыл эпоху упразднения хищничества и торжества покаяния…
Повторяю: дядя Захар не был хищником в современном значении этого слова. В его время было в моде казнокрадство и взяточничество, и дядя следовал общей моде. Хищничество же народилось позднее, совершенно неожиданно, и не устранило ни воровства, ни взяточничества (на всякий случай), а только презирало их. Да и нельзя было не презирать, потому что с этими явлениями сопрягались разные постыдные поступки. Тут встречались и мертвые тела, и подчистки, и преднамеренные описки, и взлом сундуков. Все это можно было на картинке написать. В хищничестве, напротив того, все так тонко, чисто и даже благородно, что о картинках и речи не может быть.
Но и в хищничестве имеются подразделения. Бывает хищничество простое, и бывает сложное. В первом можно указать на действующих лиц и на претерпевших. Сверх того, оно до известной степени наказуемо, и состав его можно без труда определить. Разнствует оно от воровства тем, что пошло далее сферы становых приставов и обставило себя благороднее. Иногда оно надевает на себя даже личину государственного интереса: заселение отдаленного края, культура, обрусение и т. * д. В сложном хищничестве действующих лиц совсем нет, и только приходится удивляться, каким образом человек, которого, незадолго перед сим, знали без штанов, в настоящую минуту ворочает миллионами. Сложное хищничество есть порядок вещей, ничего больше.
Дядя с грехом пополам мог додуматься до простого хищничества; однако и тут он понимал, что без связей ничего не поделаешь. Чтоб захватить землицы по гривеннику за десятину, нужно иметь «руку», уметь угадывать момент, кланяться, просить, что́ требовало времени и изнурительных хождений. Что же касается до сложного хищничества, то он положительно его не постигал и только, наравне с другими простецами, ахал. – Без штанов знал! без штанов! – восклицал он, – а теперь в соболях ездит! Лошади не лошади, экипаж не экипаж! Занимает целый дворец, задает банкеты; во всех комнатах картины с голыми женщинами! Жену – купил, а потом предоставил, а сам двух француженок содержит! Ну, скажите на милость, зачем ему понадобились две? И каким образом все это случилось?
Он забывал при этом и свое прошлое, и свои теперешние вожделения, и даже то, что он был бы несказанно счастлив, если б очутился на месте этого голоштанника, который теперь в соболях ходит.
Тем не менее жажда хоть что-нибудь урвать заставляла его довольно чутко прислушиваться к новым веяниям и от времени до времени посещать Петербург.
Что такое веяние? это – одно из выражений той паскудной терминологии, которая получила у нас право гражданственности тридцать лет тому назад. Означает оно: вот что нужно делать, чтоб как можно больше напакостить.
Вся эта терминология есть плод личной алчности и совершенного отсутствия представлений об интересе общественном. Здесь нет речи ни об отечестве, ни о согражданах, ни об общем благе. Одна обнаженная алчность – только и всего.
Таких веяний в нашем обществе было много, но я намечу лишь главнейшие. Во-первых, веяние радостных ожиданий; во-вторых, веяние горестных утрат; в-третьих, веяние хищничества; в-четвертых, веяние сапогов всмятку, и наконец…
В первый раз, после многих лет воздержания, дядя Захар посетил Петербург в эпоху радостных ожиданий. Тогда говорили: земля наша обильна; и на поверхности, и в недрах – всего у нас довольно, и для себя, и для Европы. Европа гниет и переживает себя, а мы возрождаемся. До сих пор мы жили как слепые, по милости крепостного права, а теперь вольный труд все наши богатства откроет. В особенности отличался по части пророчеств и предвидений публицист Кокорев * , который даже в кучах навоза открывал золотые россыпи.
Хорошее это было время, светлое, хотя, как потом оказалось, не особенно умное. Но кто же мог думать, что из всех этих чаяний ничего не выйдет путного, кроме переворачивания давно истлевшего хлама? Многие, скрывавшиеся до тех пор в заветных кубышках, миллионы увидели тогда свет, побывали в «Обществе жизненных продуктов», в «Сельском хозяине» и проч. – и пропали неводомо куда. Где они теперь? Не может же быть, чтоб не нашли себе пристанища и хоть кого-нибудь да не оплодотворили. Не тогда ли было положено начало тому грандиозному финансовому распутству, которое впоследствии дало такой пышный цвет?
То было время севооборотов, покупки машин, продажи выкупных свидетельств * и, преимущественно, трактирных безобразий. Денег появилось множество; почти вся Россия была выменена на выкупные свидетельства. Явились ростовщики и кровопийцы, которые скупали эти свидетельства за грош. Но владельцы не обращали на это внимания, в надежде, что вольный труд вознаградит сторицею. – Видели вы жнею, которую я купил у Бутенопа? Приезжайте, батюшка, посмотрите, как чисто работает! А моя сеноворошилка? А мои плужки? Прелесть! – раздавалось из края в край, – теперь мне рабочих на две трети меньше надо будет.
А через неделю жнея и сеноворошилка лежали в сарае поломанные, и баба по-старому копошилась в море ржи, которое сгоряча не по разуму насеяли.
Крестьянин скоро раскусил помещика и втихомолку посмеивался. Помещик, ни к чему не приготовленный, ленивый и беспечный, способен был только питаться надеждами и зря бросать деньги. Он не понимал, что для того, чтоб извлекать из сельского хозяйства двугривенные, нужно вставать с зарею, целые дни бродить по полю и, придя вечером домой, усчитывать себя.
Впрочем, некоторые (а в том числе и дядя Захар) спохватились и пустили в ход «прижимку». Отрезывали хитросплетенные наделы, обработывали землю исполу, донимали крестьян штрафами и хождением по судам и наконец занялись ростовщичеством.
Но вообще, несмотря на чаяния и упования, общий голос был: всего у нас довольно; и несметные сокровища в настоящем, и светлые перспективы в будущем, только людей нет * . Публицист Кокорев говорил это громко, советовал пустить в ход добрую чарку вина, и цензура ему в том не препятствовала.
Дядя Захар подслушал эти жалобы и явился на клич.
Разумеется, он остановился у меня и не без уверенности объявил:
– Теперь мое дело выигранное. Нужны люди, а я человек бывалый, опытный и не без царя в голове, чего еще?
– Но ведь вы, дядя, не из сочувствующих? – возразил я.
– Что ты, что ты! Христос с тобой! Я, брат, всему сочувствую. Я и адрес из первых подписал. Приехал в ту пору в собрание губернатор: «Господа, говорит, надо доказать…» Ну, я и доказал: обмакнул перо в чернильницу, дай бог счастливо!
– Да, но с мужичками-то вы все-таки не очень охотно расстались.
– Я-то? да я мужичка даже очень люблю. Дай только мне…
Он выспросил у меня, перед кем и в каких канцеляриях предстоят хождения, и на другой же день начались поиски. Он ходатайствовал неутомимо, с утра до ночи, возвращался домой измученный и часто разочарованный, но все-таки надеющийся.
– Вот говорили, что людей нет! – восклицал он, – а их тут, куда ни придешь, труба нетолченая!
Счастие, однако же, по-видимому, улыбнулось ему. Прошедшее его, за общей суматохой, было забыто; люди стояли у дела совсем новые, и перед ними предстал тоже новый человек, свежий деревенский коренник, с чувством говоривший о меньшем брате. Его выслушивали с видимым интересом, расспрашивали, сколько может сжать в день баба, сколько может в день скосить, вспахать и забороновать мужик, существуют ли у крестьян огороды, конопляники, отхожие промыслы, ремесла, сам-сколько родится рожь, овес, ячмень, сколько требуется муки в год на продовольствие одного едока и т. д. Он отвечал на вопросы бойко, но не спеша. Докладывал, что если мужик чувствует в чем-нибудь недостатки, то этому виной крепостное право; что ежели нет травосеяния, то этому виной тоже крепостное право; что ежели вообще сельское хозяйство в упадке, то и тут благодаря крепостному праву. При этом присовокуплял, что он уже в то время мечтал, когда мечтания строго воспрещались… Словом сказать, отрекомендовал себя с самой отрадной стороны.
Но тут он увидел вещий сон.
Я помню, он пришел к чаю пасмурный и задумчивый. Едва дотронулся до калача и долгое время сидел молча и барабанил по столу пальцами. На вопросы мои отвечал односложно и невнятно.
– Что с вами, дядя? – наконец спросил я его.
– Сон видел, голубчик!
– Неужели сон может так встревожить?
– Сон сну рознь; иной и может встревожить. Представь себе: вижу я во сне громадную стаю собак, и я будто бы между ними в собачьем виде. Только прочие собаки все об четырех ногах, а у меня будто бы только три, а четвертая оторвана. И будто бы я за стаей никак поспешить не могу, а ковыляю сзади всех… Вот!
– Так что же такое?
– А то и есть, что не добиться мне ничего: что-нибудь да случится.
– Эх, дядя, никто как бог! Может быть, и на трех ногах вы скорее добежите, нежели другие на четырех.
– Дай бог, дай бог! Но сомнительно. Поверь, что такие сны недаром. Уехать, видно, мне обратно в Муром, несолоно хлебавши.
Прошло еще несколько недель, а дядя не только ничего не терял в глазах начальства, а, напротив, все больше и больше нравился. Он уже успел убедить, что как только наступит вольный труд, то мы одним овсом Европу победим. Позабыв о вещем сне, он ходил веселый и радостный, ел с аппетитом, пил в меру, вечером ездил на Минералки и перемигивался с мамзель Сузеттой. Наконец однажды пришел к обеду домой и с торжеством объявил:
– Ну, теперь можешь меня поздравить! Сегодня я получил верное слово…
И вдруг он поперхнулся: на столе лежал адресованный на его имя пакет.
В пакете было приглашение пожаловать для личных объяснений.
– Это вы срыли гору на ровном месте? – спросил его начальник.
Дядя стукнул каблуками и отретировался.
Кто-то шепнул…
Возвратившись домой, дядя выпил сряду несколько рюмок водки и поскрипел зубами, а дня через два выехал в Муром.
Увы! он, наверное, воспрянул бы духом, если б знал, что в ту же ночь я видел продолжение его вещего сна. Снилось мне: добежала стая собак до пирога и в колебании остановилась: одни предлагали сейчас же разнести пирог на части, другие пытались отстаивать и защищать. Но защитники делали свое дело так неуверенно и неумело, что нападающие без труда одолели. Пирог был разорван мгновенно. Затем собаки смеряли друг друга глазами и стали грызться…
Польский мятеж дядя Захар как-то пропустил и догадался только тогда, когда дело подошло к концу и началось обрусение. В это же время и в Петербурге что-то замутилось: начались пожары, покушения, допросы, судьбища, высылки; явились корни и нити. * Кликнули клич. Обрусители, задешево получившие куски конфискованных земель, уже были готовы. Они отчасти продали земли, отчасти сдали их в аренду жидам, леса законтрактовали на сруб и первые явились на клич. Разумеется, это были избранники. Вслед за ними явился и майор Стрелов.
На этот раз он остановился не у меня, а где-то в номерах на Мещанской. Должно быть, он и меня заподозрил. Немедленно явился он к генералу и имел с ним непродолжительное объяснение.
– Прежде чем удовлетворить вашей просьбе, я требую, чтобы вы были вполне откровенны, – сказал генерал, проницательным оком взглянув на просителя.
Дядя смутился и совсем машинально ответил:
– Срыл гору…
– На ровном месте?
– Точно так, вашество! – выпалил дядя.
– Это нехорошо; казну следует беречь, она царская. Но я вам не судья и надеюсь, что с тех пор вы исправились. Мне люди нужны, и именно люди, готовые загладить… Василий Андреич! – обратился он к секретарю, – запишите майора Стрелова. Вам скажут, майор, что нужно делать. Кстати: отчего вы не явились в Западный край?
– В деревне жил, вашество, не поспел, как по вашему манию все уже пришло в настоящий вид…
– Жаль-с. Мне и тогда нужны были люди.
Стрелов бросился вперед с очевидным намерением поцеловать генерала в плечико, но генерал уклонился.
Ах, какое это было время! Мрачное, наполненное привиденьями и каким-то удушливым безмолвием. Улицы были почти пусты. Немногие встречавшиеся люди смотрели испуганно, ничего не понимая. В окнах домов не было видно по вечерам огней, точно всё живущее куда-то спряталось. Приезжавшие с дач спешили скорее окончить дела и уезжали обратно. По ночам слышались оклики дворников * и бряцание оружия по тротуарам. Ночные посещения * производились наудачу, случайно, без малейшей системы. Больше всего пострадали либералы, так как предполагалось в них начало и корень всех последующих бед. Кто мог сжечь старую переписку – сжег; дорогие имена, дорогие речи – все приносилось в жертву. Кто не успевал сжечь или жаль было расстаться с дорогими собеседниками, тот впоследствии горько раскаивался. Ужасно было, ужасно! Но необходимо… – Нельзя-с, – говорили оправдавшимся, – вы, положим, оказались жертвой ошибки, но, согласитесь, без этого нельзя. Такое теперь время, что нужно жертвовать собою.
И «жертвы ошибок» уходили домой утешенные.
Дядя действовал так усердно, что вскоре обратил на себя внимание; он действительно кого-то «поймал» и, во всяком случае, каждый вечер таскал вороха бумаг в подлежащую канцелярию. Его переименовали в штатский чин и обещали подумать об нем.
– Мне бы, вашество, хоть в губернию! – умолял он, – жена, воспитание детей…
– Да, но покамест и здесь дела много; прежде надо главное кончить; надо зло вырвать с корнем, начавши с самого начала, с заводчиков. Никого не жалейте, хотя бы… Главное зло – либералы; надо сорвать с них личину, потому что они заразили даже правящие классы. Долгогривые – эти уж потом явились… * это – жертвы орудия! От либералов все пошло; если б не они, государство наше было бы сильно и грозно по-прежнему, и все мы были бы благополучны…
– Точно так, вашество!
– Гм… да… но, надеюсь, что вы на будущее время гор на ровных местах рыть не будете? – пошутил генерал с ангельской улыбкой.
– Никак нет-с, вашество!
– Ну-с, до свидания. Сегодня вам предстоит трудовая ночь. Надеюсь!
Я числился тогда в либералах и проводил время в самом деморализирующем страхе. Ночью за входною дверью и за стеною соседней квартиры чудились шорохи. Еще минута – и звонок… пожалуйте! На дачу я не поехал. Такая тоска сосала сердце, что, казалось, никуда не убежишь. Чтоб заглушить ее, я ездил по вечерам в «Демидрон» и, возвращаясь домой, подъезжал к воротам в гнетущем смущении. Даже дворники заметили это, и так как я совершенно ни с того ни с сего увеличил им помесячную подачку, то они ободряли меня, говоря: «Ничего, бог милостив!»
«Как-то они меня аттестуют в квартале? – думалось мне. – Дворник! шутка сказать!»
Однако для меня все обошлось благополучно; я подозревал, что тут помог мне дядя. Мало-помалу и кругом стихло. Ни корней, ни нитей не было найдено, а обнаружился полный сумбур и совершенная общественная несостоятельность. Много оказалось вздорного хлама, а главное, испуга, испуга – без конца. Наконец наступила осень, и все вздохнули. В это же время, одним утром, появился у меня и дядя Захар.
– Дядя! давно вы здесь? – воскликнул я в умилении.
– Давно, месяца с три. У тебя не остановился, потому что… ну, да ты сам отлично понимаешь, почему…
– Понимаю… Ах, дядя, дядя! Что же вы делали в эти три месяца?
– А поступал, как следует всякому сыну отечества поступать. Сколько, братец, я этих долгогривых да стрижек перетаскал… страсть! Но главное – либералы. От них все зло. Я, душа моя, помню, как они меня в ту пору травили.
– Ну, уж и травили! ведь у всех свои убеждения. Да и где же кого-нибудь травить – либералам. Даже в лучшие времена их травили, а не они.
– Нет, это атта́нде. Я помню, как «он» меня * на одну доску с канальей-поваром ставил. И я стою, и повар стоит, а он… судит. Я, голубчик, тогда два дня со всей семьей без обеда сидел, а потом, вместо повара, судомойку нашли.
– Да ведь это было сделано по закону?
– Какой закон? – книжка какая-то. Неужто закон только в пользу хамов? – нет, закон – так закон, а кроме того, и Священное писание: рабы да повинуются – вот это закон!
Дядя помолчал с минуту и потом с азартом продолжал: – А сколько твоя тетя в то время вытерпела! – представь себе, никто не кланяется! Да этого мало: как ни придешь, в лакейскую ли, в девичью ли, – нет никого! «Где ты, шельма, была?» – «Нужно же мне погулять, человек тоже…» Человек! Она – человек! мерзавка! А «он» ездит по своему участку и популярничает. «Прасковья Ивановна! здравствуйте!» – Это Пашке-то! И ведь ни разу он ко мне обедать не заехал: всё на постоялый двор, а тут, кстати, и распивочная продажа… Пришлет мне повестку – и я туда же беги! Наслякощено, нагажено, в соседней комнате мужичье чай и водку пьет – срам! А он сидит и улыбается, и Прасковья Ивановна улыбается. Ах, что было, что было! Тяжело, мой друг, и до сих пор тяжело!
Дядя снова смолк и скорбно склонил голову под гнетом горьких воспоминаний.
– А вы вещих снов теперь не видите, дядя? – спросил я, чтоб переменить разговор.
– Нет, я нынче вообще снов не вижу. Теперь мое дело верное. И я поревновал, и за меня поревнуют. Не только обещали, но даже верное слово дали. И знаешь, куда? – в вашу губернию! в самое что ни на есть гнездо… *
– Ну, дай вам бог!
Дядя позавтракал у меня и ушел. Недели две я опять не видал его, как вдруг он приходит, расстроенный и смущенный.
– Опять этот сон! – вымолвил он глухим голосом.
– Дядя! ведь это несносно! Вы намеренно расстраиваете себя! – разуверял я его.
– Вот увидишь!
Действительно, конкурентов на злачные места явилось такое множество, что всех «достойных» было немыслимо удовлетворить. Пришлось принимать в соображение сторонние ходатайства. За одного просила графиня Шассе́-Круазе́, за другого – баронесса Думкопф, за третьего – сам князь Сампантре́, за четвертого – железнодорожник Губошлепов и т. д. Среди этой общей травли дядя был незаметно оттерт.
Он явился ко мне и бросил на стол бумагу:
– На, прочти!
В бумаге было изображено, что в настоящую минуту для коллежского советника Стрелова подходящего места в виду не имеется; но что заслуги его оценены по достоинству, и, вероятно, в неотдаленном будущем одна из первых вакансий будет предоставлена ему.
– Да, держи карман! Нашли дурака! – воскликнул с горечью дядя, – что же, по-ихнему, я должен пропекаться в Петербурге и ждать?.. кукиш с маслом! Жить целый год на Мещанской, в протухлых номерах, и каждый день шататься по канцеляриям… мерси боку! И без того кучу денег прожил, а теперь и еще. Нет, зло не в либералах, а вот в этих Сампантре́ да Шассе́-Круазе́… Довольно с меня. Я не ропщу, но… Видел к себе милость генерала – ну, и будет! Надежду Михайловну жаль; она, бедняжка, думала хоть в губернии повеселиться – и что ж!
Дядя опять надолго исчез, сообщив, однако, канцелярии свой адрес. На всякий случай.
К сожалению, на этот раз я продолжения вещего сна не видал.
В третий раз дядя приехал в самый разгар железнодорожной свалки. *
Деятели того времени разделялись на два разряда: на званых, знавших все ходы и выходы, и на незваных, явившихся внезапно, сбоку припека. Последние принадлежали к числу деревенских жантильомов, проживших выкупные свидетельства, продавших «лишние земли» и жаждавших поправиться. В особенности выделялись те из них, которые имели в Петербурге так называемую «руку»: старых сослуживцев, родственников и т. д.
– А что, не попытать ли от Углича до Пошехонья дорожку провести? – мечтали они, – мне тетя Анюта отхлопочет!
И жены принимали участие в этих мечтаниях и усиленно поощряли их.
– Конечно, поезжай! – говорили они, – надо пользоваться; тетя Анюта теперь – сила!
Пускались в ход последние гроши. Петербургское население значительно увеличилось от наплыва искателей; гостиницы были полны. Жаждущие наживы сидели по номерам, ели шатобрианы * и ожидали, предварительно исколесив весь город. Множество празднолюбцев ходило из дома в дом, изумляя тетенек и кузин неожиданностью проектов и повсюду суля участие в учредительских паях. Некоторые даже успевали. Проекты их, конечно, так и остались проектами, но тетя Анюта помогала пристегнуться к какому-нибудь другому предприятию, и благодаря ее назойливости празднолюбец уезжал домой не с пустыми руками.
Многие прожектеры из соседей по деревне и ко мне тогда захаживали. Одни – с готовыми проектами, другие – так, послушать, что умные люди говорят. Но из последних редкие воздерживались. Посидят, поговорят, выпьют, закусят – и вдруг:
– А что, ежели соединить Тверь с Калугою железным путем? Ведь препитательная вышла бы дорожка!
Присядут к столу – и через полчаса проект готов, благо разграфленная бумага для статистических сведений продавалась в изобилии. Тотчас же все графы наполнялись словно волшебством: сапоги, сапоги, сапоги! А из Корчевы – лапти.
Однажды, около одиннадцати часов утра, в квартире моей раздался звонок. Звонили громко, самоуверенно, как звонят люди, у которых в кармане верный проект.
Оказался дядя.
– Приехали? – спросил я совсем некстати.
– Да, надоело хлопать глазами да облизываться. Ведь Губошлепов-то у меня десятником на дороге служил, а теперь, поди, какие куски рвет.
– Стало быть, проектец привезли?
– Так, лёгонький. Но в общей государственной сети необходимый. От Нижнего в Харьков, а может быть, и дальше, коли бог поможет. В Бахмут, Кременчуг – мало ли мест найдется!
– Вот как!
– Да, это будет – дорога! Надо тебе сказать, что теперь главный торговый центр не в Москве и не в Петербурге, а в Нижнем. Там слияние Оки с Волгой, двух важнейших водных артерий; там ярмарка, где встречаются отдаленный Восток с отдаленным Западом, где можно найти все, чего только пожелаешь, от ювелирного украшения, от тончайшей кашемировой шали и изысканного наряда, которому позавидует любая блестящая красавица, до лаптя, которого вожделеет мужик. Оттуда наконец сибирский тракт. Скоро ли мы дождемся сибирской железной дороги, а оттуда всё везут да везут. Куда? – в Москву, в Петербург? – Но там и без того своего довольно. Напротив того, Малороссия, с Харьковом в центре, даже в гвозде нуждается. Вот самый естественный исток. А в Харькове, в свою очередь, хлебные богатства, сало, шерсть – опять исток на север, где в этом нуждаются.
– Скажите на милость! – изумился я.
– А при этом дорога пройдет через мое имение; стало быть, и я останусь не без выгоды. Я, брат, умненько все это подстроил. Сначала Горбатов, потом Муром (питательная ветвь в Арзамас), Темников, Шацк, Спасск-Тамбовский (питательная ветвь в Ардатов), Моршанск… А оттуда сделаю в Харьков. Кроме отправных пунктов, сколько тут по дороге добра найдется!..








