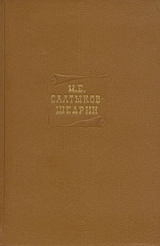
Текст книги "Том 16. Книга 1. Сказки. Пестрые письма"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
Соседи *
В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семенычем», а бедного – просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый – даже отличный. Как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств * очень благородно мыслил. «Это, говорит, с моей стороны лепта. Другой, говорит, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно – это уж свинство. А я еще ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но, взамен того, производил ценности. И тоже говорил: «Это с моей стороны лепта».
Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым – всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать.
– У тебя завтра с чем щи? – спросит Иван Богатый.
– С пу́стом, – ответит Иван Бедный.
– А у меня с убоиной.
Зевнет Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.
– Чудно́ на свете деется, – молвит он, – который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит – у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?
– И я давно думаю: «С чего бы это?» – да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привез дров – смотришь, навоз возить или с сохой выезжать пора пришла. Так, между делом, мысли-то и уходят.
– Надо бы, однако, нам это дело рассудить.
– И я говорю: надо бы.
Зевнет и Иван Бедный с своей стороны, перекрестит рот, пойдет спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется – смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил: убоины, ради праздника, во́ щи прислал.
В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся.
– Веришь ли, – молвит Иван Богатый, – и наяву, и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен!
– И на этом спасибо, – ответит Иван Бедный.
– Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты… не выйди-ка ты вовремя с сохой – пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?
– Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду.
– Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю, – ни боже мой! Я только об одном и тужу: «Господи! как бы так сделать, чтобы Ивану Бедному хорошо было?! Чтобы и я – свою порцию, и он – свою порцию».
– И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это, действительно, что кабы не добродетель ваша – сидеть бы мне праздник на тюре на одной…
– Что́ ты! что́ ты! разве я об том! Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался: «Пойду, мол, и отдам полимения нищим!» И отдавал. И что же! Сегодня я отдал полимения, а на завтра проснусь – у меня, вместо убылой-то половины, целых три четверти опять объявилось.
– Значит, с процентом…
– Ничего, братец, не поделаешь. Я – от денег, а деньги – ко мне. Я бедному пригоршню, а мне, вместо одной-то, неведомо откуда, две. Вот ведь чудо какое!
Наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый все-таки думу думает: «Что́ бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щи с убоиной были?» Думает-думает, да и выдумает. – Слушай-ка, миляга! – скажет, – теперь уж недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя, по силе возможности, награжу, – словно бы ты и взаправду работал.
И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработал».
Долго ли, коротко̀ ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду невтерпеж ему стало. «Пойду, говорит, к самому На́большему, паду перед ним и скажу: «Ты у нас око царево! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну версту поверстать. Чтобы с него рекрут – и с меня рекрут, с него подвода – и с меня подвода, с его десятины грош – и с моей десятины грош. А души чтобы и его, и моя от акциза одинаково свободны были!»
И как сказал, так и сделал. Пришел к Набольшему, пал перед ним и объяснил свое горе. И Набольший за это Ивана Богатого похвалил. Сказал ему: «Исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивашку Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы подданные в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят!» Сказал это Набольший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы, в виде опыта, обоим Иванам суд равный был, и дани равные, а того бы, как прежде было: один тяготы несет, а другой песенки поет – впредь чтобы не было.
Воротился Иван Богатый в свое село, земли под собою от радости не слышит.
– Вот, друг сердешный, – говорит он Ивану Бедному, – своротил я, по милости начальнической, с души моей камень тяжелый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, никакой вольготы не будет. С тебя рекрут – и с меня рекрут, с тебя подвода – и с меня подвода, с твоей десятины грош – и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки во щах ежеде́нь убоина будет!
Сказал это Иван Богатый, а сам, в надежде славы и добра, уехал на теплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге.
Был в Вестфалии – ел вестфальскую ветчину; был в Страсбурге – ел страсбургские пироги; в Бордо был – пил бордоское вино; наконец приехал в Париж – все вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насилу ноги унес. И все время об Иване Бедном думал: «То-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щеки уписывает!»
А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник * , а завтра, коли бог вёдрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак – это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жнет, и боронует, и сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли – и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и все-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех пор, как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.
– Незадача нам, – говорил бедняга жене, – вот и сравняли меня, в виде опыта, в тягостях с Иваном Богатым, а мы все при прежнем интересе находимся. Живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись.
Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабак прибытки свои таскает. «Неужели он так закоренел? неужели он неисправим?» – восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мот, не расточитель, а хозяин радетельный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь гнедая покалеченная – 1; корова бурая, с подпалиной – 1; овца – 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки – и те прислонены к забору стоят, хотя, по летнему времени, надобности в них нет и, стало быть, можно было бы, без ущерба для хозяйства, их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу – и там все налицо, только с крыши местами солома повыдергана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов недостало, так из прелой соломы резку для скота готовили.
Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной, задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить все свое право на жизнь, но, по какому-то горькому недоразумению, осуществлял его лишь в самой недостаточной степени.
– Господи! да с чего ж это? – тужил Иван Богатый, – вот и поравняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и все-таки пользы для тебя не предвидится – с чего бы?
– Я и сам думаю: «С чего бы?» – уныло откликнулся Иван Бедный.
Стал Иван Богатый умом раскидывать и, разумеется, нашел причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество – равнодушное; частные люди – всякий об себе промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.
Сказано – сделано. Собрал Иван Семеныч Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общественного и частного почина… Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями метал; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспеяния и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя зараньше обрекают на постепенное вымирание и конечную погибель. Словом сказать, все, что в Азбуке-Копейке вычитал, все так и выложил пред слушателями.
Результат превзошел все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот темный люд. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, называли героем. И в заключение единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество Доброхотной Копейки.
В тот же день, по числу приписанных к селу душ, в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал неимущим сто экземпляров Азбуки-Копейки, сказав: «Читайте, други! тут все есть, что для вас нужно!»
Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям самопомощи и содействию Азбуки-Копейки, несомненно должны были принести плод сторицею.
Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге – страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он, по окончании срока, воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.
Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый; на столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна, по случаю праздника, подлила, для запаха, ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришел чужак и не потребовал сиротской доли.
– С чего бы это? – с горечью, почти с безнадежностью, воскликнул Иван Богатый.
– И я говорю: «С чего бы это?» – по привычке отозвался Иван Бедный.
Опять начались предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого; но как ни всесторонне рассматривали собеседники удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но рассудив, убедился, что есть пирог с начинкою – вовсе не такая трудная наука, чтоб для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же абцуга такие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе зарок – никогда ни до чего не докапываться. Наконец решились на последнее средство: обратиться за разъяснением к местному мудрецу и филозо́фу Ивану Простофиле.
Простофиля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который, по случаю убожества, ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп Семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бобах развести и чудеса в решете показать. Посулит Простофиля красного петуха * – глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо – глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись, а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.
И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос: «С чего бы?» – Простофиля тотчас же, нимало не задумываясь, ответил:
– Оттого, что в планту́ так значится.
Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой. Но Богатый Иван решительно недоумевал.
– Плант такой есть, – пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством, – и в оном планту значится: живет Иван Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богачество-то и течет все мимо да скрозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стёка, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богачеством – тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера пол-имения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты – от денег, а деньги – к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь, везде богачество лежит. Вот он каков, этот плант. И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом – ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значится.
Здравомысленный заяц *
Хоть и обыкновенный это был заяц, а преумный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору. Притаится под кустом, чтоб не видать его было, и сам с собой разговаривает.
– Всякому, говорит, зверю свое житье предоставлено. Волку – волчье, льву – львиное, зайцу – заячье. Доволен ты или недоволен своим житьем, никто тебя не спрашивает: живи, только и всего. Нашего брата, зайца, например, все едят – кажется, имели бы мы основание на сие претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы назваться правильною. Во-первых, кто ест, тот знает, зачем и почему ест; а во-вторых, если бы мы и правильно претендовали, от этого нас есть не перестанут. Сверх препорции все равно не будут есть, а сколько надо – непременно съедят. Статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые…
На этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в беспамятство. Но выспится и опять примется здраво рассуждать.
– Едят нас, едят, а мы, зайцы, что год, то больше плодимся. Стало быть, и нам пальца в рот не клади. И летом, и зимой, посмотри на поляну – то и дело, что зайцы вдоль и поперек сигают. Заберемся мы в капустники или в овсы, или около молодых яблонь пристроимся, – пожалуй, и от нашего брата солоно мужичку придется. Да, и за нами, за зайцами, глаз да глаз нужен. Недаром статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые…
Новый сон, новые пробуждения, новые здравые мысли. Без конца заяц умную свою канитель разводил; и так прикинет, и этак смекнет – и все у него хорошо выходило. И что всего дороже – ни карьеры он при этом в виду не имел, ни перед начальством оригинальностью взглядов блеснуть не рассчитывал (он знал, что начальство, не выслушавши его, съест), а просто-напросто сам для себя любил солидно, по-заячьи, обо всем рассудить. Дескать,
Неправо о вещах те думают, Шувалов, *
Которые стекло чтут ниже минералов…
Вот, мол, у нас ка́к!
Сидел он однажды таким манером под кустиком, да и вздумал перед зайчихой своей здравыми мыслями щегольнуть. Встал на задние ножки, ушки на макушку взбодрил, передними лапками штуки-фигуры выделывает, а языком, слово за словом, точно горох, так и сыплет.
– Нет, говорит, мы, зайцы, даже очень хорошо прожить можем. Мы и свадьбы справляем, и хороводы водим, и пиво в престольные праздники варим. Расставим верст на десять сторожей, да и горланим. А волк услышит, да и прибежит: «Кто песни пел?..» Ну, тут, натурально, кто куда поспел! Успел улепетнуть – в другом месте пиво вари; не успел – съест тебя волк, как пить даст! И ничего ты с этим не поделаешь. Зайчиха! правду ли я говорю?
– Коли не врешь, так правду говоришь, – ответила зайчиха, которая уже за десятым мужем за этим зайцем была, и все прежние девятеро у нее на глазах напрасною смертью погибли.
– Подлый народ эти волки – это правду надо сказать. Все у них только разбой на уме! – продолжал заяц. – Сколько раз я и говорил, и в газетах писал: «Господа волки! вместо того, чтоб зайца сразу резать, вы бы только шкурку с него содрали – он бы, спустя время, другую вам предоставил! Заяц, хошь он и плодущ, однако, ежели сегодня целый косяк вырезать, да завтра другой косяк – глядь, ан на базаре-то, вместо двугривенного, заяц уж в полтину вскочил! А кабы вы чередо́м пришли: «Господа, мол, зайцы! не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить?» – «С удовольствием, господа волки! Эй, староста! гони очередных!» И шло бы у нас все по закону, как следует. И волки, и зайцы – все бы в надежде были. И мы бы, и вы бы, и с одной стороны, и с другой стороны… ах, господа, господа!»
Говорил-говорил заяц и чуть было совсем не зарапортовался, как вдруг услышал, что неподалёчку, в траве, что-то шуршит. Смотрит, ан зайчиха-то его давно стречка дала, а лиса-кляузница легла на брюхо, да и ползет на него, словно поиграть с заинькой собралась.
– Вон ты какой, заяц, умный! – первая заговорила лиса, – так ты сладко растабарываешь, что век бы я тебя слушала, и все бы слушать хотелось!
Умен был заяц, а спервоначалу и он обомлел. Стоит на задних лапках, как вкопанный, не то в сторону глазами косит, куда бы стречка дать, не то обдумывает: «Вот оно, когда пришлось с здравой точки зрения на свое положение взглянуть…»
– Голодна, тетенька? – спросил он, стараясь как можно меньше робеть.
– И! что ты! господь с тобой! да я пресытехонька! разве потом что будет, а теперь – и боже меня сохрани! Здравствуй, заинька, будь здоров!
Села лиса по-собачьему и заиньку присесть пригласила; и он ножки под себя поджал. Поджал, сердечный, и все сам с собой рассуждает: «Как, мол, я ожидал, так, по-моему, и вышло. Всякому зверю свое житье: льву – львиное, лисе – лисье, зайцу – заячье. Ну-тка, вывози теперь, заячье житье!»
А лисица точно читает в его сокровенных мыслях, сидит, да, знай, заиньку похваливает.
– И откуда ты к нам, такой филозо́ф, пожаловал?
– Недавно я, тетенька, из-за тридевять земель, как угорелый, сюда прикатил. Жил я в своем месте, можно сказать, даже очень хорошо. И семейство у меня было, и обзаведеньице, и все такое. Целую зиму мы у помещика на скотном дворе в омете припеваючи прожили: днем спим, а ночью кленков да яблонек погрызем. Уж дело к весне шло, в лес бы собираться на дачу пора, ан к нам в омет волк пожаловал. «Какие такие звери? по какому виду? * с чьего разрешения?..» Я-то, признаться, убег, а зайчиха с зайчатами…
– Слышала я об этом. Волк-то мне кумом приходится, так сказывал. «Намеднись, говорит, я целое заячье гнездо разорил, а заяц убег, так как бы нам, кума, его разыскать?» Ан ты вот он – он. Смотри, жену-то, чай, жалко было?
– Уж и не помню. Вижу, что надо бежать, – и побежал. Прибежал, смотрю – зайчиха-вдова сидит: «Давай, мол, вместе жить!» И стали жить. Жили мы с ней, нельзя похаять, исправно, а теперь вот она убежала, а я остался.
– Ах ты, горюн, горюн! Ну, дай срок, мы ее изы́мем!
Лисица зевнула, легонько куснула зайца за ляжку (он, однако, сделал вид, что не заметил), повалилась на бок, откинула голову и зажмурилась.
– Ишь ведь солнце-то жарит, – лениво пробормотала она, – словно дело делает! Сём, я вздремну, а ты тем временем сядь поближе да покалякай.
Так и сделали. Лиса задремала, а заяц с таким расчетом сел, чтоб лисе его во всякое время мордой достать было можно, и начал сказки сказывать.
– Я, тетенька, не привередлив, – говорил он, – я всячески жить согласен. И трех лет еще нет, как я на свете живу, а уж чуть не половину России обегал. Только что в одном месте оснуёшься – глядь, либо волк, либо сова, либо охотнички с облавой на тебя собрались. Беги, сломя голову, устраивайся по-новому за тридевять земель. Но я на это не ропщу, потому понимаю, что такова есть заячья жизнь. А ежели иной раз и не понимаю, то и не понимаючи все-таки бегу. Все одно как мужики в наших местах. Он спать собрался, а под окном у него – тук-тук! «Ступай, дядя Михей, с подводой!» На дворе метель, стыть, лошаденка у него чуть дышит, а он навалит на подводу солдат, да и прет двадцать верст около саней пешком. Через сутки, гляди, опять домой вернулся, ребятам пряника привез, жене – платок на голову, всем вообще – слезы. Спроси его: «Что́ сие означает?» – он тебе ответит: «Означает сие мужицкую жизнь». Так-то и мы, зайцы. Жить – живем, а рук на себя не накладываем. Всегда мы готовы… Так ли я, тетенька, говорю?
Лиса, вместо ответа, тихо лайнула, точно во сне; заяц искоса взглянул на нее: «Не спит ли, мол, тетенька?» Не было ли у него при этом на уме, в случае чего, стречка дать? – Наверное сказать не могу, но очень возможно, что и такого рода политика в программу заячьей жизни входит. Однако хотя лиса не только глаза зажмурила, но легла на спину и даже ноги, подлая, распялила, но заяц чутьем догадался, что она это комедии перед ним разыгрывает.
– Расскажу я тебе, – продолжал он, – как у меня дядя у одного солдата в услужении жил. Поймал его солдат еще махонького и всему солдатскому обиходу выучил. Из ружья ли выпалить, артикул ли выкинуть, смаршировать ли, в барабан ли зо́рю отбить – на все дядя за первый сорт был. Ездят, бывало, вдвоем по базарам, представленья показывают, а им – кто яйцо, кто копеечку, кто хлеба кусок, Христа ради, подаст. Так вот этот самый солдат житие свое дяде рассказывал. – «Жил я, говорит, в дому у родителей, и послал меня однажды батюшка сани на зиму изладить. Излаживаю я, песенки попеваю, трубочку покуриваю – вдруг десятский на двор: «Ступай, Семен, в волостную, тебя в солдаты требуют». Я, в чем был, в том и ушел; хорошо, что трубку-то в штаны спрятать успел. Ушел, да двадцать лет после того и пропонтировал [22]22
Заяц, очевидно, говорит про очень старинные времена, когда солдатская служба продолжалась не меньше 20 лет и когда рекрутов, из опасения, чтобы они не бежали в дороге, забивали в колодки. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]. А через двадцать лет воротился в свое место – ни кола, ни двора, чисто!..» Так вот оно, – прибавил рассудительно заяц, – мужичья-то жизнь как оборачивается! Сейчас он – мужик, а сейчас – солдат, и то и другое житьем называется. Так-то вот и с нами, зайцами…
– Неужто ж и вас в солдаты отдают? – спросила лиса, точно сейчас проснулась.
– Нет, нас едят, – ответил заяц как можно веселее.
– И я тоже думаю, потому что какие же вы солдаты! хуже старинной гарнизы, которую славный генерал Бибиков «негодницей» звал. И дядю-то твоего, поди, солдат под конец съел?
– Нет, солдат-то умер, а дядя в ту пору бежал. Пришел домой, а заячьей работы работать не может – отвык. И тетка задаром кормить его не согласна. Вот он однажды и надумал: «Пойду в село на базар, буду комедии представлять». Да только что зачал «кавалерийскую рысь» на барабане отхватывать – его собаки и разорвали!
– И поделом: зачем публику беспокоил. Впрочем, ведь дядя-то твой, чай, и зараньше знал, что когда-нибудь да съедят его. Не собаки, так волк, не волк, так лисица. Резолюция-то вам всем одна. Ну, а покуда что, скажи мне: лисицы-то каковы в вашей стороне? Лихи, чай?
– В нашей стороне лисицы, нужно правду сказать, даже очень лихи. Я-то ни с одной близко не встречался, а видел, как однажды лисицу, у меня в глазах, охотничек заполевал. И, признаться…
Заяц хотел сказать: «обрадовался», но спохватился и обробел; однако лиса отгадала его мысль.
– Вот ведь ты кровопивец какой! – укорила она его и так больно укусила ему бок, что из раны полилась кровь.
– Ах! – взвизгнул заяц от боли, но в одну минуту сдержал себя и молодецки поправился, – это я, ваше высокое степенство, о тамошних лисах говорю, а здешние лисицы, сказывают, добрые. – Ой ли?
– Верно говорю. В прошлом году у нас в лесу зайчик-сирота остался, так одна лисица его с своими детьми, слышь, воспитала.
– Вырастила, значит, и выпустила? Где ж он теперь, сиротка-то ваш?
– Кто его знает, где он теперь… Пропал будто. Поворовывать, говорят, начал, скружился, а наконец, и лисицу молоденькую соблазнил. За это будто бы его старуха-лисица и съела.
– Я его съела, я – та самая лисица и есть, о которой ты слышал. Только не за то я его съела, что он скружился и в разврат впал, а за то, что пора его приспела.
Лисица на минуту задумалась и щелкнула зубами, поймав блоху. Потом, не торопясь, встала, встряхнулась и совершенно добродушно спросила зайца:
– А теперь, как ты полагаешь, кого я есть буду?
Умен был заяц, а не угадал. Или, лучше сказать, у него тогда же в уме мелькнуло: «Вот оно, заячье-то житье… начинается!» – но ему смерть не хотелось даже самому себе признаться в этом.
– Не знаю, – ответил он.
Однако и по лицу, и по голосу его так было явно, что он лжет, что лиса не на шутку рассердилась.
– Вот ты какой лгун! – сказала она. – Мне про тебя и невесть чего наговорили: и филозо́ф-то ты, и сердцеведец-то, а выходит, что ты самый обыкновенный, плохой зайчонко! Тебя буду есть!тебя, сударь, тебя!
Лиса отпрянула назад и сделала вид, что вот-вот сейчас бросится на зайца и съест. Но вслед за тем она села и, как ни в чем не бывало, начала задней ногой за ухом чесать.
– А может быть, ты и помилуешь? – вполголоса сделал робкое предположение заяц.
– Час от часу не легче! – еще пуще рассердилась лиса, – где ты это слыхал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали? Разве для того мы с тобой, фофан ты этакой, под одним небом живем, чтобы в помилованья играть… а?
– Ну, тетенька, примеры-то эти бывали! – настаивал заяц, все еще хорохорясь. Но тут же, впрочем, упал духом и затосковал.
Вспомнилось ему, как он из конца в конец бегал, словно мужик-раскольщик, «вышнего града взыскуя»; как он по целым суткам в дупле, не евши, дрожал; как однажды, от лихого зверя спасаясь, он в подполицу к мужику расскакался, да благо в ту пору великий пост был, мужик-от его и выпустил. Вспомнил про своих зайчих-любушек, как он вместе с ними зайчат зо̀блил, и как ни с одной порядком даже надышаться не успел. И, вспоминая, то и дело втихомолку твердил: – Ах, кабы пожить! Ах, кабы хоть чуточку еще пожить!
А лиса, тем временем, и взаправду приятный сюрприз зайцу приготовила.
– Слушай, подлый зайчишко, – сказала она, – я ведь думала, что ты в самом деле филозо́ф, а тебя между тем, вишь, как от одной мысли о смерти коробит. Так вот я какую для тебя вольготу придумала. Отойду я на четыре сажени вперед, сяду к тебе задом и не буду на тебя, на гаденка этакого, целых пять минут смотреть. А ты в это время старайся мимо меня так пробежать, чтобы я тебя не поймала. Успеешь улизнуть – твоя взяла; не успеешь – сейчас тебе резолюция готова.
– Ах, тетенька, где уже мне!
– Глупый! ежели и не улизнешь, так все-таки время проведешь. Делом займешься, потрафлять будешь – ан тоски-то и убавится. Все равно, как солдат на войне: потрафляет да потрафляет – смотришь, ан и пропал!
Заяц подумал-подумал и должен был согласиться, что лиса хорошо придумала. Между делом быть съеденным все-таки вольготнее, нежели в томительно-праздном ожидании. Настоящая-то заячья смерть именно такова и есть, чтобы на всем скаку: бежишь во весь опор, ан тут тебе и капут.
«Ничего ты не понимаешь, что с тобой делается, а тебя вдруг пополам разорвали! – соображал заяц и машинально прибавил, – а может быть…»
– Ну, эти фантазии-то ты оставь! – предупредила его лиса, угадав неясную надежду, мелькнувшую у него в голове. – Ты лучше уж без фантазий… раз, два, три! господи благослови, начинай!
Сказавши это, лиса отошла на четыре сажени вперед, предварительно посадивши зайца задом к частому-частому кустарнику, чтобы никак он не мог назад убежать, а бежал бы не иначе, как мимо нее.
Села лисица и занялась своим делом, словно и не видит зайца. Но заяц нимало не сомневался, что если б она и еще на четыре сажени вперед отошла, то и тогда ни одно самомалейшее его движение не ускользнуло бы от нее. Несколько раз он вскакивал на ноги и уши на спину складывал; несколько раз он весь собирался в комок, намереваясь сделать какой-то диковинный скачок, благодаря которому он сразу очутился бы вне преследования; но уверенность, что лиса, и не видя, все видит, приводила его в оцепенение. Тем не менее лиса все-таки была, по-своему, права: у зайца, действительно, нашлось заячье дело, которое в значительной мере агонию его смягчило.
Наконец урочные пять минут истекли, застав зайца неподвижным на прежнем месте и всецело погруженным в созерцание своего заячьего дела. – Ну, теперь давай, заяц, играть! – предложила лисица.
Начали они играть. С четверть часа лисица прыгала вокруг зайца: то укусит его и совсем уж сберется горло перервать, то прыгнет в сторону и задумается: «Не простить ли, мол?» Но даже и это было для зайца своего рода дело, потому что ежели он и не оборонялся взаправду, то все-таки лапками закрывался, верезжал…
Но через четверть часа все было кончено. Вместо зайца остались только клочки шкуры да здравомысленные его слова: «Всякому зверю свое житье: льву – львиное, лисе – лисье, зайцу – заячье».








