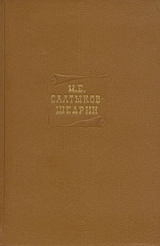
Текст книги "Том 16. Книга 1. Сказки. Пестрые письма"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц)
Коняга *
Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели.
Коняга – обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.
А силы Коняге набраться не́откуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.
Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: «Ну, милый, упирайся!» – услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними – забирает, морду к груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец – и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть – и Коняге и мужику; каждый день смерть.
Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные – они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едка заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.
Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, – той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.
Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, которым поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он – только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли Коняга, или помирает – нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал.
Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь.
Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном – оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас – опять народилось. Не поймешь, что́ тут смерть и что́ жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель – Коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно – кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»
Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз… Для всех природа – мать, для него одного она – бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение – отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию – бедный Коняга знает о нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.
Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его – никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго – он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди – не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.
Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни – только одно это для этой массы и ясно. Но что́ такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? – вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее… Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.
Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не скажет, что Коняга и Пустопляс – одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло.
Жил, во времена оны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга – неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге – солома, а Пустоплясу – овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: «Хлопай зубами, Коняга! А пить – вон из той лужи».
Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду, проведаю, каково-то мой братец живет!»
Смотрит – ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни по́падя, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде все братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом – он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может!
И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.
Один скажет:
– Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!
Другой возразит:
– Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что́ такое здравый смысл? Здравый смысл, это – нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни * носит! И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!
Третий молвит:
– Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни – что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.
А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:
– Ах, господа, господа! все-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон веку к своей юдоли привычен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит – кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось, – а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то́ дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось – и все как один. Калечьте их теперича сколько угодно – их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас – его нет, а сейчас – он опять из-под земли выскочил.
И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:
– Н-но, каторжный, шевелись!
Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.
– Смотрите-ка, смотрите-ка! – закричат они вкупе и влюбе, – смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!
Кисель *
Сварила кухарка кисель и на стол поставила. Скушали кисель господа, сказали спасибо, а детушки пальчики облизали. На славу вышел кисель; всем по праву пришелся, всем угодил. «Ах, какой сладкой кисель!», «ах какой мягкой кисель!», «вот так кисель!» – только и слов про него. – «Смотри, кухарка, чтобы каждый день на столе кисель был!» И сами наелись, и гостей употчевали, а под конец и прохожим на улицу чашку выставили. «Поешьте, честные господа, киселя! вон он у нас какой: сам в рот лезет! Ешьте больше, он это любит!» И всякий подходил, совал в кисель ложкой, ел и утирался.
Кисель был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал оттого, что его ели. Напротив того, слыша общие похвалы, он даже возмечтал. Стоит на столе да знай себе пузырится. «Стало быть, я хорош, коли господа меня любят! Не зевай, кухарка! подливай!»
Долго ли, коротко ли так шло, только стал постепенно кисель господам прискучивать. Господа против прежнего сделались образованнее; даже из подлого звания которые мало-мальски в чины произошли – и те начали желеи да бламанжеи предпочитать.
– Помилуйте! – говорит один, – что хорошего в этом киселе? разве это еда? попробуйте, какой он мягкой, да слизкой, да сладкой!
– Отдадимте, господа, кисель свиньям! – подхватил другой, – а сами уедем на теплые воды гулять! Нагуляемся вдосталь, а там, если уж это непременно нужно, и опять домой воротимся кисель есть.
Что же! свиньи так свиньи – право, киселю все равно, в каком ранге особа его ест. Лишь бы ели. Засунула свинья рыло в кисель по самые уши и на весь скотный двор чавкотню подняла. Чавкает да похрюкивает: «Покатаюся, поваляюся, господского киселя наевшись!» Сытости, подлая не знает; чуть замешкается кухарка, она уж хрюкает: «Подливай!» А ежели скажут: «Был кисель, да весь вышел», – она и по углам, и по закоулкам, и под навозом мордой вышарит и уж где-нибудь да отыщет.
Ела да ела свинья и наконец все до капли съела. А господа между тем гуляли-гуляли, да и догулялись. Догулялись и говорят друг другу: «Теперь нам гулять больше не на что; айда домой кисель есть!»
Приехали домой, взялись за ложки – смотрят, ан от киселя остались только засохшие поскребушки.
И теперь все – и господа, и свиньи – все в один голос вопиют:
– Ели мы кисель, а про запас не оставили! Чем-то на будущее время сыты будем! Где ты, кисель? ау!
Праздный разговор *
Нынче этого нет, а было такое время, когда и между сановниками вольтерьянцы попадались. Само высшее начальство этой моды держалось, а сановники подражали.
Вот в это самое время жил-был губернатор, который многому не верил, во что другие, по простоте, верили. А главное, не понимал, для какой причины губернаторская должность учреждена.
Напротив, предводитель дворянства в этой губернии во все верил, а значение губернаторской должности даже до тонкости понимал.
И вот, однажды, уселись они вдвоем в губернаторском кабинете и заспорили.
– Между нами будь сказано, решительно я этого не понимаю, – сказал губернатор. – По моему мнению, если бы нас всех, губернаторов, без шума упразднить, то никто бы и не заметил.
– Ах, вашество, как вы так выражаетесь! – возразил ему удивленный и даже испуганный предводитель.
– Разумеется, я это конфиденциально… но ежели говорить по совести, то опять-таки повторяю: положительно я этого не понимаю! Представьте себе: живут люди мирно, бога помнят, царицу чтут – и вдруг к ним… губернатор!! Откуда? как? что за причина?
– А та и причина, что власть! – урезонивал его предводитель, – нельзя без оной. Вверху – губернатор, посередке – исправник, внизу – тысяцкий. А по бокам – предводители, председатели, воинство…
– Знаю. Но зачем? Вы говорите: «тысяцкий», – хорошо. Тысяцкий – это который при мужике, – понимаю и это. Теперь представьте себе: живет мужик, поле работает, пашет, косит, плодится, множится, словом сказать, круг жизни своей производит. И вдруг, откуда-то из-под низу, – тысяцкий… Зачем? что случилось?
– Не случилось, но может случиться, вашество!
– Не верю-с. Ежели люди живут в свое удовольствие – зачем для них тысяцкий? Ежели они тихим манером нужды свои справляют, бога помнят, царицу чтут – что́ тут случиться может, кроме хорошего? И что́ тысяцкий может в данном случае устранить или присовокупить? Даст бог урожай – будет урожай; не даст бог урожаю – и так как-нибудь проживут. При чем тут тысяцкий? разве он может хоть колос единый в снопе убавить или прибавить? – Нет, он налетит, намутит, нашумит, да, того гляди, в заключение, еще в острог кого-нибудь посадит. Только и всего.
– Ну, не даром же посадит, а тоже за что-нибудь!
– Однако, согласитесь, что если б его нелегкая не принесла, все шло бы без него своим чередом, и никакого бы «что-нибудь» не случалось. Во всяком случае, в остроге никто бы не сидел. А как только он появится, так тотчас же вслед за ним и «что-нибудь» явилось.
– Ах, вашество, ведь и тысяцкие разные бывают! Вот у нас, например…
– Нет, вы меня выслушайте. Я не об личностях веду речь и не парадоксами перед вами щегольнуть хочу. Я по опыту эту музыку знаю и даже на самом себе могу пример показать. Уезжаю я, например, из губернии – и что вдруг случилось? Не успел я за заставу отъехать, как вдруг во всей губернии наступило благорастворение воздухов. Полициймейстер – не скачет, квартальные – не бегут, городовые – не усердствуют. Даже и простецы, которые и о существовании моем досконально не знают, и те чувствуют, что из их жизни исчезла какая-то занятая, от которой им во всех местах больно было. Что́ сей сон означает? – спрашиваю я вас. А то, государь мой, что мой заступающий не все то может сделать, что я могуи что, следовательно, и служащим, и обывателям на всю эту разницу легче стало. Но вот я возвращаюсь опять к своему посту. Шум, треск, езда, беготня… Кто в фуражке ходил – бежит в треуголке; кто в полном удовольствии месяц прожил – снова приходит в унылость; все видят впереди бесконечную распостылую канитель… Да, впрочем, что же много об этом толковать! вы и на себе наверное хоть отчасти да испытали…
Действительно, предводитель вспомнил, что и за ним в этом роде грешок водился. Как только, бывало, губернатор за ворота, так он сейчас: «Эй, тарантас!» – и марш в деревню. И ходит там без оных, покуда опять начальство к долгу не призовет. Только одну проформу и соблюдает, что, едучи мимо вице-губернаторской квартиры, зайдет на минуту к заступающему должность и условится:
– Уж вы, Арефий Иваныч, коли что случится, гонца пришлите!
– Чему случиться! с богом!
– Ну, так прощайте; Капитолине Сергеевне кланяйтесь. Пошевеливай!
Только его и видели.
– Есть тот грех, – сказал он, – только все-таки не оттого… Просто отдохнуть хочется… вот и пользуешься.
– То-то что «отдохнуть»! а кто отдохнуть помешал? разве в отдыхе грех какой? Никакого греха нет, а просто мешал, потому что он губернатор – только и всего. Теперь пойдем дальше. Замечали ли вы, как партикулярные люди о губернаторе отзываются, когда похвалить его хотят? «Это, говорят, хороший губернатор: он сидит смирно, никого не трогает». Вот-с. Стало быть, что всего более в губернаторе любезно – это ежели он благосклонно бездействует. И в самом деле, рассудите по совести, в чем его вмешательство в обывательских делах пользу принести может? Приехал он в губернию чуженин-чуженином – это раз; обучался он, может быть, чему-нибудь, да только не тому, чему следует, – это два. Затем: статистики он – не знает, этнографии – не разумеет; нравы и обычаи – не при нем писаны; где какая река, куда течет, почему и в каком смысле – это он разве тогда узнает, когда раз пять вдоль и поперек губернию исколесит; о железных дорогах знает только, когда и куда какой поезд отходит, чтобы в случае чего не опоздать; а зачем дорога построена, сколько в прошлом году доходов собрано, сколько в нынешнем, где и какую питательную ветвь надо провести, – все это для него – темна вода во облацех. И можно бы все это узнать, и сведения все под руками, да неинтересно и не для чего. Ничего из этих сведений не выйдет [23]23
Само собой разумеется, что это только в сказке возможно. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть].
– Или насчет торгов, ремесл, промыслов: сапожное там ремесло, огороднический промысел; в одном месте рогожи ткут, в другом – косы, серпы куют: зачем? почему? Где раки зимуют?
– Вашество! – прервал предводитель расходившегося губернатора, – да ведь я – обыватель здешний, а и я этого ничего не знаю!
– Вы – другое дело; вы – предводитель. Подают вам за столом говядину – вам и нужды нет, откуда она. Была бы съедобна – только и всего. А я – губернатор, я должен все знать. Меня – нет-нет, да и спросят: «В каком, мол, положении у вас огородничество?»
– Да, по нынешнему времени, всего ожидать можно.
– Нынче, батюшка, чтобы всякая копейка на счету стояла, чтобы все, из чего извлечь можно, – «где, бишь, оно? не полезно ли, мол, обложить?» Вот нынче как. Ну, и отвечаешь на всякий случай, чтобы без хлопот: «Оставляет, мол, желать многого».
– Н-да, а между тем капуста у нас…
– То-то «капуста». А я только недавно об этом узнал. Намеднись подают кочан; я думал, он из Алжира – ан он из Поздеевки.
– Из Поздеевки – это верно; там и морковь, и репа – всякий овощ. Так-то всегда у нас. Мы по Эмсам да по Мариенбадам воду пить ездим, а у нас, в Поздеевке, своя вода есть, да еще лучше, потому что от мариенбадской-то воды желудок расстраивается.
– А скажите-ка, кто поздеевскую-то капусту завел? Небось губернатор? как бы не так! Мужичок, сударь. Побывал во времена оны какой-нибудь поздеевский Семен Малявка в Ростове, посмотрел, как тамошние мужички капустную рассаду разводят, да и завел, воротясь домой, у себя огородец, а глядя на него, и другие принялись.
– Это так точно, вашество, – вынужден был согласиться предводитель.
– И все у нас промыслы как-то местом ведутся. Тут – благодать, а рядом – нет ничего. Представьте себе, около этой самой Поздеевки деревня Развалиха есть, – так там об огородах и слыхом не слыхать, а все мужички до одного шерстобиты. Летом землю общим крестьянским обычаем работают, а зимой разбредутся кто куда и шерстобитничают. И тоже не губернатор завел, а побывал простой мужик Абрамко в Калязинском уезде и привез оттуда.
– Вот и понимайте теперь. Капуста, огурцы, шерстобитничество, сапоги, рогожи… все они, все обыватели! Вы думаете, у вас, в Растеряевке, колокольню кто построил? губернатор? Ан нет, купец Поликарп Аггеев Параличев ее построил, а губернатор только на освящении был да пирог с визигой ел.
– Это верно.
– А переславских сельдей кто первый коптить начал?
– Тоже верно. Не губернатор.
– А семгу-порог? а кольскую морошку? а ржевскую и коломенскую пастилу? Губернатор? а?
– Позвольте, вашество! но ведь, кроме огородничества и бакалеи, есть и других предметов достаточно…
– Например?
– Подати, например… Собирать их, взыскивать…
– А что́ такое подати? слыхали?
– Подати… это, так сказать, свидетельство принадлежности… – начал было предводитель, но запутался и умолк.
– То-то «свидетельство»… А как вы думаете, приятное это «свидетельство»? Смотрите-ка! за податьми приехал! Ах, как приятно! Диво бы секрет разведения муромских огурцов или копченья тамбовской ветчины привез… а то подати выбивать! Да и как, позвольте спросить, я это «свидетельство принадлежности» осуществлю, ежели, например, у поздеевских мужиков капуста не родится? Какая моя в этом разе роль? Разошлю по исправникам циркуляр – только и всего; а исправники наполнят губернию криком – тоже только всего. Во всяком случае, я понуждаю – не знаю, на какой предмет; исправник кричит – тоже на какой предмет, не знает. Что́ такое случилось? Куда скрылись казенные подати? Неурожай ли мужика обездолил, пьянство ли одолело, мироед ли к нему присосался, или мужик сам капризничать начал, кубышку вздумал копить? Вот ведь сколько разных случаев может быть, да и все ли еще тут! А мы суетимся, гамим, знать ничего не хотим: чтоб были подати – только и всего!
– Да, это так точно. И нагамят, и нашумят, и даже под рубашку заглянут; а какой в том результат – сами не знают! – грустно подтвердил предводитель.
Оба собеседника на минуту задумались.
Первый очнулся предводитель. Он, по-видимому, еще не отчаивался, и у него уже назрел было вопрос: «А народная нравственность? а просвещение? науки? искусства?» – как губернатор словно угадал его мысли и так строго взглянул на своего собеседника, что тот мог вымолвить только:
– А народное продовольствие?
– И вам не совестно? – вместо ответа спросил его в упор губернатор.
Предводитель покраснел. Он вспомнил, как в начале года он, в качестве председателя земской управы, разъезжал по волостям и т. д. Вспомнил и застыдился.
– Так неужто же наконец… – воскликнул он и вдруг нечто вспомнил, – позвольте! вот вам предмет: содействие к соединению общества!
– Какого такого общества?
– Здешнего-с.
– Гм… так вы думаете, что я соединяю здешнее общество?
– И вы, вашество, и супруга ваша… Лукерья Ивановна.
– Лукерья Ивановна – может быть, но я… нет! меня… увольте! Да и кому наконец этот предмет нужен… «соединение общества»… да еще здешнего?!
Собеседники окончательно умолкли. И, может быть, им пришлось бы очень неловко, если б на выручку не явился из губернского правления казначей.
Это было 30-е число месяца. В этот день, как известно, производилась некогда получка жалованья, и казначеи всех ведомств являлись к начальникам с денежными книгами, которые очищались расписками в получении.
Губернатор принял от казначея пачку, не торопясь, пересчитал деньги, положил их на стол и расписался.
– Ну-с, а это-с? – пошутил предводитель, указывая на пачку, – в каком же смысле следует понимать «это»?..
– Н-да… то есть, вы хотите сказать: «это»? – переспросил губернатор, как бы очнувшись.
– Да-с! Это-с. Именно оно самое… это-с!
– Гм… «это»?.. Это… воздаяние!








