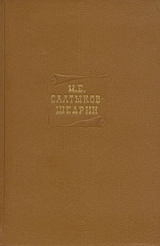
Текст книги "Том 16. Книга 1. Сказки. Пестрые письма"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 42 страниц)
Рождественская сказка *
Прекраснейшую сегодня проповедь сказал, для праздника, наш сельский батюшка.
– Много столетий тому назад, – сказал он, – в этот самый день пришла в мир Правда.
Правда извечна. Она прежде всех век восседала с Христом-человеколюбцем одесную отца, вместе с ним воплотилась и возжгла на земле свой светоч. Она стояла у подножия креста и сораспиналась с Христом; она восседала, в виде светозарного ангела, у гроба его и видела его воскресение. И когда человеколюбец вознесся на небо, то оставил на земле Правду как живое свидетельство своего неизменного благоволения к роду человеческому.
С тех пор нет уголка в целом мире, в который не проникла бы Правда и не наполнила бы его собою. Правда воспитывает нашу совесть, согревает наши сердца, оживляет наш труд, указывает цель, к которой должна быть направлена наша жизнь. Огорченные сердца находят в ней верное и всегда открытое убежище, в котором они могут успокоиться и утешиться от случайных волнений жизни.
Неправильно думают те, которые утверждают, что Правда когда-либо скрывала лицо свое, или – что еще горше – была когда-либо побеждена Неправдою. Нет, даже в те скорбные минуты, когда недальновидным людям казалось, что торжествует отец лжи, в действительности торжествовала Правда. Она одна не имела временного характера, одна неизменно шла вперед, простирая над миром крыле свои и освещая его присносущим светом своим. Мнимое торжество лжи рассевалось, как тяжкий сон, а Правда продолжала шествие свое.
Вместе с гонимыми и униженными Правда сходила в подземелья и проникала в горные ущелия. Она восходила с праведниками на костры и становилась рядом с ними перед лицом мучителей. Она воздувала в их душах священный пламень, отгоняла от них помыслы малодушия и измены; она учила их страдать всладце. Тщетно служители отца лжи мнили торжествовать, видя это торжество в тех вещественных признаках, которые представляли собой казни и смерть. Самые лютые казни были бессильны сломить Правду, а, напротив, сообщали ей вящую притягивающую силу. При виде этих казней загорались простые сердца, и в них Правда обретала новую благодарную почву для сеяния. Костры пылали и пожирали тела праведников, но от пламени этих костров возжигалось бесчисленное множество светочей, подобно тому, как в светлую утреню от пламени одной возжженной свечи внезапно освещается весь храм тысячами свечей.
В чем же заключается Правда, о которой я беседую с вами? На этот вопрос отвечает нам евангельская заповедь. Прежде всего, люби бога, и затем люби ближнего, как самого себя. Заповедь эта, несмотря на свою краткость, заключает в себе всю мудрость, весь смысл человеческой жизни.
Люби бога – ибо он жизнодавец и человеколюбец, ибо в нем источник добра, нравственной красоты и истины. В нем – Правда. В этом самом храме, где приносится бескровная жертва богу, – в нем же совершается и непрестанное служение Правде. Все стены его пропитаны Правдой, так что вы, – даже худшие из вас, – входя в храм, чувствуете себя умиротворенными и просветленными. Здесь, перед лицом распятого, вы утоляете печали ваши; здесь обретаете покой для смущенных душ ваших. Он был распят ради Правды, лучи которой излились от него на весь мир, – вы ли ослабнете духом перед постигающими вас испытаниями?
Люби ближнего, как самого себя, – такова вторая половина Христовой заповеди. Я не буду говорить о том, что без любви к ближнему невозможно общежитие, – скажу прямо, без оговорок: любовь эта, сама по себе, помимо всяких сторонних соображений, есть краса и ликование нашей жизни. Мы должны любить ближнего не ради взаимности, но ради самой любви. Должны любить непрестанно, самоотверженно, с готовностью положить душу, подобно тому, как добрый пастырь полагает душу за овец своих.
Мы должны стремиться к ближнему на помощь, не рассчитывая, возвратит он или не возвратит оказанную ему услугу; мы должны защитить его от невзгод, хотя бы невзгода угрожала поглотить нас самих; мы должны предстательствовать за него перед сильными мира, должны идти за него в бой. Чувство любви к ближнему есть то высшее сокровище, которым обладает только человек и которое отличает его от прочих животных. Без его оживотворяющего духа все дела человеческие мертвы, без него тускнеет и становится непонятною самая цель существования. Только те люди живут полною жизнью, которые пламенеют любовью и самоотвержением; только они одни знают действительные радования жизни.
Итак, будем любить бога и друг друга – таков смысл человеческой Правды. Будем искать ее и пойдем по стезе ее. Не убоимся козней лжи, по станем до́бре и противопоставим им обретенную нами Правду. Ложь посрамится, а Правда останется и будет согревать сердца людей.
Теперь вы возвратитесь в домы ваши и предадитесь веселию о празднике рождества господа и человеколюбца. Но и среди веселия вашего не забывайте, что с ним пришла в мир Правда, что она во все дни, часы и минуты присутствует посреди вас и что она представляет собою тот священный огонь, который освещает и согревает человеческое существование.
Когда батюшка кончил и с клироса раздалось: «Буди имя господне благословенно», то по всей церкви пронесся глубокий вздох. Точно вся громада молящихся этим вздохом подтверждала: «Да, буди благословенно!»
Но из присутствовавших в церкви всех внимательнее вслушивался в слова отца Павла десятилетний сын мелкой землевладелицы Сережа Русланцев. По временам он даже обнаруживал волнение, глаза его наполнялись слезами, щеки горели, и сам он всем корпусом подавался вперед, точно хотел о чем-то спросить.
Марья Сергеевна Русланцева была молодая вдова и имела крохотную усадьбу в самом селе. Во времена крепостной зависимости в селе было до семи помещичьих усадьб, отстоявших в недальнем друг от друга расстоянии. Помещики были мелкопоместные, а Федор Павлыч Русланцев принадлежал к числу самых бедных: у него всего было три крестьянских двора да с десяток дворовых. Но так как его почти постоянно выбирали на разные должности, то служба помогла ему составить небольшой капитал. Когда наступило освобождение, он получил, в качестве мелкопоместного, льготный выкуп и, продолжая полевое хозяйство на оставшемся за наделом клочке земли, мог изо дня в день существовать.
Марья Сергеевна вышла за него замуж значительное время спустя после крестьянского освобождения, а через год уже была вдовой. Федор Павлыч осматривал верхом свой лесной участок, лошадь чего-то испугалась, вышибла его из седла, и он расшиб голову об дерево. Через два месяца у молодой вдовы родился сын.
Жила Марья Сергеевна более нежели скромно. Полеводство она нарушила, отдала землю в кортому * крестьянам, а за собой оставила усадьбу с небольшим лоскутком земли, на котором был разведен садик с небольшим огородцем. Весь ее хозяйственный живой инвентарь заключался в одной лошади и трех коровах; вся прислуга – из одной семьи бывших дворовых, состоявшей из ее старой няньки с дочерью и женатым сыном. Нянька присматривала за всем в доме и пестовала маленького Сережу; дочь – кухарничала, сын с женою ходили за скотом, за птицей, обрабатывали огород, сад и проч. Жизнь потекла бесшумно. Нужды не чувствовалось; дрова и главные предметы продовольствия были некупленные, а на покупное почти совсем запроса не существовало. Домочадцы говорили: «Точно в раю живем!» Сама Марья Сергеевна тоже забыла, что существует на свете иная жизнь (она мельком видела ее из окон института, в котором воспитывалась). Только Сережа по временам тревожил ее. Сначала он рос хорошо, но, приближаясь к семи годам, начал обнаруживать признаки какой-то болезненной впечатлительности.
Это был мальчик понятливый, тихий, но в то же время слабый и болезненный. С семи лет Марья Сергеевна засадила его за грамоту; сначала учила сама, но потом, когда мальчик стал приближаться к десяти годам, в ученье принял участие и отец Павел. Предполагалось отдать Сережу в гимназию, а следовательно, требовалось познакомить его хоть с первыми основаниями древних языков. Время близилось, и Марья Сергеевна в большом смущении помышляла о предстоящей разлуке с сыном. Только ценою этой разлуки можно было достигнуть воспитательных целей. Губернский город отстоял далеко, и переселиться туда при шести-семистах годового дохода не представлялось возможности. Она уже вела о Сереже переписку с своим родным братом, который жил в губернском городе, занимая невидную должность, и на днях получила письмо, в котором брат соглашался принять Сережу в свою семью.
По возвращении из церкви, за чаем, Сережа продолжал волноваться.
– Я, мамочка, по правде жить хочу! – повторял он.
– Да, голубчик, в жизни главное – правда, – успокоивала его мать, – только твоя жизнь еще впереди. Дети иначе не живут, да и жить не могут, как по правде.
– Нет, я не так хочу жить; батюшка говорил, что тот, кто по правде живет, должен ближнего от обид защищать. Вот как нужно жить, а я разве так живу? Вот, намеднись, у Ивана Бедного корову продали – разве я заступился за него? Я только смотрел и плакал.
– Вот в этих слезах – и правда твоя детская. Ты и сделать ничего другого не мог. Продали у Ивана Бедного корову – по закону, за долг. Закон такой есть, что всякий долги свои уплачивать обязан.
– Иван, мама, не мог заплатить. Он и хотел бы, да не мог. И няня говорит: «Беднее его во всем селе мужика нет». Какая же это правда?
– Повторяю тебе, закон такой есть, и все должны закон исполнять. Ежели люди живут в обществе, то и обязанностями своими не имеют права пренебрегать. Ты лучше об ученье думай – вот твоя правда. Поступишь в гимназию, будь прилежен, веди себя тихо – это и будет значить, что ты по правде живешь. Не люблю я, когда ты так волнуешься. Что ни увидишь, что ни услышишь – все как-то в сердце тебе западает. Батюшка говорил вообще; в церкви и говорить иначе нельзя, а ты уж к себе применяешь. Молись за ближних – больше этого и бог с тебя не спросит.
Но Сережа не унялся. Он побежал в кухню, где в это время собрались челядинцы и пили, ради праздника, чай. Кухарка Степанида хлопотала около печки с ухватом и то и дело вытаскивала горшок с закипающими жирными щами. Запах прелой убоины и праздничного пирога пропитал весь воздух.
– Я, няня, по правде жить буду! – объявил Сережа.
– Ишь с коих пор собрался! – пошутила старуха.
– Нет, няня, я верное слово себе дал! Умру за правду, а уж неправде не покорюсь!
– Ах, бо́лезный мой! ишь ведь что́ тебе в головку пришло!
– Разве ты не слыхала, что́ в церкви батюшка говорил? За правду жизнь полагать надо – вот что́! в бой за правду идти всякий должен!
– Известно, что́ же в церкви и говорить! На то и церковь дана, чтобы в ней об праведных делах слушать. Только ты, миленький, слушать слушай, а умом тоже раскидывай!
– С правдой-то жить оглядываючись надо, – резонно молвил работник Григорий.
– Отчего, например, мы с мамой в столовой чай пьем, а вы в кухне? разве это правда? – горячился Сережа.
– Правда не правда, а так испокон века идет. Мы люди простецкие, нам и на кухне хорошо. Кабы все-то в столовую пошли, так и комнат не наготовиться бы.
– Ты, Сергей Федорыч, вот что! – вновь вступился Григорий, – когда будешь большой – где хочешь сиди: хошь в столовой, хошь в кухне. А покедова мал, сиди с мамашенькой – лучше этой правды по своим годам не сыщешь! Придет ужо батюшка обедать, и он тебе то же скажет. Мы мало ли что делаем: и за скотиной ходим, и в земле роемся, а господам этого не приходится. Так-то!
– Да ведь это же неправда и есть!
– А по-нашему так: коли господа добрые, жалостливые – это их правда. А коли мы, рабочие, усердно господам служим, не обманываем, стараемся – это наша правда. Спасибо и на том, ежели всякий свою правду наблюдает.
Наступило минутное молчание. Сережа, видимо, хотел что-то возразить, но доводы Григория были так добродушны, что он поколебался.
– В нашей стороне, – первая прервала молчание няня, – откуда мы с маменькой твоей приехали, жил помещик Рассошников. Сначала жил, как и прочие, и вдруг захотел по правде жить. И что ж он под конец сделал? – Продал имение, деньги нищим роздал, а сам ушел в странствие… С тех пор его и не видели.
– Ах, няня! вот это какой человек!
– А между прочим, у него сын в Петербурге в полку служил, – прибавила няня.
– Отец имение роздал, а сын ни при чем остался… Сына-то бы спросить, хороша ли отцовская правда? – рассудил Григорий.
– А сын разве не понял, что отец по правде поступил? – вступился Сережа.
– То-то, что не слишком он это понял, а тоже пытал хлопотать. Зачем же, говорит, он в полк меня определил, коли мне теперь содержать себя нечем?
– В полк определил… содержать себя нечем… – машинально повторял за Григорием Сережа, запутываясь среди этих сопоставлений.
– И у меня один случай на памяти есть, – продолжал Григорий, – занялся от этого самого Рассошникова у нас на селе мужичок один – Мартыном прозывался. Тоже все деньги, какие были, роздал нищим, оставил только хатку для семьи, а сам надел через плечо суму, да и ушел, крадучись, ночью, куда глаза глядят. Только, слышь, пачпорт позабыл выправить – его через месяц и выслали по этапу домой.
– За что? разве он худое что-нибудь сделал? – возразил Сережа.
– Худое не худое, я не об этом говорю, а об том, что по правде жить оглядываючись надо. Без пачпорта ходить не позволяется – вот и вся недолга. Этак все разбредутся, работу бросят – и отбою от них, от бродяг, не будет…
Чай кончился. Все встали из-за стола и помолились.
– Ну, теперь мы обедать будем, – сказала няня, – ступай голубчик, к маменьке, посиди с ней; скоро, поди, и батюшка с матушкой придут.
Действительно, около двух часов пришел отец Павел с женою.
– Я, батюшка, по правде жить буду! Я за правду на бой пойду! – приветствовал гостей Сережа.
– Вот так вояка выискался! от земли не видать, а уж на бой собрался! – пошутил батюшка.
– Надоел он мне. С утра все об одном и том же говорит, – сказала Марья Сергеевна.
– Ничего, сударыня. Поговорит и забудет.
– Нет, не забуду! – настаивал Сережа, – вы сами давеча говорили, что нужно по правде жить… в церкви говорили!
– На то и церковь установлена, чтобы в ней о правде возвещать. Ежели я, пастырь, своей обязанности не исполню, так церковь сама о правде напомнит. И помимо меня, всякое слово, которое в ней произносится, – правда; одни ожесточенные сердца могут оставаться глухими к ней…
– В церкви? а жить?
– И жить по правде следует. Вот когда ты в меру возраста придешь, тогда и правду в полном объеме поймешь, а покуда достаточно с тебя и той правды, которая твоему возрасту свойственна. Люби маменьку, к старшим почтение имей, учись прилежно, веди себя скромно – вот твоя правда.
– Да ведь мученики… вы сами давеча говорили…
– Были и мученики. За правду и поношение следует принять. Только время для тебя думать об этом не приспело. А притом же и то сказать: тогда было время, а теперь – другое, правда приумножилась – и мучеников не стало.
– Мученики… костры… – лепетал Сережа в смущении.
– Довольно! – нетерпеливо прикрикнула на него Марья Сергеевна.
Сережа умолк, но весь обед оставался задумчив. За обедом велись обыденные разговоры о деревенских делах. Рассказы шли за рассказами, и не всегда из них явствовало, чтобы правда торжествовала. Собственно говоря, не было ни правды, ни неправды, а была обыкновенная жизнь, в тех формах и с тою подкладкою, к которым все искони привыкли. Сережа бесчисленное множество раз слыхал эти разговоры и никогда особенно не волновался ими. Но в этот день в его существо проникло что-то новое, что подстрекало и возбуждало его.
– Кушай! – заставляла его мать, видя, что он почти совсем не ест.
– In corpore sano mens sana * [32]32
В здоровом теле здоровый дух.
[Закрыть], – с своей стороны прибавил батюшка. – Слушайся маменьки – этим лучше всего свою любовь к правде докажешь. Любить правду должно, но мучеником себя без причины воображать – это уже тщеславие, суетность.
Новое упоминовение о правде встревожило Сережу; он наклонился к тарелке и старался есть; но вдруг зарыдал. Все всхлопотались и окружили его.
– Головка болит? – допытывалась Марья Сергеевна.
– Болит, – ответил он слабым голосом.
– Ну, поди, ляг в постельку. Няня, уложи его!
Его увели. Обед на несколько минут прервался, потому что Марья Сергеевна не выдержала и ушла вслед за няней. Наконец обе возвратились и объявили, что Сережа заснул.
– Ничего, уснет – и пройдет! – успокоивал Марью Сергеевну отец Павел.
В вечеру, однако ж, головная боль не только не унялась, но открылся жар. Сережа тревожно вставал ночью в постели и все шарил руками около себя, точно чего-то искал.
– Мартын… по этапу за правду… что такое? – лепетал он бессвязно.
– Какого он Мартына поминает? – недоумевая, обращалась Марья Сергеевна к няне.
– А помните, у нас на селе мужичок был, ушел из дому Христовым именем… Давеча Григорий при Сереже рассказывал.
– Все-то вы глупости рассказываете! – рассердилась Марья Сергеевна, – совсем нельзя к вам мальчика пускать.
На другой день, после ранней обедни, батюшка вызвался съездить в город за лекарем. Город отстоял в сорока верстах, так что нельзя было ждать приезда лекаря раньше как к ночи. Да и лекарь, признаться, был старенький, плохой; никаких других средств не употреблял, кроме оподельдока, который он прописывал и снаружи, и внутрь. В городе об нем говорили: «В медицину не верит, а в оподельдок верит».
Ночью, около одиннадцати часов, лекарь приехал. Осмотрел больного, пощупал пульс и объявил, что есть «жаро́к». Затем приказал натереть пациента оподельдоком и заставил его два катышка проглотить.
– Жарок есть, но вот увидите, что от оподельдока все как рукой снимет! – солидно объявил он.
Лекаря накормили и уложили спать, а Сережа всю ночь метался и пылал как в огне.
Несколько раз будили лекаря, но он повторял приемы оподельдока и продолжал уверять, что к утру все как рукой снимет.
Сережа бредил; в бреду он повторял: «Христос… Правда… Рассошников… Мартын…» и продолжал шарить вокруг себя, произнося: «Где? где?..» К утру, однако ж, успокоился и заснул.
Лекарь уехал, сказав: «Вот видите!» – и ссылаясь, что в городе его ждут другие пациенты.
Целый день прошел между страхом и надеждой. Покуда на дворе было светло, больной чувствовал себя лучше, но упадок сил был настолько велик, что он почти не говорил. С наступлением сумерек опять открылся «жарок» и пульс стал биться учащеннее. Марья Сергеевна стояла у его постели в безмолвном ужасе, усиливаясь что-то понять и не понимая.
Оподельдок бросили; няня прикладывала к голове Сережи уксусные компрессы, ставила горчичники, поила липовым цветом, словом сказать, впопад и невпопад употребляла все средства, о которых слыхала и какие были под рукою.
К ночи началась агония. В восемь часов вечера взошел полный месяц, и так как гардины на окнах, по оплошности, не были спущены, то на стене образовалось большое светлое пятно. Сережа приподнялся и потянул к нему руки.
– Мама! – лепетал он, – смотри! весь в белом… это Христос… это Правда… За ним… к нему….
Он опрокинулся на подушку, по-детски всхлипнул и умер.
Правда мелькнула перед ним и напоила его существо блаженством; но неокрепшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось.
Пестрые письма *
Письмо I *
Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка. Не то чтоб дар слова совсем оставил меня, но язык мой сделался способен произносить только служительские слова: «Чего изволите?», «как прикажете», «не погубите!» – вот и все. А прежде я говаривал довольно-таки смело. Например: «Коли я ничего не сделал, стало быть, и бояться мне нечего», или: «Коли я никого не трогаю, стало быть, и меня никто не тронет»… И вдруг, словно с цепи сорвался: «Не погубите!»
Сначала я испугался. Ежели простое физическое косноязычие может отравить человеку жизнь, то еще более отравляющих элементов заключает в себе косноязычие нравственное. Со страхом спрашивал я себя: ужели изречения, вроде «ежели я ничего не сделал» и т. д., заключают в себе такой угрожающий смысл, для прекращения которого требовались бы натиск и быстрота? Но ежели это так, то кто же может поручиться, что со временем и такое изречение, как «ваше превосходительство, не погубите!» – не будет сочтено равносильным призыву к оружию?
Очевидно, это было новое и совсем особенное проявление внезапности, которого я еще не испытал.
Внезапность не составляет для меня новости. Я родился на лоне ее, воспитывался под ее сенью и до такой степени с ней освоился, что даже никогда не спрашивал себя, ушибет она меня или помилует. Но я должен сказать, что до последнего времени внезапность имела несовершенный, переходный характер, и это в значительной мере помогало уживаться с нею. Внезапностей было много, и они постоянно друг друга побивали. Нелегко было ориентироваться в этом разнообразии сменяющихся внезапностей, но при известном навыке все-таки можно было нечто угадать. Это называлось «ловить момент». Поймал момент – пользуйся! Не поймал – пеняй на себя! Игра была не весьма нравственная, но настолько замысловатая, что могла заинтересовать. Ныне – эта переходная форма, очевидно, исчерпала все свое содержание. Внезапность окончательно отказалась от экскурсий в сферу случайных веяний, которые своею противоречивостью подрывали ее; она сделалась единою неизменною, сама себе довлеющею. «Моменты» упраздены; ловить больше нечего.
Но это-то именно и пугало меня. Перспектива внезапного приурочения к служительским словам, без надежды, что придет другая внезапность и разрушит чары колдовства, – эта перспектива казалась чересчур уж суровою. Неясная тревога сжимала сердце мучительными предчувствиями; душа тосковала, мысль безнадежно искала просвета…
Однако прошел месяц, прошел другой – и пелена сама собой спала с моих глаз. Недоразумения исчезли, тревога утихла, а положение до такой степени выяснилось, что в какую сторону ни оглянись – везде лучше не надо быть.
Прежде всего я привык, или, говоря точнее, принюхался. Нельзя было не принюхаться, потому что кругом вся атмосфера пропахла прочными служительскими словами. Я не утверждаю, что эти запахи сделались мне достолюбезными, но они такой густой, непроницаемой массой заполонили весь мой домашний обиход, что, незаметно для меня самого, все факторы моей жизнедеятельности сами начали работать применительно к новой атмосфере и подчиняясь ее давлению.
Я очень хорошо знаю, что привычка играет в жизни человека роль по преимуществу бессознательную и что, следовательно, она в большинстве случаев служит источником бесчисленных недомыслий и даже безнравственностей; но ведь для того, чтоб чувствовать себя вполне удобно в атмосфере служительских слов, именно это и нужно.
С безнравственностью нельзя ужиться иначе, как с помощью безнравственности же, с бессмыслием – иначе, как при помощи бессмыслия.
Нужно такое счастливое стечение обстоятельств, которое отняло бы у человека способность отличать добро от зла и заглушило бы в нем всякое представление об ответственности. Вот эту-то именно задачу и выполняет привычка. И при этом она выполняет ее совершеннее и с несравненно меньшей суровостью, нежели другие факторы, в том же смысле споспешествующие, как, например: трусость, измена, предательство и т. п.
И трусость, и измена, и предательство предполагают известную долю насильства и боли, и – что всего важнее – нимало не обеспечивают от мучительных пробуждений совести, тогда как привычка обвивает человека бархатной рукой и бережно и ласково погружает его в мягкое ложе беспечального служительского жития…
Любо дремать, зарывшись по уши в пуховики; любо сознавать, что эти пуховики представляют своего рода твердыню. Забравшись в нее, человек не только освобождается от обязанности относиться критически к самому себе и к окружающей среде, не только становится на недосягаемую высоту патентованной благонамеренности, но и делается безответственным перед судом своей собственной совести. Ибо о каком же суде совести может быть речь, коль скоро самая совесть, вместе со всеми прочими определениями человеческого существа, потонула в омуте привычки?..
Но, кроме привычки, в деле умиротворения мне много помог и опыт. Опыт – это, так сказать, консолидированный свод привычек прошлого. Все уступки, компромиссы, соглашения, которыми так богата история личная и общая, все малодушия, обходы и каверзы – все это складывается, по мере осуществления, в кучу, надпись на которой гласит: опыт или мудрость веков. Действия героические, подвиги самоотвержения, факты, свидетельствующие о беззаветной преданности идее, – все это не более как красивые безумства, от которых никаких подспорий в жизни ожидать нельзя. Правда, что эти безумства освещают тьму будущего и что плодами их несомненно воспользуются грядущие поколения; но ведь, с одной стороны, подвижничество необязательно и не всякий может его вместить, а с другой стороны, как еще на эти красивые безумства поглядеть: иное, быть может, пользительно, а другое, пожалуй, и неблаговременно. Тогда как в той куче, которая именуется мудростью веков, за что ни возьмись – все пользительно. Трудность только в том разве состоит, как разобраться в куче, чтобы вытащить именно ту бирюльку, которая как раз впору. Но, во-первых, все бирюльки более или менее впору; а во-вторых, в данном случае из затруднения выручают очень простые приемы, которые тоже освещены опытом, например: загад, навык, наметка, глазомер…
Итак, привычка – приготовила мягкое ложе; опыт – обставил его всевозможными подтверждениями прошлого. Те боли, которые чувствовались вначале, очень скоро утратили свою жгучесть ввиду целой массы преданий, фактов и анекдотов, которые в один голос вопияли, что искони в основе человеческого счастья лежали служительские мысли и служительские слова. Сущность этих мыслей и слов формулируется кратко: «спасай себя!» – и человек, который серьезно посвятил себя осуществлению этой задачи и без задних мыслей признал законность ее, может быть заранее уверен, что благополучие его обеспечено. И – что́ всего важнее – обеспечено без особых усилий. Ибо стоит только отдать себя во власть волне современности, и она сама собой устроит такую блаженную обстановку, при которой воистину ничего другого не остается, как воскликнуть (не с мысленными оговорками, как бывало некогда, а по сущей совести и от полноты душевной): «Ежели я ничего не делаю – стало быть, и бояться мне нечего!»
«Ничего не делаю» – это идеал; но его все-таки не следует понимать буквально. Всмотримся ближе в его содержание, и мы убедимся, что он вмещает бесконечное множество разнообразнейших и деятельнейших подробностей. Сегодня поют девки в «Аркадии», завтра – будут петь в «Ливадии», послезавтра – в «Jardin des familles russes». И у всякой девки особые приметы, о которых во все концы гласит стоустая молва. Сегодня пьянство у Донона, завтра – у Дюссо, послезавтра – у Бореля. Изредка – газетные столбцы, от которых несет исподним бельем чичиковского Петрушки… *
Вот это-то именно и разумеют, когда говорят: «Ежели я ничего не делаю, стало быть…»
И совсем не так подла эта жизнь, как думают унылые люди. Мудрость веков самым несомненным образом свидетельствует, что с незапамятных времен так жили люди и не только не считали себя посрамленными, но даже от времени до времени восклицали: «Не постыдимся вовек!» Воистину обольщают себя те, которые думают, что так называемое общество когда-нибудь волновалось высшими вожделениями. В сущности, волновались только немногие, и, уж конечно, никто не скажет, чтоб существование этих немногих сколько-нибудь напоминало о благополучии. Почвенный же и русловой люд всегда и неизменно имел в виду только служительское благополучие. И он был по-своему прав, ибо какая надобность изнывать над отыскиванием новых жизненных идеалов, рискуя при этом прогневить начальство и насмешить массу однокорытников, тогда как существуют идеалы вполне формулированные, ни от кого не возбраненные и для всех однокорытников равно любезные?
Я знаю, что унылые люди все-таки не убедятся моими доводами и будут продолжать говорить: «Стыдно!» Но что́ такое стыд? – спрашиваю я вас. Предложите этот вопрос любому прихвостню современности, и он, не обинуясь, ответит: «Стыд есть вывороченная наизнанку наглость». Или, говоря иными словами, и стыд и наглость – игра слов, в которой то или другое выражение употребляется, глядя по делу. Поэтому когда до слуха моего доходит слово «стыд», то мне всегда кажется, что мимо пролетела муха и, никого не обеспокоив, исчезла в пространстве.
Итак, будем благополучны и не постыдимся. К этому приглашают нас привычка и опыт, а наконец и рассуждение… Да, хоть и кажется с первого взгляда, что в атмосфере служительских слов для рассуждения нет места, однако это справедливо лишь отчасти.
Рассуждение бывает большое и среднее (малое, как чересчур обидное, пускай останется в стороне). Большое рассуждение в служительском деле не только не имеет приложения, но даже прямо препятствует. Собственно говоря, его следует даже предварительно покорить, если хочешь удачно разрешить задачу: кто истинно счастливый человек? Случается, конечно, что и большое рассуждение может служить источником чистейших наслаждений; но тут уже предполагаются особенные люди и особенная, споспешествующая обстановка. Для людей средних и при средней обстановке потребно рассуждение среднее. Оно одно укажет человеку в перспективе безопасное служительское счастье, одно поможет примириться с этим счастьем и преподаст средства для его осуществления.
Это среднее рассуждение как раз кстати явилось ко мне на помощь. Оно убедило меня, что прежде всего следует обеспечить безопасность процесса своего личного существования. Жажда жизни, независимо от всяких обстановок (дурных или хороших), сама по себе столь существенна, что ей вполне естественно подчиняются все другие жизненные стремления и определения. Жить надо – вот главное, хотя бы слово «жить» было равносильно выражению «маяться». Люди, которые годами изнемогают под бременем непосильных физических страданий, люди, у которых судьба отняла не только радости, но и самое обыкновенное спокойствие, – и те омертвелыми руками цепляются за жизнь и коснеющим языком твердят: «Жизнь есть ликование». Жизнь – это жестокая неизбежность, и не всякому дано поднять против нее знамя бунта. Поэтому самая простая справедливость требует, чтобы существа, над которыми вечно висит этот дамоклов меч, имели, по малой мере, возможность принимать его удары без особенного изумления.
Услуги среднего рассуждения в этом случае неоцененны. Оно с необыкновенною ясностью убеждает, что жизнь обязательна, и затем указывает, для соглашения с нею, именно на те средства, которые в данную минуту благовременны. Оно не поведет в область эмпиреев, заблуждений и риска, а прямо предложит оголенную от всяких экскурсий жизнь, не блестящую и не особенно интересную, но зато общепризнанную и вполне защищенную. Но, главное, оно докажет, что все старое, колеблющееся, дававшее только кажущийся простор, исчезло навсегда! Да-с, навсегда-с. Что корабли сожжены, и, следовательно, ничего другого не остается, как совсем забыть о том, что они когда-то были.








