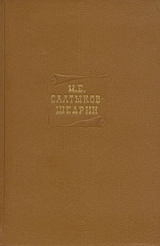
Текст книги "Том 16. Книга 1. Сказки. Пестрые письма"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)
Вопрос был поставлен так решительно, что даже кантонисты испугались и вытаращили глаза, а генерал Краснощеков, который в свое время, вероятно, не раз отдавал губернию на подержание куме, смутился и молчал. Что касается до Набрюшникова, то он находился в таком восхищении, что без слов декламировал руками.
– Но ведь несомненно, что подобные действия, рано или поздно, и сами собой вышли бы наружу, – попытался я возразить.
– Сами собой-с? или, говоря другими словами, при помощи скандала-с? через посредство газетных корреспондентов-с? Покорнейше благодарю-с.
Умница привстал и поклонился; за ним, машинально, тот же жест повторил и Набрюшников.
– Но разве непременно необходим скандал? а келейно?
– Нельзя-с. Коль скоро обстановка нарушена и некому, в законном порядке, начальственную неосмотрительность ограничить, другого выхода, кроме скандала, нет-с. Да в наше время, признаться, келейностей-то и не признавали. Открыто действовали, не опасались. В сорок седьмом году, когда Фрол Терентьич Балаболкин по неосмотрительности три четверти города спалил, а остальную четверть, по строптивости характера, в кандалы заковал, прислали за ним из Петербурга фельдъегеря, посадили в тележку и увезли-с.
Все взоры на минуту устремились на Балаболкина, который, не подозревая, что о нем идет речь, тяжело сопел и в полудремоте бормотал: «Направляй кишку! направляй! направляй! направляй!»
Лицо его было бледно, как бы измучено, и в то же время выражало совсем нерезонную непреклонность. С первого взгляда по этому лицу нельзя было угадать, что именно этот человек в состоянии предпринять, но ежели скажут – всему поверить можно. Что касается до меня, то в свое время и я слыхал рассказы об этом путешествии на тележке, но, признаюсь, считал их баснословием. И вдруг бог привел встретиться лицом к лицу с самим виновником торжества!
А «умница» между тем продолжал:
– А как вы о губернских правлениях полагаете? * Легко было с ними ладить? Разве те они были, что теперь? Разве мог я советником помыкать: извольте, государь мой, подавать в отставку; вы мне не нравитесь, вы с дамами обращаться не умеете? В наше время, сударь, у советника-то поясница железная была, голос как у протодиакона; весь он, бывало, пропитанный сводом законов ходит, и у всех, на обеде ли, на вечеринке ли, – везде первый гость. И у преосвященного – свой человек. У меня один такой-то был, так я каждый день с ним до седьмого пота спорил. Я говорю свое, а он – свое; иногда – я его, иногда – он меня. Неприятно оно – что и говорить! – но, с другой стороны, и тут для начальствующего лица проверка. Пробовал было я, на первых порах, начальству докучать: возьмите, говорю, от меня сего строптивого чиновника! – а мне в ответ: «Не угодно ли, предварительно, факты таковой строптивости представить!» Факты-с! вот ведь какое слово было! а нынче и выговорить-то его порядком не всякий сумеет!
– Но ведь они взятки брали, советники ваши! Кому же это наконец не известно!
– Не отрицаю, дело возможное-с. Только скажу вам одно: если бы люди с таким умом и с такими познаниями жили в нынешнее время, то, судя по нынешней жадности, миллионерами бы они были – вот что-с! А я между тем из современников моих только одного советника губернского правления и знал, который настоящее состояние себе составил. Да и тот впоследствии в монахи постригся, а капиталы свои на Афон пожертвовал.
– И все-таки позволяю себе думать, что относительно фактов можно было бы и поснисходительнее взглянуть. Ведь губернское правление – это, так сказать, домашнее учреждение, в котором и допустить разноголосицу неудобно. А притом же советник-то, об увольнении которого вы просили, подчиненный ваш был… отчего же бы вам удовольствие не сделать?
– Да вы читали ли, молодой человек, «Учреждение губернских правлений»? Прочтите-с. Это не закон, а музыка-с. Никаких домашних учреждений в государстве не полагается-с. И учреждения, и формы – все пригнано так, чтобы пределы обозначить. И советники совсем не подчиненные были, а члены коллегии-с. Бывало, принесут журналы-то губернского правления, так в ином пальца три толщины, и всякий об особенном деле трактует! И весь он задом наперед написан: сперва конец, потом начало, а середину – сам ищи! Читаешь – и постепенно тебя объемлет. А в заключение: подтвердишь.
– И подтверждали-с! – весь сияя восторгом, воскликнул Набрюшников.
– А затем и посторонние ведомства * . Нынешняя наука в них препятствие видит, а старая видела полезное разделение властей. И это, в свою очередь, пределы полагало. Я полагаю: вот так поступить, а, например, ведомство государственных имуществ – вот этак. Мы и переписываемся.
– Воля ваша, а это положительное расхищение власти!
– По-нынешнему – так. Даже странным кажется, ежели кто возражает. А в старину требовалось, чтоб власть сама себя оправдывала, а не ради того одного властью называлась, что ей мундир присвоен. Мундир давал внешние преимущества – этого и достаточно. Бывало, у обедни в соборе – я впереди всех стою; у головы на пироге – мне первый кусок; на бале в польском – я с предводительшей в первой паре; в заседании комитета – я на председательском месте; по губернии на ревизию поехал – от границы до границы уезда впереди исправник скачет; в уездный город приехал – купцы хлеб-соль подносят; уезжать собрался – провожают… Польщен, уважен, почтен, сыт – каких еще знаков больше!
При этом кратком перечне почестей, которыми окружена была дореформенная губернаторская власть, у всех стариков глаза разгорелись. Даже Гвоздилов позабыл, что у него на душе постыдное дело лежало, и щелкнул языком.
– А то, помилуйте! мундир во всей силе остался, а обстановка – упразднена!
– Ваше превосходительство! но разве можно так решительно утверждать, что обстановка упразднена? А суды? а земство? Разве это…
– Знаю-с; но ведь последнее слово науки в этих учреждениях расхищение власти усматривает. Я же, с своей стороны, скажу вам: суды и прежде, и нынче – всегда судами были. Всегда они особняком стояли, а ежели последнее слово науки и дразнится независимостью, так это, во-первых, одно пустословие, а во-вторых, к вопросу о прерогативах власти совсем не относится. И прежде выберут, бывало, отставного прапора в председатели, – смыслу в нем ни капельки, а попробуй-ка кто-нибудь коснуться к нему! Что же касается земства, то разве наука ваша принимает его всурьёз? И тут она только дразнится и малодушествует. Ах, молодой человек, молодой человек! нынче даже сенат * – и тот предостерегающее значение утратил… Сенат-с!!
При упоминовении о сенате в комнате водворилась такая тишина, что даже лакей, убиравший со стола тарелки, и тот остановился как вкопанный. Первый нарушил очарование Набрюшников, но и то шепотом, единственно по чувству преданности.
– Нынче даже радуются, ежели сенат огорчен, – шепнул он соседу своему, Купидонову.
– Всё упразднено-с, – заключил Покатилов слабеющим голосом, – «надзор» – упразднен-с, коллегия – упразднена-с, а что вновь установлено, то в смешном и вредном виде представляется…
«Умница» махнул рукою и умолк. На его место, в роли обличителя, выступил генерал Чернобровов.
– Сенат-с, – сказал он, – а особливо московские оного департаменты… * Это, я вам доложу, в своем роде антик был! Указы-то, бывало, охапками с почты таскают, так что ежели посторонний человек при этом случится, так только руками разведет: неужели, мол, на всю эту охапку отвечать надо? А там спустя время пойдут и донесения на охапку: «Зачем, по присланному из сената указу, исполнения учинить невозможно». Принесут, бывало, из губернского правления охапку рапортов – иной в палец толщины – так только об одном думаешь: все ли тут откровенно написано? И ежели чуть где заметишь: «К сему необходимо присовокупить», или вообще умствование какое-нибудь – «те-те-те, голубчик! прошу от умствований уволить! сенат и сам разберет, что худо, что хорошо, – нечего его наводить!» Вот, мой друг, какие мы, старики, чувства к сенату питали!
– Всякий, бывало, ябедник, и тот в сенат, – заикнулся было Гвоздилов, но вспомнил, что у него на душе постыдное дело лежит, и замолчал.
– И ябедники свою долю пользы приносили-с, – холодно заметил ему Покатилов.
– Ябедники! Но ведь это язва! – воскликнул я.
– И они предел полагали-с.
Я был побежден. Какой, однако ж, изумительный механизм! сколько гарантий! Губернский прокурор – раз, губернский штаб-офицер – два, губернское правление – три, посторонние ведомства (в том числе и начальник земской конюшни) – четыре, почтмейстер – пять, ябедники – шесть. И в облаках – сенат… московские оного департаменты!
И никто не жаловался, что много, никто не кричал: караул! власть расхищают! Вот бы когда хоть чуточку пожить!
Правда, что перед моими глазами сидели такие два экземпляра минувших дней, которые не весьма свидетельствовали в пользу устойчивости гарантий, а именно: Балаболкин и Пучеглазов (а очень вероятно, и Гвоздилов с Краснощековым); но ведь зато Балаболкин и проехался с жандармом в тележке. Что же касается до Пучеглазова, то он и до сих пор хорошенько не знает, каким образом он губернаторства лишился. Догадывается, только, что, должно быть, правитель канцелярии подсунул ему прошение об отставке подписать, а его и уволили. Так ведь и это своего рода гарантия. Кабы дать Пучеглазову волю, как этого требует последнее слово науки, так он, чего доброго, всю бы губернию сквозь строй прогнал, а правитель канцелярии понял это и упредил.
Было двенадцать, но никому и в голову не приходило, что это час привидений. Напротив, все продолжали сидеть за столом, совсем как бы живые. Но если б не крикнул в эту минуту на соседнем дворе петух – конечно, нельзя поручиться, какое превращение могло бы произойти!
Однако все обошлось благополучно, и любезный хозяин первый ободрил нас, подновив потухающую беседу рассуждениями на тему распорядительности.
– Вот вы сейчас о пределах слышали, – сказал он, – но не думайте, что ежели кто предел исполнил, тот уж освобождался от распорядительности. Требовалось, чтоб губернатор и в пределах оставался, и в то же время хозяином во всей губернии был, чтоб везде сам. Дорогу березками обсадить, пожарную трубу выписать, новый шрифт для губернской типографии приобрести, мостовые в городе исправить, бульвар устроить, фонари на улицах завести – вот задачи, которые, в старину, каждый начальник губернии обязан был выполнить. А затем и все остальное. Условился я, например, с начальником земской конюшни, чтоб по всей губернии лошади у крестьян были саврасые, – и выполнил. И не мерами строгости и понуждения я результатов достиг, а единственно с помощью распорядительности. И так эта масть у нас прижилась, что после того сколько ни старались создание мое разрушить, а и теперь еще в захолустьях крепкая саврасая порода сердце поселянина радует!
– Его превосходительство изволили московский тракт березками усадить, – присовокупил Набрюшников, почтительно указывая на Покатилова, – а после них приказали эти березки рубить. И что же-с! даже посейчас в ином месте березка целехонька стоит!
– Так вот что́ значит, мой друг, распорядительность! – обратился ко мне Чернобровов, – только раз ее стоит проявить, так потом века невежества пройдут, но и те плоды ее вполне истребить не смогут! Хоть одна березка, а все-таки останется.
– И просвещение, и продовольствие, и народная нравственность, и холера, и сибирская язва, и оспа – в одной горсти было! – вторил Чернобровову Набрюшников.
– И на все хватало времени. А нынче куда все это девалось? Говорят: отошло… но куда?
– Да туда же, куда и все прочее: измором изныло! – несколько раздраженно откликнулся Покатилов.
Воцарилось глубокое и скорбное молчание, до краев переполненное вздохами. Прасковья Ивановна потихоньку встала и отворила в соседней комнате форточку.
– Ваше превосходительство! ведь вы такую картину современности нарисовали, что трудно даже представить, как люди жить могут! – обратился я к Покатилову.
– Разве жизнь от нас зависит-с? Предоставлено нам жить – и живем-с.
Эти странные слова еще больше усилили общее уныние. А тут еще и Краснощеков подбавил.
– Бывало, я еду по губернии – и понимаю! – воскликнул он, грозя очами, – и себя самого, и других – все понимаю! Направо посмотрю и налево посмотрю – вижу-с! Чуть ежели что – стой! вылезу из экипажа и распоряжусь-с! А нынче «он» что? Потуда он себя и чувствует, покуда из квартиры до вокзала железной дороги, облаком одеянный, едет! Приехал, сел в вагон – что «он» такое? – кладь-с! Везут его, как и всякую прочую кладь, а куда везут – он не знает! Силу пара остановить не может, рельсы с дороги снять – не имеет права! задний ход дать – не умеет! А ежели на станции шуметь начнет – сейчас протокол. И пойдут перед всем честным народом разбирать, в какой силе он шум производил «при исполнении» или просто в качестве разночинца. Срам-с.
– Направляй кишку! – взвыл во сне Балаболкин и в то же время так сильно покачнулся вбок, что едва не свалился со стула.
Это была последняя вспышка; приближался процесс старческого разложения. У всякого что-нибудь затосковало. У Чернобровова – нога, у Покатилова – лопатка, у Краснощекова – поясница. Все чувствовали потребность натереться на ночь маслицем и надеть на голову колпак. Даже дамы не без умысла любопытствовали, какое сегодня число?
Увы! передо мною приподнят был лишь край таинственной завесы, скрывавшей прошлое! Собственно говоря, я получил более или менее ясное представление только о «пределах»; о творческой же деятельности дореформенных губернаторов я знал только одно: что они могли распространить саврасую масть. Но как они относились к сокровищам, в недрах земли скрывающимся? Как понимали вопрос о движении народонаселения? Одобряли ли заведение фаланстеров? доставляли ли в срок сведения, необходимые для издания академического календаря, и в каком смысле: тенденциозные или наивные? Признавали ли пользу травосеяния? верили ли в чудеса, или считали оные лишь полезным мероприятием в видах обуздания простолюдинов? Находили ли достаточною существующую астрономическую систему, или полагали оную, для пользы службы, отменить? провидели ли гессенскую муху, сусликов, кузьку, скопинский банк, саранчу? Какими идеалами руководились при определениях, увольнениях и перемещениях? – вот сколько вопросов разом пронеслось передо мной, и все они остались такою же загадкой, как и в то утро, когда генерал Чернобровов благосклонно почтил меня приглашением.
По примеру прочих, я уже собрался встать, как встретил устремленный на меня взор Купидонова, который как бы говорил: так неужто же от меня и научиться уж нечему?
– Может быть, и вы имеете что-нибудь сказать, полковник? – обратился я к нему.
– Немногое, – ответил он, – но тоже в своем роде… Первые мостки через Неву я еще при блаженной памяти Александре I устраивал и затем ежегодно, весною и осенью, в течение тридцати лет, нес на себе эту обязанность. И сошлюсь на всех: каковы были дореформенные мостки и каковы нынешние?! Только и всего.
Он простер руку и щелкнул языком. Но уже вряд ли кто из стариков порядком слышал его слова. Только Прасковья Ивановна слегка плеснула руками, но и то, по правде сказать, больше в знак благодарности за провесную белорыбицу, которую Купидонов в этот вечер для закуски доставил.
Через пять минут я был уж дома. В душе у меня была музыка, так что когда кухарка, вся заспанная, отворяла мне дверь, то первые мои слова, обращенные к ней, были:
– Ах, Мавра, Мавра! ты спишь, а того и не подозреваешь, что я весь вечер сегодня провел… с утешением сената!
Письмо VII *
И что же на другой день оказалось!!
Что весь вчерашний вечер я провел среди членов тайного общества «Антиреформенных Бунтарей»!
Покатилов – глава и основатель общества; Краснощеков – человек судьбы, долженствующий, в случае надобности, выехать на белом коне; Пучеглазов – правая рука; Балаболкин – левая; Набрюшников – вестник; Гвоздилов – предатель. Словом сказать – вся обстановка, не исключая и дам, на которых возложено щипание корпии и приготовление бинтов.
Как, однако ж, обманчива наружность! До сих пор я представлял себе члена тайного общества не иначе, как в виде взъерошенного человека, который питается сильно действующими веществами и по́ходя изрыгает из себя подпольные прокламации, – и вдруг что же увидел? – Самых обыкновенных плешивых стариков, которые даже твердой пищи разжевать не в силах, которые не то говорят, не то урчат и вообще ведут себя до того тлетворно, что без хорошего вентилятора с ними невозможно быть! А между тем в них-то именно и засело потрясение основ! Поди угадай!
Общество Антиреформенных Бунтарей имеет обширные разветвления по всей России, но существенные распоряжения разрабатываются предварительно на Песках и отсюда уже расходятся, в виде лозунгов, по всем захолустьям. В провинции главный контингент общества составляют отставные исправники, при благосклонном содействии господ предводителей дворянства. В столице – отставные губернаторы, при благосклонном содействии любителей, не пожелавших, чтоб имена их были известны.
У общества имеется свой устав и своя печать. Устав написан так, что можно читать и сверху и снизу и затем, вынув середку, опять читать. Печать изображает птицу с распростертыми крыльями, * обращенную головою вниз; под нею девиз общества: «Поспешай обратно».
Цель общества: восстановление московских департаментов сената. А сверх того – и всё остальное.
Махинации общества долго оставались незамеченными; но в последнее время за ними стали следить, так как дошло до сведения, что для Краснощекова уже приторговывают белого коня. И ежели бы вчера вечером околоточный не позабыл подать свисток, то очень может быть, что теперь…
– Мавра! Мавра! куда я попал!
Все это сообщил мне Купидонов. Он тоже член общества, но притворный. С помощью икры, провесной белорыбицы и других, не особенно ценных, подарков он успел овладеть доверием женщин и через них узнать корни и нити. * В последнее время он приобрел очень ценное сведение: узнал имя извозчика, у которого продается белый конь. На всякий случай Купидонов тоже вооружен свистком, который он мне и показывал. Видом своим этот свисток напоминает трубу, которую мы в свое время услышим на Страшном суде.
Тем не менее Купидонов рассказывал все это так непоследовательно и противоречиво, что я долгое время не знал, следует ли мне испугаться или не следует. Так, например, сначала он сказал, что свисток ему подарил «генерал» в знак особливого к нему доверия. Но через минуту хвалился, что он этот самый свисток приобрел по случаю у отставного околоточного за шесть гривен. То же самое и насчет коня: никак нельзя было понять, слепой он или зрячий… Однако, рассудив зрело, я пришел к убеждению, что испугаться во всяком случае безопаснее. Может быть, Купидонов и пустяки нагородил, а все-таки недаром пословица говорит, что береженого бог бережет.
На этом основании я сейчас же раскрыл все ящики моего письменного стола и, к ужасу своему, нашел в них два глубоко компрометирующих письма. В одном меня уведомляли, что в конспиративной квартире три заговорщика уже собрались и с нетерпением ожидают четвертого, дабы «приступить». В другом – сообщали, что «рецепт порошка возвращается с благодарностью»… Поди доказывай, что в первом письме говорится о «винте» * , а не о революции, а во втором – зубном порошке, а не о динамите! Сейчас же, тайно от кухарки Мавры, я сжег оба документа и пепел развеял по ветру. Затем взял шапку и побежал к Чернобровову, чтобы заявить ему о своем несочувствии…
Но было уже поздно: вся наша лестница была запружена понятыми. А через час нас всех направили «в комиссию»… Тайных советников повезли в извозчичьих каретах, меня – повели пешком.
Молчание.
Современники не должны знать о такого рода делах, ибо они секретные. Впоследствии, когда тайности мрака времен сами собой выступят на скрижали истории, потомки с удивлением узнают, в каких преступлениях погрязли их предки. А до тех пор я могу открыть только следующее: что лишь благодаря целому ряду ловко обдуманных alibi я успел выйти из дела неповрежденным…
Через два часа наше дело округлили и уже собрались отпустить нас на все четыре стороны, как вдруг при проверке арестантов оказалось, что одного нет налицо: Гвоздилов бежал из-под стражи. Сию минуту разослали во все стороны хожалых, а через короткое время один из них принес вицмундир Гвоздилова, найденный на берегу Невы, за Калашниковскою пристанью. Увы! почтенный старик предпочел добровольную смерть ожидавшему его позору разоблачения.
Потужили, составили протокол и, как водится, рассказали несколько анекдотов из жизни покойного, не к стыду его относящихся. И так как адмиральский час уже наступил, то презус округлительной комиссии велел подать водку и, наполнив рюмку, помянул безвременно погибшую жертву охранительного недоразумения. Причем счел не лишним выразить предположение, что с самого основания Петербурга Гвоздилов явил собой едва ли не первый пример тайного советника, обретшего забвение своих вин в хладных объятиях Невы, но что, впрочем, нужно надеяться, что сей первый пример будет и последним. Ибо даже в самые горькие минуты жизни человек не имеет права распоряжаться сим драгоценным даром творца, но обязан с покорностью выжидать начальственных по сему предмету распоряжений.
Наконец момент расставания наступил. Объявляя нам свободу, презус комиссии нашел полезным произнести напутственное слово, допустив в нем некоторые, не лишенные язвительности, оттенки.
– Господин тайный советник Покатилов! – сказал он, обращаясь к главе заговорщиков, – что преступление, в котором обвиняетесь вы и ваши почтенные единомышленники, было действительно вами совершено, это не подлежит для меня никакому сомнению. Вы собирались по ночам в конспиративной квартире; вы замышляли переворот в пользу восстановления московских департаментов сената, а затем и всего остального; у вас найдены значительные запасы корпии и бинтов, что свидетельствует, что замыслу вашему не чуждо было и предположение о кровопролитии… Все это доказано достоверными свидетельскими показаниями, так что ежели бы к действиям вашим применить общепринятые понятия о возмездии, то я не ручаюсь, что вы вышли бы отсюда неповрежденными. Но комиссия наша рассудила иначе. Она нашла, что намерения ваши столь благовременны и столь тайным советникам свойственны, что мне ничего другого не остается, как сказать вам: идите с миром и продолжайте вашу благонамеренно-преступную деятельность! Об одном прошу вас: будьте осмотрительны в выборе ваших соумышленников! Не увлекайтесь мишурою популярности! не допускайте необдуманных и опасных сближений! Помните, что коварство на каждом шагу подстерегает вас и что благодаря ему благовременное может сделаться неблаговременным и благонамеренное – неблагонамеренным.
Затем, обратившись ко мне, он продолжал:
– Вы свободны. Благодаря вашей ловкости Немезида правосудия и на сей раз остается неудовлетворенною. Но знайте, что ежели настоящее исследование не дало вполне непререкаемых улик для определения характера и состава содеянного вами преступления, то намерения, которые одушевляют вашу общую деятельность, ни для кого уже не составляют тайны. Довольно! без возражений! Я не для того обращаю к вам речь, чтобы вступать с вами в пререкания, а для того, чтоб вы прониклись моими благими пожеланиями и приняли их к руководству. Sapienti sat [54]54
Мудрому достаточно.
[Закрыть].
Высказавши это, презус щелкнул каблуками (хотя он был штатский, но торжественность минуты до такой степени покорила его, что он без шпор не мог себя мыслить) и вышел. На прощанье он послал воздушный поцелуй в сторону тайных советников, а в мою сторону погрозил очами.
Я возвращался из комиссии с понурой головой и с завистью смотрел на генерала Краснощекова, который шел впереди, горделиво выгнув шею и выделывая ногами лансады. К тому же я чувствовал, что у меня что-то ползет по спине: очевидно, это был клоп, которым, в отместку за отсутствие улик, меня снабдили в комиссии. Несколько раз я порывался нанять извозчика, чтоб поскорее попасть домой; но извозчики пристально осматривали меня с головы до ног и, ни слова не говоря, настегивали лошадей. Очевидно, печать преступления, несмотря на короткое время, уже успела лечь неизгладимым клеймом на моем челе.
Тщетно исследовал я свое житие, чтоб уяснить себе, что́ именно могло внушить почтеннейшему презусу округлительной комиссии столь невыгодное мнение об общем характере моей деятельности, – я не припоминал в прошлом ни одного факта, который подтверждал бы это мнение. Правда, что я либерал – это так точно, ваше превосходительство! – но либерал до такой степени скромный и смирный, что даже в участке, в графе: «чем занимается», – прописан: «всего опасается». Живу я уединенно, беседую с кухаркой Маврой и не только оружия, но даже простого тесака у себя в квартире не имею. Один только и есть за мной грех: от времени до времени пописываю – ну, да ведь нельзя же совсем уж закоченеть, потому только что кругом дым коромыслом стоит…
Но и в писаниях своих я в высшей степени скромен. Я не препятствую так называемым консерваторам быть консерваторами, не обвиняю их ни в измене, ни в революционных замыслах и не удивляюсь, что из их лагеря сыплются насмешки и обличения на либерализм. Все это в порядке вещей, все так и следует. Но когда эти люди для защиты своих мнений прибегают к предательским полемическим приемам – признаюсь, это меня возмущает. По моему мнению, это – гнусность, в которой нет надобности ни для оживления столбцов, ни для розничной продажи.
Поэтому, когда я устно или печатно заявляю, что всякое убеждение, какова бы ни была его окраска, может и должно быть защищаемо без подвохов (а я покуда именно только этого и добиваюсь), то мне положительно никогда не приходит на мысль (или, по крайней мере, до сих пор не приходило), чтобы подобное заявление заключало в себе попытку на потрясение основ и непризнание авторитетов. Я просто-напросто призываю к честности и опрятности – и ничего больше…
Но, к сожалению, приходится убедиться, что, при известных обстоятельствах, и потрясения, и посягательства – все бледнеет и стирается перед вопросами о каких-то личных привилегиях самого низменного свойства. Так что если б я завел в своей квартире целый склад тесаков, то в глазах очень многих людей это действие представлялось бы менее вредным, нежели, например, выражение удивления по поводу какого-нибудь бесшабашного публициста, * который, засевши по уши в грязь, брызжет ею во всех, имеющих дерзновение не признавать его мудрецом.
Так, мало-помалу, мельчает и вырождается старинная распря между либералами и охранителями. Содержание спора все больше и больше тускнеет, а на место его выступают микроскопические детали и подвохи, которым, ради декорума, присвоивается наименование ловких приемов. И очень возможно, что недалеко время, когда, по воле всемогущих судеб, либерализм совсем очутится вне боя, а охранители, почувствовав себя окончательно свободными от всякой узды, будут на всей своей воле без пороху палить в пустое пространство…
Я знаю, найдутся читатели, которые скажут, что все описанное выше не только преувеличено, но просто-напросто представляет сплошную небывальщину. Замечание это, впрочем, нимало меня не смутит, потому что я и сам вполне с ним согласен. Я лучше, нежели кто-нибудь, знаю, что в натуре не было ни умницы Покатилова, ни рыцаря Краснощекова, ни жен их, ни наперсников, ни конспиративной квартиры на Песках, ни тайного общества Антиреформенных Бунтарей. Никогда ничего подобного я не видал, о необходимости восстановления московских департаментов сената ни от кого не слыхал и за подобные разговоры ни в какую комиссию призываем не был. Но и за всем тем, я утверждаю по совести, что все написанное мною об этом предмете с подлинным верно и что ежели, например, не существует в натуре общества антиреформенных бунтарей, то существует дух времени, который нельзя назвать иначе, как антиреформенно-бунтарским, и который с каждым днем приобретает все большую и большую авторитетность.
Я утверждаю, что этим духом пропитана вся влиятельно-интеллигентная Россия и что конспиративные сетования, раздающиеся на Песках (зри выше), во сто крат менее карикатурны, нежели те, которые на каждом шагу приходится слышать и на улицах, и в публичных местах, и – по преимуществу – в салонах и кабинетах. Везде мы встречаемся с несомненными сивыми меринами, которые пропагандируют несомненно полоумные фантазии и бреды и, не обинуясь, присвоивают им наименование политических и административных программ.
Поэтому, ежели читатель справедлив, и притом не ограничивается одним буквальным пониманием читаемого, то он будет вынужден признать, что в предыдущем моем письме я не только ничего не преувеличил, но, во многих отношениях, стоял далеко ниже действительности. А сверх того, у меня имеется в запасе и еще одна оправдательная оговорка: подождите! Почем вы знаете, чем чревато будущее? Ведь перспективы бредов до такой степени растяжимы, что никакая карикатура не в силах наметить границу, где обязательно должен завершиться их цикл.
По моему мнению, в общем нестройном хоре антиреформенной разнузданности умница Покатилов выделяется с несомненною для себя выгодою. Сопоставления, на которых он основывает свои тяготения к дореформенности, не лишены некоторых странностей, но в то же время свидетельствуют о замечательном остроумии и подлинной резонности. Логический ум старого практика не допускает ни разброда, ни скачков, ни игры в прятки, ни даже рыцарских порываний неведомо куда (в чем достаточно изобличается, например, благородный генерал Краснощеков), но прямо укрывается под сень закона и в нем отыскивает все, что нужно для того, чтоб утешить сенат. Покатилов отнюдь не притворяется, являясь горячим защитником гарантий; нет, он воистину понимает, что без гарантий невозможно существовать ни правящим, ни управляемым. Конечно, обстановка, в которой он представляет себе обеспеченность, несколько устарела и, в сущности, сама не весьма обеспечена, но это уж вина не его, а его времени. Он воспитан в идеалах самой простецкой обстановки и других, более утонченных форм легальности не знает. Но так как он относится к своим «простым» идеалам без малейшего глумления, и притом всякому недовольному его действиями охотно рекомендует: идите, жалуйтесь! вон сколько гарантий начальством для вас наготовлено! – то, очевидно, в нем происходит в это время процесс, довольно близкий к представлению об ответственности. Ибо как ни прост обыватель, но и ему, ввиду указания гарантий, может прийти в голову: а что, в самом деле! пойду да и пожалуюсь!








