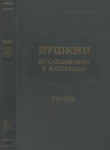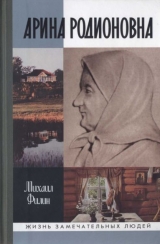
Текст книги "Арина Родионовна"
Автор книги: Михаил Филин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Глава 6
ПОСЛЕДНИЕ МИХАЙЛОВСКИЕ ЛЕТА
…Хозяйка сени той…
H. М. Языков
Доставленного в Москву 8 сентября 1826 года Александра Пушкина («небритого, в пуху, измятого» [334]334
Анненков П. В.Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 324.
[Закрыть] ) встретили на удивление радушно и хлебосольно. Император Николай I, недавно коронованный, в ходе продолжительной аудиенции в Чудовом дворце не только объявил поэту о прощении, но и пожелал впредь быть первым читателем и цензором пушкинских произведений [335]335
Как показало время, эта высочайшая милость не избавила Пушкина от всевозможных хлопот, в том числе в сношениях с обыкновенной цензурой.
[Закрыть]. Столичное общество пришло в восторг и от рыцарственного благородства царя, и от самого помилованного поэта. Тотчас погрузились в чернильницы перья – и наперегонки полетели из Москвы во все концы империи эпистолии с описаниями сенсации.
Одним из первых откликнулся на «прекрасную новость» барон А. А. Дельвиг, находившийся в Петербурге. Поздравив 15 сентября лицейского друга с «переменой судьбы», он, однако, тут же выразил свою озабоченность, и вот чем: «Душа моя, меня пугает положение твоей няни. Как она перенесла совсем неожиданную разлуку с тобою» (XIII, 295).
Разумеется, задавался этим волнительным вопросом и сам Пушкин. Спустя неделю после возвращения в родной город, 16 сентября, он, несмотря на занятость и «нескладицу образа жизни», написал (на французском языке) уже второеписьмо П. А. Осиповой. Оно было призвано окончательно успокоить обитательницу Тригорского [336]336
Первое , обнадёживающее, письмо увозимый фельдъегерем в Москву Александр Пушкин успел отправить из Пскова 4 сентября (XIII, 294, 558).Можно предположить, что содержание дорожной записки поэта П. А. Осипова пересказала Арине Родионовне.
[Закрыть]. Поведав Прасковье Александровне о том, что государь принял его «самым любезным образом», поэт заодно признался, что «уже устал» от московских празднеств, «начинает вздыхать по Михайловскому, то есть Тригорскому», и намерен отправиться туда «самое позднее через две недели» (XIII, 296, 559).
Так, через преданную соседку, он оповестил и нянюо благополучном исходе свидания с августейшей персоной и о своём скором приезде в псковскую деревню.
Но светские и литературные обязательства, дружеские пирушки и сердечные дела переиначили планы Пушкина. Он задержался в Москве ещё на целых полтора месяца и смог покинуть «святую родину» только в дождливую ночь на 2 ноября. Поругивая в коляске «отвратительную дорогу и несносных ямщиков» (XIII, 301, 561),сломав в пути два колеса, взяв перекладных и всё-таки одолев злополучные 800 с лишком вёрст, поэт оказался в сельце Михайловском, судя по переписке и другим документам, 9 ноября.
Тут-то, «в своей избе» (XIII, 302),Пушкин и узнал доподлинно – от П. А. Осиповой и иных деревенских жителей, – какпереносила Арина Родионовна отсутствие «ангела».
Впрочем, кое-что Александр Пушкин, вернувшись «вольным в покинутую тюрьму» (XIII, 304),увидел и услышал сам. В день возвращения поэт засел за письмо князю П. А. Вяземскому – и начал с того, что поразило его всего более:
«Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни – ей богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр<очее>. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70 лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы вероятно сочинённой при ц<аре> Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом» (XIII, 304; выделено Пушкиным).
Очевидно, счастливая Арина Родионовна пригласила тогда в дом священнослужителей из приходского храма «пригорода Воронич Опочецкого уезда во имя Воскресения Христова» [337]337
Поимённый состав причта этой церкви приведён в очерке: Новиков Н.С. Летопись сельца Михайловского и окрестностей, которую вели местные священнослужители // Христианская культура. Пушкинская эпоха: По материалам традиционных христианских пушкинских чтений. Вып. XII. СПб., 1996. С. 42. См. также в кн.: Духовный труженик: А. С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб., 1999. С. 205.
[Закрыть] , и те совершили благодарственное моление по случаю избавления раба Божия Александра от всяческих напастей. А выученная старушкой молитва была, как полагают учёные, апокрифической, относящейся к разряду народных заклинаний [338]338
Сумцов.С. 115.
[Закрыть] . Вероятно, кому-то из «хамов» пришлось неоднократно повторять её вслух при няне – до тех пор, покуда Арина Родионовна не затвердила магические слова.
Хотя Пушкин и припудрил эпистолярный рассказ изрядной долей иронии, однако он не скрыл от приятеля своей растроганности. Видимо, князь П. А. Вяземский понял эти чувства и в ответном письме из Москвы (от 19 ноября) учтиво полюбопытствовал у поэта относительно его отличившейся няни (XIII, 306).
Главным «делом» для Пушкина во время пребывания в Михайловском поздней осенью 1826 года стала работа над запиской «О народном воспитании», которую он принялся составлять по прямому указанию императора Николая I. Это ответственное и трудное задание было своеобразным экзаменом для прощённого поэта: правительство ждало от него не только творческих размышлений по данному вопросу, но и убедительных доказательств политической благонадёжности.
К середине ноября Пушкин, измарав немало листов «третьей масонской» тетради, окончил-таки свои «недостаточные замечания о предмете столь важном, каково есть народное воспитание» (XI, 47).Под переписанным набело текстом, сшитым в специальную тетрадь (ПД № 1734), он поставил дату: «Михайловское. 1826. Ноябр<я> 15» [339]339
Цит. по: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. 2: 1825–1828 / Сост. М. А. Цявловский, Н. А. Тархова. М., 1999. С. 202.
[Закрыть] . (Позже, в декабре, царь, ознакомившись с рукописью, отметил, что пушкинские рассуждения «заключают в себе много полезных истинн»; XIII, 315.)
Отложив в сторону тягостную «презренную прозу» (XIII, 310),поэт обратился к стихам. Он и дописал пятую песнь «Евгения Онегина», и воспел – как бы откликаясь на услышанную по приезде чудную молитву – находившуюся рядом Арину Родионовну.
«Мысль его то и дело к ней возвращалась» (В. Ф. Ходасевич) [340]340
Ходасевич.
[Закрыть] .
Существует весьма основательное мнение, что именно между 15 и 22 ноября 1826 года Пушкин сочинял послание <«Няне»> [341]341
Это знаменитое стихотворение датируется по-разному: кто-то относит его к 1827 году (П. В. Анненков), другие же считают, что стихи были написаны в 1826 году, но ещё в Москве – «в конце сентября-октябре» (Т. Г. Цявловская) или «в конце октября» (Р. В. Иезуитова). Мы же склонны доверять датировке, предложенной В. А. Елисеевой; обоснование её дано в статье: Елисеева В. А.К вопросу о датировке стихотворения Пушкина «<Няне>» («Подруга дней моих суровых…») // ВПК. Вып. 24. Л., 1991. С. 140–143.
[Закрыть] . Оно было занесено чернилами в ту же «третью масонскую» тетрадь. Сохранившийся вариант стихотворения считается беловым автографом с авторской правкой:
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На чёрный отдалённый путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе (III, 33).
Завершил ли поэт послание к «маме», поставил ли осязаемое единственно им, художником, многоточие посреди тринадцатого стиха или нет, – остаётся загадкой [342]342
Ср.: «Стихотворение осталось как бы не законченным, и таковым считают его исследователи <…>. На мой взгляд, стихотворение закончено в художественном отношении. Эта кажущаяся незаконченность выражает незаконченность или, точнее, бесконечность любви» (Сумцов.С. 115).
[Закрыть] . Мы знаем определённо только то, что Пушкин никогда не напечатал эти интимнейшиемихайловские стихи.
(Одну из причин их сокрытия от публики – явно не главную, но существенную – следует, возможно, искать в изменившихся в конце двадцатых – начале тридцатых годов отношениях поэта к отцу и матери. После пушкинского возвращения из ссылки в разобщённой ранее семье – при посредничестве родни, друзей и приятелей Пушкина – постепенно и трудно стало утверждаться согласие. Сначала появились едва приметные признаки перемирия, потом был заключён хрупкий «худой мир», а в итоге повздорившие стороны сблизились настолько, что почти сдружились.
Однако некоторая обида всё же оставалась: ведь никаких поэтических произведений, обращённых к Сергею Львовичу и Надежде Осиповне, щедрый на мадригалы Александр так и не сочинил. Публикация взамен гимнов «дражайшим» (XIII, 329)родителям проникновенных стихов о крепостной «няньке» – «голубке» (!), которая к тому же «одна» (!!) тоскует по поэту, «одна» ждёт его, – была бы для самолюбивых стариков крайне болезненным ударом [343]343
Все знали, что Надежда Осиповна, пытаясь облегчить участь сына, неоднократно писала прошения на высочайшее имя. А барон А. А. Дельвиг уверял 15 сентября 1826 года получившего свободу Пушкина: «Как счастлива семья твоя, ты не можешь представить. Особливо мать, она на верьху блаженства. <…> Они доказали тебе любовь свою» (XIII, 295).
[Закрыть]. Отправляя послание «Подруга дней моих суровых…» в стол, сын мог учитывать, в дополнение к прочим, и это щекотливое обстоятельство.)
Ровно две недели блаженствовала Арина Родионовна. 23 ноября 1826 года поэт расстался с ней и отбыл в Москву.
В дороге его коляска перевернулась, Пушкин серьёзно пострадал и надолго застрял в Пскове. «Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня, – сообщал он В. П. Зубкову 1 декабря, – у меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать» (XIII, 311, 562).До древней столицы Пушкин добрался лишь к вечеру 19 декабря.
По всей видимости, слухи об этом происшествии до няни не дошли. Иначе старушка натурально поспешила бы из сельца в близлежащий Псков – выхаживать хворого «ангела».
В первой половине января 1827 года Арина Родионовна тоже сподобилась попутешествовать: в силу какой-то надобности она ездила из Михайловского в Петербург.
Семейство Пушкиных жительствовало тогда в доме Устинова на Фонтанке, у Семёновского моста [344]344
Зажурило В. К., Кузьмина Л. И., Назарова Г. И.«Люблю тебя, Петра творенье…»: Пушкинские места Ленинграда. Л., 1989. С. 205.
[Закрыть] . Свидевшись там с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем, старушка узнала, что у супругов появилась какая-то надежда на замирение с Александром и посему они с нетерпением ждали прибытия своего блудного сына.
К сожалению, тот молчал – словно в воду канул.
Жаждала обнять дорогого брата и «голубушка» Ольга Сергеевна, двадцатидевятилетняя и по-прежнему незамужняя дева. Она, соскучившись по любимой няне, толковала с Ариной Родионовной особенно долго и доверительно.
Однажды их усладительный tête-à-tête нечаянно нарушила заглянувшая на огонёк «дама» – миловидная Анна Петровна Керн, с которой наша героиня познакомилась ещё в Михайловском и Тригорском. Едва поздоровавшись, приятельницы завели речь об Александре Пушкине – и сошлись на том, что он, несносный, «загулявшись» в Москве, позабыл решительно всех. Захотелось напомнить поэту о себе – и товарки тут же, не мешкая, стали на пару сочинять чувствительные строки [345]345
Позднее А. А. Дельвиг, переправлявший к Пушкину данное письмо, охарактеризовал его следующим образом: «…Если <оно> не тронуло тебя, то ты не поэт, а камень» (XIII, 318).Это коллективное женское послание не сохранилось.
[Закрыть].
Арина же Родионовна, и аза в глаза не знавшая, внимательно следила за эпистолярным таинством.
Повстречалась в столице няня и с другим своим воспитанником – Лёвушкой Пушкиным. Тому успел осточертеть канцелярский стул в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий, он вышел в октябре 1826 года в отставку [346]346
Майков Л. Н.Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899. С. 37.
[Закрыть] и вознамерился служить по военной части. Выбрав Нижегородский драгунский полк [347]347
Этим полком тогда командовал близкий друг Александра Пушкина H. Н. Раевский-младший. Из формулярного списка Л. С. Пушкина следует, что он «определился в полк» (то есть был туда зачислен) 14 марта 1827 года (Майков Л. Н.Указ. соч. С. 37).
[Закрыть] , Лев Сергеевич в начале 1827 года занимался преимущественно тем, что разъезжал по Петербургу и прощался с бесчисленными приятелями и приятельницами.
Церемония проводов новоиспечённого воина, отбывающего на Кавказ, в действующую армию [348]348
В то время Россия вела войну с Персией.
[Закрыть], прошла и в родительском доме на Фонтанке. О ней есть упоминание в январском письме барона А. А. Дельвига Александру Пушкину: «Нынче буду обедать у ваших, провожать Льва. Увижу твою нянюшку…» (XIII, 318) [349]349
Т. Г. Цявловская полагала, что письмо А. А. Дельвига (важное и для биографии Арины Родионовны) было написано между 24 и 27 февраля 1827 года (Материалы к Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина. 1826–1837: Картотеки М. А. и Т. Г. Цявловских. Т. 3. М., 1999. С. 90–91). Однако эта датировка вступает в противоречие со следующими фактами: 1) по дороге в Грузию Лев Пушкин заехал к брату Александру в Москву, и 8 февраляони, видимо, присутствовали на маскараде в Российском Благородном собрании (Шумихин С. В.А. С. Пушкин в Российском Благородном собрании в Москве // ВПК. Вып. 22. Л., 1988. С. 57); 2) пушкинская няня уже в конце январяобреталась в Михайловском (XIII, 318);3) 31 января1827 года отъезжающий Лёвушка зашёл к чете Дельвигов и попрощался с ними окончательно(Полвека русской жизни: Воспоминания А. И. Дельвига.1820–1870. Л., 1930. С. 74; Модзалевский Б. Л.Пушкин. Л., 1929. С. 203).
[Закрыть] .
Вероятно, Лев Пушкин, «малый проворный» (XIII, 320),покинул Северную столицу в первых числах февраля 1827 года. Арина Родионовна выехала из города раньше и к этому времени уже находилась в Михайловском.
Оттуда 30 января она послала весточку своему «ангелу»: сообщила о столичных новостях, коснулась вскользь и прочих материй. Её незамысловатые речи положил на бумагу какой-то на медные деньги ученый селянин, который «наверно, не особенно переиначил слова старушки» [350]350
Лернер.С. 23–24.
[Закрыть] :
«Милостивой государь Александра, Сергеевичь имею честь поздравить вас с прошедшим, новым годом из новым, сщастием;: ижелаю я тебе любезнному моему благодетелю здравия и благополучия; а я вас уведоммляю, что я была в Петербурге: й об вас нихто – неможит знать где вы находитесь йтвоие родйтели, овас соболезнуют что вы к ним не-приедите; а Ольга Сергевнна к вам писала при мне соднною дамою вам извеснна а мы батюшка от вас ожидали, писма когда вы прикажите, привозить книгй нонемоглй дождатца: то йвозномерилис повашему старому приказу от править: то я йпосылаю, больших й малых книг сщётом – 134 книгй Архипу даю денег – [сщ<ётом> 85 руб.] 90 [351]351
По мнению Д. Д. Благого, эти цифры могут читаться и по-другому – как 35и 30 (VI, 319).
[Закрыть]рублей: присём любезнной друг яцалую ваши ручьки с позволений вашего съто раз и желаю вам то чего йвы желаете йприбуду к вам с искренным почтением
Аринна Родивоновнна» (XIII, 318–319).
«Конечно, обращение на „вы“, не выдержанное вполне, „имею честь“, „искреннее почтение“ принадлежат не няне, а тому, кто писал по её поручению, – какому-нибудь писарю или дьячку», – не сомневался анализировавший нянино письмо Н. О. Лернер [352]352
Там же. С. 24.
[Закрыть] .
Воспользовавшись услугами писаря, человека постороннего,няня выказала свои чувства к Александру Сергеевичу в непривычно сдержанной для неё форме. С другой стороны, январское послание подтверждает высокий статус Арины Родионовны в «михайловской „табели о рангах“» второй половины двадцатых годов. Взять хотя бы то, что в отсутствие господ старушка была вольна самостоятельно вести финансовые дела и распоряжалась дворовыми людьми и крепостными по собственному усмотрению, даже отправляла их за тридевять земель. Словом, она являлась тогда как бы неофициальной хозяйкойсельца или, по крайней мере, входила в узкий круг лиц, коллегиально исправляющих таковую должность.
Фраза «цалую ваши ручьки» дала П. Е. Щёголеву повод инкриминировать Арине Родионовне ещё и пресмыкательство перед барином-поэтом. «Боюсь, что в такого рода низкопоклонстве можно обвинить и самого Щёголева, – заявил в ответ на это в 1928 году В. В. Вересаев, – убеждён, что до революции он не раз в письмах называл разных лиц „милостивыми государями“ и униженно подписывался „ваш покорный слуга“» [353]353
Вересаев В. В.Загадочный Пушкин. М., 1996. С. 305.
[Закрыть] .
Ссылки В. В. Вересаева на предикаты и фразеологические штампы, возникавшие в процессе межсословного и межличностного общения в императорской России, корректны и убедительны. Но разве ошибётся тот комментатор, который, заглянув глубже, обнаружит архетипическую основу няниной формулы «цалую ваши ручьки» в самом материнстве?Ведь сколько стоит мир – столько и матери покрывают своих кровинок бесчисленными поцелуями, лобзают каждый их пальчик.(Заодно напомним почитателям П. Е. Щёголева: Пушкин с Антоном Дельвигом при встречах также целовали друг у друга руки.)
Снаряжённые няней крепостной садовник Архип Курочкин со товарищи через несколько дней, уже в феврале, достигли Москвы и, разыскав там Пушкина, вручили ему «большие и малые» книги и послание Арины Родионовны. К началу марта экспедиция возвратилась в Михайловское. Няне гонцы привезли деньги и письмо от «ангела». Поэт, среди прочего, сообщил «маме», что летом он непременно приедет к ней в деревню.
Ознакомившись с содержанием этого письма, Арина Родионовна отправилась в Тригорское. Тут она продиктовала А. Н. Вульф своё ответное послание Александру Пушкину. Анна Николаевна – не чета какому-то сельскому писарю – была, как говорится, своей,поэтому няня вполне могла дать волю переполнявшим её чувствам. Записывая взволнованные речи старушки, Annette,очевидно, слегка редактировала их.
И вот какой удивительный текст создали 6 марта 1827 года две женщины, потрудившиеся на благо отечественной словесности:
«Любезный мой друг
Александр Сергеевич, я получила ваше письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна – вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только, когда засну [354]354
Предполагаем, что суеверная А. Н. Вульф не решилась здесь зафиксировать произнесённое няней вслух слово «умру».
[Закрыть], то забуду вас и ваши милости ко мне. Ваша любезная сестрица тоже меня не забывает [355]355
Выходит, Ольга Сергеевна Пушкина в конце зимы тоже отписала к няне или передала ей привет в письме к кому-либо из тригорских барышень.
[Закрыть]. Ваше обещание к нам побывать летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю. Наши Петербур<гские> летом не будут, они [все] едут непременно в Ревель. Я вас буду ожидать и молить Бога, чтоб Он дал нам свидиться. Праск<овья> Алек<сандровна> [356]356
Подразумевается П. А. Осипова.
[Закрыть]приехала из Петерб<урга> – барышни вам кланяются и благодарят, что вы их не позабываете, но говорят, что вы их рано поминаете, потому что они слава Богу живы и здоровы. Прощайте, мой батюшка, Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружочик, хорошенько, самому слюбится. Я слава Богу здорова, цалую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няняваша Арина Родивоновна» (XIII, 323; выделено в подлиннике).
Письмо нашей героини – очень светлое, излучающее саму любовьписьмо. Оно по праву считается одной из жемчужин пушкинской переписки и занимает видное место в огромном и замечательном отечественном эпистолярном корпусе XVIII–XIX веков.
Как будет показано далее, послание Арины Родионовны от 6 марта 1827 года очень пригодилось Пушкину и для его литературнойработы.
Вскоре после получения этого письма, в ночь на 20 мая, поэт оставил Москву и двинулся в Петербург, где наконец-то увидел родителей и сестру. «Надо было видеть радость матери Пушкина: она плакала как ребёнок и всех нас растрогала», – писала присутствовавшая при встрече жена барона А. А. Дельвига своей подруге [357]357
Модзалевский Б. Л.Пушкин. Л., 1929. С. 207 (письмо А. Н. Семёновой; подлин. на фр.).
[Закрыть] . В последующие дни Александр Пушкин наведывался в дом Устинова на Фонтанке неоднократно, там он отпраздновал и свои именины, но жить предпочёл всё-таки отдельно и снял двухкомнатный «бедный нумер» в Демутовой гостинице на Мойке.
Через неделю, в четверг 2 июня, Надежда Осиповна, Сергей Львович и Ольга Пушкины в компании с супругами Дельвигами отбыли на морские ванны в Ревель [358]358
Там же. С. 208.
[Закрыть] . Поэт же засобирался «во свояси, т. е. во Псков» (XIII, 329). «Яуже накануне отъезда и непременно рассчитываю провести несколько дней в Михайловском», – сообщал он (по-французски) П. А. Осиповой в начале этого месяца (XIII, 330, 563).По обыкновению, Пушкин замешкался и смог выбраться из «пошлой и глупой» столицы лишь 25 (или даже 27-го) июля [359]359
Не исключено, что в этой поездке поэта сопровождала некая Лиза, его «петербургская знакомая» (Черейский Л. А.Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 236). H. М. Смирнов, мемуарист достаточно авторитетный, вспоминал: «Однажды он взял с собою любовницу. „Никогда более не возьму никого с собою, – говорил он мне после, – бедная Лизанька едва не умерла со скуки; я с нею почти там не виделся“» (РА. 1882. № 2. С. 232).
«Такой эпизод в биографии Пушкина неизвестен», – утверждает Я. Л. Левкович (ПВС-2. С. 458). Зато Г. И. Долдобанов, напротив, относится к сообщению о «Лизаньке» с полным доверием (Долдобанов.С. 199–200, 231). По мнению же Н. А. Тарховой, «это свидетельство H. М. Смирнова нельзя считать безусловно достоверным, однако оно не может быть проигнорировано» (Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. Т. 2: 1825–1828 / Сост. М. А. Цявловский, Н. А. Тархова. М., 1999. С. 471). Прибавим, что «вальмонический» Алексей Вульф (который всегда проявлял к подобным сюжетам повышенный интерес), посетив поэта в Михайловском 15 сентября 1827 года и подробно описав свой визит в дневнике, ни словом не обмолвился о какой-либо «метрессе» Пушкина, находившейся тогда в «ветхой хижине» (ПВС-1. С. 415–416).
[Закрыть] .
До Михайловского он добрался 29 (или 30-го) июля – и с ближайшей почтой известил о том сестру Ольгу. Та поделилась новостью с матерью, а Надежда Осиповна, в свою очередь, с Анной Керн. «Александр пишет две строчки своей сестре, – читаем в ревельском письме Н. О. Пушкиной, датированном 16 августа. – Он в Михайловском, подле нянюшки своей, как вы очень хорошо сказали» [360]360
Отсюда напрашивается вывод: подобного величания старушки в лексиконе самой Н. О. Пушкиной ранее не существовало. Видимо, и позднее Надежда Осиповна обходилась «нянькой» – так она назвала покойную Арину Родионовну в письме к дочери от 4 января 1835 года (см. главу 3).
[Закрыть] [361]361
Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой: 1828–1835. СПб., 1993. С. 263. Выделено в подлиннике.
[Закрыть] .
Слово, данное Арине Родионовне в феврале, «дружочик» всё-таки сдержал.
В деревне, в «прадедовских вотчинах, находящихся в руках Сергея Львовича» (XIII, 349),поэт прожил два с половиной месяца. Это были месяцы напряжённых трудов и кратких отдохновений в обществе немногих других близких ему людей и няни. Кстати, «дряхлая голубка» упоминалась в первом же пушкинском письме из Михайловского барону А. А. Дельвигу; это письмо от 31 июля адресовалось в Ревель (XIII, 335).
Пушкин пожаловался другу на отсутствие «вдохновения» (XIII, 334)',но уже в августе поэт признался М. П. Погодину, что «почуял рифмы» (XIII, 339).Пришедшие «рифмы» сложились в такие стихи, как «Послание Дельвигу» («Прими сей череп, Дельвиг, он…»), «Поэт» («Пока не требует поэта…»), «Всем красны боярские конюшни…», «Блажен в златом кругу вельмож…», в строфы шестой и седьмой глав «Евгения Онегина» и т. д.
«Рифмами» он не ограничился, сочинял попутно и прозу – в частности <«Арапа Петра Великого»>. В Михайловском Пушкин, по всей видимости, написал начерно в двух тетрадях (ПД № 833 и ПД № 836), а затем свёл воедино главы давно задуманного романа о царском арапе Ибрагиме. Среди исследователей бытует мнение, что прототипом карлицы Ласточки, ходившей за Ибрагимовой невестой Наталией Ржевской, в какой-то степени была Арина Родионовна.
«Голубка» явилась Ласточкой.
У старой «круглой» карлицы, со «сморщенным лицом» и в «чепчике», действительно есть определённое внешнее и глубинное сходство с нашей героиней. «Милая» Ласточка – отнюдь не рядовая «служанка», а персона более высокого ранга, приобретшая «любовь своих господ» и «самовластно» управляющая домом. «Никогда столь маленькое тело не заключало в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во всё, знала всё, хлопотала обо всём», – характеризует Ласточку автор.
А красавица Наташа, оказывается, «имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-тилетнего своего сердца» (этим Ржевская напоминает Татьяну Ларину, которая также не имела никаких тайн от няни Филипьевны). Примечательно и то, что карлица в беседах с девицей ссылалась на «старину» и «цаловала» [362]362
Выделено мной.
[Закрыть]рукисвоей воспитанницы ( VIII, 31–32, 530).
Пусть «дни утех и снов первоначальных» давно прошли – «мама» отчасти осталась пушкинской Музой. И рукописи поэта, создававшиеся во время визитов в Михайловское, доказывали это.
Б о льшая часть <«Арапа Петра Великого»> занесена Пушкиным в чёрную сафьяновую книгу с «полустёртым масонским треугольником» – в так называемую «третью масонскую» тетрадь (ПД № 836). На неё-то и обратил внимание действительный студент Дерптского университета А. Н. Вульф, пришедший навестить соседа 15 сентября: «…Показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил» [363]363
ПВС-1. С. 415–416.
[Закрыть] .
С Алексеем Вульфом и его тригорскими родственницами поэт виделся довольно часто, но других знакомств он как будто не водил и у себя никого не принимал. Как выразился в ту пору H. М. Языков, Пушкин «священнодействовал пред фимиамом вдохновенья» [364]364
Языковский архив. Вып. 1: Письма H. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 337.
[Закрыть] . Размеренный ход тогдашней пушкинской жизни если и был нарушен, то лишь однажды.
Есть некоторые основания предполагать, что осенью 1827 года в сельцо Михайловское нагрянул Сергей Александрович Соболевский (1803–1870), библиофил и библиограф, короткий приятель поэта.
Ещё летом, 23 августа, агент Третьего отделения доносил начальству: «Известный Соболевский (молодой человек из Московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надобно беречь, как дитя» [365]365
ИВ. 1886. № 3. С. 522.
[Закрыть] . А спустя месяц, 20 сентября, уже сам С. А. Соболевский, находившийся в Петербурге, недвусмысленно сообщал в Москву H. М. Рожалину: «Старайтесь, молодые люди, о Вестнике [366]366
Речь идёт о «Московском вестнике» (1827–1830), журнале «любомудров», которые хотели видеть в Пушкине постоянного автора и союзника. Однако поэт изначально претендовал на большее – на роль хозяина, идеолога издания (что не входило в планы членов кружка); да и к философической озабоченности москвичей Александр Пушкин относился скептически. Снять возникшие разногласия (включая финансовые) долгое время пытался С. А. Соболевский, равно близкий и к Пушкину, и к «либеральной шайке».
[Закрыть]. И я стараюсь, то есть еду завтра в Псков к Пушкину условливаться с ним письменно и в этом деле буду поступать пьяно (т. е. piano [367]367
Медленно, осторожно (um.).
[Закрыть])» [368]368
Модзалевский Б. Л.Пушкин под тайным надзором. Л., 1925. С. 72.
[Закрыть] . Далее он уточнил, что собирается пробыть в Михайловском четыре дня.
В «Картотеке итинерариев [369]369
Итинерарии – маршруты, путешествия (от фр.itinéraire).
[Закрыть]лиц ближайшего пушкинского окружения», составленной М. А. и Т. Г. Цявловскими, сведений о передвижениях С. А. Соболевского в сентябре 1827 года нет [370]370
Материалы к Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина. 1826–1837: Картотеки М. А. и Т. Г. Цявловских. Т. 1: Картотека итинерариев лиц ближайшего пушкинского окружения. М., 1998. С. 311.
[Закрыть] . «Поездка эта, насколько известно, не состоялась», – писал Б. Л. Модзалевский [371]371
Пушкин.Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. II: 1826–1830. М.; Л., 1928. С. 264.
[Закрыть] . Однако фактов, подкрепляющих осторожное высказывание авторитетного пушкиниста, как будто не существует, и посему мы вынуждены считаться с приведёнными выше эпистолярными источниками (прежде всего – с собственноручным письмом С. А. Соболевского). Так что в двадцатых числах сентября 1827 года Сергей Александрович теоретически могочутиться в псковской деревне у Пушкина.
А значит, и Арина Родионовна могла тогда спознаться с этим самобытным человеком, лежебокой и селадоном, эпиграмматистом и острословом, к которому поэт благоволил и которого не раз награждал меткими прозвищами – типа Байбака или Калибана [372]372
Байбак– «неповоротливый, мешкотный человек, лентяй и соня» (В. И. Дань). Калибан– персонаж трагикомедии В. Шекспира «Буря» (1612); по определению Б. Л. Модзалевского, «человек чувственный, сластолюбец».
[Закрыть].
После сентября наступил октябрь, и 13-го числа Пушкин выехал из Михайловского в Петербург [373]373
В литературе фигурируют и другие даты отъезда поэта из деревни: 12октября ( Долдобанов.С. 228) и 14октября (Иезуитова Р. В.Рабочая тетрадь Пушкина ПД №833: История заполнения // ПИМ. Т. XV. Л., 1995. С. 236).
[Закрыть] .
Каково было няне в тот день, да и в дни последующие, представить несложно.
Дни между тем становились всё короче и холоднее. Приближался год високосный, от которого люди искони ждали чего-то худого…
Свыше десяти лет жизнь Арины Родионовны была самым тесным образом связана с псковской деревней. Сюда она приезжала на лето, здесь долгое время жительствовала безвыездно. Под сенью Михайловского наша героиня познала и радость, и горе; видела и слышала многое и многих; случалось, водила в храм молодых, стояла у купелей и провожала на погост. Тут умирали Пушкины и Ганнибалы, рождались её собственные внуки, тут она вконец состарилась и превратилась в «дряхлую голубку» и почти хозяйку.
Михайловский период няниной биографии завершился внезапно, и в исповедную роспись за 1827 год церкви Воскресения Христова, что в «пригороде Воронич Опочецкого уезда», имя Ирины Родионовой уже не попало [374]374
Подобные документы обычно составлялись в начале следующего(в данном случае – 1828-го) года.
[Закрыть] [375]375
Новиков Н. С.Летопись сельца Михайловского и окрестностей, которую вели местные священнослужители // Христианская культура. Пушкинская эпоха: По материалам традиционных христианских пушкинских чтений. Вып. XII. СПб., 1996. С. 41; см. также в кн.: Духовный труженик: А. С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб., 1999. С. 205.
[Закрыть] .
В начале скверного 1828 года в семействе Пушкиных произошло событие из ряда вон выходящее – и семидесятилетнюю Арину Родионовну хозяева вновь призвали на подмогу.
Давно уже выросла Оленька Пушкина – а счастье бабье всё стороной её обходило. Коротала свой век голубушка, будто невеста Христова, слезами горькими по ночам подушку напитывала. Свыклась она, бедняжка, с незавидной долей, почитай смирилась.
Жалела наша нянюшка деву любезную – да споспешествовать ей не в силах была.
Тут оказия случилась: жених с неба свалился. Знамо, не богатырь былинный, не тайный советник, но сирой голубушке он как на грех приглянулся. Матушка с батюшкой оченно тогда возроптали – ну а Оленька ободрилась, перечит им, на своём стоит. Долго судили и рядили родители с дочкой – да так и не столковались.
По зиме же задумала голубушка своевольно жить – и вдруг пустилась во все тяжкие. Потом за верной нянюшкой в сельцо человека послала – видать, в опоре барыня нужду возымела.
А смерть-то не за горами ходит – она, плутовка, за плечами стоит. Аккурат перед отъездом в столицу припомнила старушка поговорку праотцовскую и потом во всю дорогу – что за наваждение! – оборотиться боялась.
Не по себе стало нянюшке: ведь дотоле не водилось за ней такого…