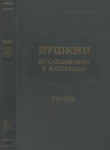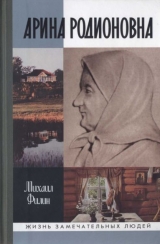
Текст книги "Арина Родионовна"
Автор книги: Михаил Филин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
И действительно, жизни в Александре Пушкине, писавшем осенью 1835 года «…Вновь я посетил…» с тирадой о незабвенной Арине Родионовне, оставалось всего-навсего на год с небольшим. Но ведь он возвращался к стихотворению и позднее [468]468
См. примеч. 32.
[Закрыть] – и посему мы можем уверенно говорить о том, что поэт не забыл свою няню ante diem.
До срока, до самого гроба.
Возведённому в историографы и камер-юнкеры Двора Его Императорского Величества, включённому в «Месяцеслов и общий штат Российской империи» приличествует столичная усыпальница, для крепостной же старухи сгодился бы и скромный сельский погост…
Так предполагает филистер – да судьбапорою располагает иначе.
И по воле судьбы опустили Арину Родионовну в землю Васильевского острова, а тело прославленного стихотворца и члена Российской академии в начале 1837 года «заколотили в ящик», ящик сей «поставили на дроги» и повезли вон из Петербурга – в глухую Псковскую губернию, в Святогорский монастырь, что всего в пяти верстах от сельца Михайловского.
С гробом поехали жандарм, пушкинский дядька Никита Козлов и давнишний приятель поэта А. И. Тургенев. Александр Иванович вёл в дороге дневник, в котором тщательно фиксировал все подробности путешествия «Пушкина до последнего жилища его».
Из тургеневского журнала мы, в частности, узнаём, что могилу поэта рыли мужики, посланные 5 февраля П. А. Осиповой, хозяйкой Тригорского. Сами же похороны – короткие, как роковой размен выстрелами, – состоялись на другой день, 6 февраля.
Запись А. И. Тургенева о святогорской зимней церемонии представляется нам очень важной. Вот эти мемуарные строки:
« 6 февраля, в 6 часов утра, отправились мы – я и жандарм!! – опять в монастырь, – всё ещё рыли могилу; мы отслужили панехиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу – немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу…» [469]469
Цит. по: Щёголев П. Е.Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. М., 1987. С. 251. Выделено мемуаристом.
[Закрыть]
Что за «крестьяне» участвовали в погребении Пушкина, кто из простолюдинов уронил неподдельную слезу у гроба – увы, неведомо. Но среди собравшихся могли находиться и люди, приписанные к близлежащему Михайловскому, – разумеем конечно же кого-либо из родни Арины Родионовны.Ведь ещё накануне вся округа узнала о доставленном в Святые Горы «ящике» – так почему бы потомкам нашей героини, детям и внукам «голубки», прежде столько слышавшим от старушки об «ангеле» и знававшим его, не прийти проститься с убиенным барином? [470]470
Ср. с письмом барона Б. А. Вревского отцу поэта, С. Л. Пушкину, от 21 марта 1837 года: «Кто бы сказал, что даже дворня (Тригорского. – М. Ф.),такая равнодушная по отношению к другим, плакала о нём! В Михайловском г. Тургенев был свидетелем такого же горя» (цит. по: Вересаев В.Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1990. С. 286).
[Закрыть]
Почему бы судьбе не выставить их 6 февраля 1837 года на дорогу?
Этого никак нельзя доказать – вот и остаётся просто верить, что история о «красоте души человеческой, души любящей» завершилась именно так.
А вдова Пушкина сумела выбраться в Святогорский монастырь – на «святое смерти пепелище» (III, 333),туда, где «земля прекрасная, ни червей, ни сырости, ни глины» [471]471
Так охарактеризовал святогорскую почву сам Александр Пушкин в разговоре с В. А. Нащокиной весною 1836 года. См.: Бартенев.С. 364.
[Закрыть] , только через четыре года.
Тут и книге конец.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Давным-давно пора воздвигнуть в лице Арины Родионовны прочный вещественный памятник этой светлой силе русского простонародья.
Е. Поселянин
Много воды утекло с тех пор, немало режимов и поколений миновалось, но кардинально менявшая свой облик Россия – «земля женственная», по известному афоризму Н. А. Бердяева [472]472
Бердяев Н.Судьба России. М., 1990. С. 12.
[Закрыть] – не забыла героиню нашей книги.
В национальном сознании издревле сплелись в замысловатую пряжу правда и легенды об Арине Родионовне. Бытование одной из таких легенд даже привело к тому, что в конце 1928 года на Большеохтинском кладбище города Ленинграда по инициативе Комиссии по охране и изучению кладбищ была «прибита» мемориальная доска с надписью:
На этом кладбище,
по преданию, похоронена
няня поэта А. С. Пушкина
АРИНА РОДИОНОВНА,
скончавшаяся в 1828 г.
Могила утрачена.
Лишь после уточнения А. И. Ульянским места погребения няни доска «в память столетия со дня её смерти» была демонтирована и поступила на хранение в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) [473]473
Ульянский.С. 60–61.
[Закрыть] .
Накоплена обширная и разнообразная литература об Арине Родионовне.
Деятели искусства XIX–XX столетий постарались не отстать от тружеников пера и внесли свою лепту в прославление пушкинской няни. Например, её усердно (и подчас удачно) рисовали художники.
Образ старушки не раз воплощался на театральных подмостках. (Так, в пьесе К. Г. Паустовского «Наш современник», поставленной в 1949 году на сцене академического Малого театра, роль Арины Родионовны исполнила народная артистка СССР Е. Д. Турчанинова.)
Существуют музыкально-литературные композиции, любопытные работы кинодокументалистов, пользуются спросом поделки палехских мастеров…
Сверх того, восстановлены правдоподобные «домики» Арины Родионовны, в них действуют бесхитростные провинциальные музеи. Есть и мемориальные доски в честь «голубки», открытые после Великой Отечественной войны, – их можно увидеть в Кобрине и Михайловском, на петербургском доме, где она умерла [474]474
См.: Об установке мемориальной доски няне А. С. Пушкина Арине Родионовне: Распоряжение мэра Ленинграда от 9 августа 1991 года № 242-р // Бюллетень исполкома Ленсовета депутатов трудящихся. 1991. № 21.
[Закрыть] , и при входе на Смоленское православное кладбище. Там, в арке бывшей богадельни, на мраморной плите выбито:
На этом
кладбище
похоронена
АРИНА РОДИОНОВНА
няня
А. С. Пушкина
1758–1828
«Подруга дней моих суровых
Голубка дряхлая моя!»
А. Пушкин
Давным-давно муссируется вопрос и о памятнике Арине Родионовне, сооружение которого стало бы апофеозом государственного и общественного почитания «мамушки».
Первым на данную тему высказался в печати, по нашим сведениям, Е. Поселянин (E. Н. Погожев) в январе 1917 года. Но вскоре после публикации Е. Поселянина началась революция, потом Гражданская война – и призыв писателя не был услышан и поддержан.
В наступивший вслед за Смутой период истории к мысли о создании достойного монумента пушкинской няне неоднократно возвращались видные представители отечественной науки и культуры.
В 1924 году в селе Михайловском (которое по постановлению Совнаркома с 1922 года стало государственным заповедником) прошли торжества, посвящённые 100-летию высылки поэта из Одессы в псковскую деревню. На праздник, организованный властями на широкую ногу, приехали важные персоны, среди которых была и делегация пушкинистов. Последние и заговорили, с трибуны и в кулуарах, о целесообразности сооружения памятника Арине Родионовне в Михайловском. Упоминание об этом имеется, в частности, в дневнике М. А. Цявловского [475]475
Цявловский М., Цявловская Т.Вокруг Пушкина / Изд. подг. К. П. Богаевская и С. И. Панов. М., 2000. С. 151 (запись от 10 сентября 1924 года).
[Закрыть] .
Участвовал в тогдашнем празднестве и Л. П. Гроссман, который, вернувшись из духоподъёмного путешествия, опубликовал в журнале «Красная нива» (1925, № 7) очерк «Пушкинский уголок». В очерке учёный горячо поддержал инициативу «установки в Михайловском первых памятников как самому поэту, так и верному другу его изгнания – Арине Родионовне» [476]476
Гроссман Л. П.Вокруг Пушкина. М., 1928. С. 21.
[Закрыть] .
В том же 1924 году произошло и другое событие: Ленинградское общество архитекторов-художников объявило конкурс на памятник А. С. Пушкину в селе Михайловском. В жюри конкурса было представлено 11 проектов, которые экспонировались в помещении главного здания Академии наук. По рассказу С. С. Гейченко, «один из проектов изображал крыльцо дома Пушкина в Михайловском, на ступенях которого сидела Арина Родионовна с чулком в руках» [477]477
Гейченко С. С.У Лукоморья: Рассказы хранителя Пушкинского заповедника. Л., 1986. С. 369.
[Закрыть] .
Однако прекраснодушные мечты послереволюционной поры и последующих десятилетий в силу многих обстоятельств так и не были реализованы [478]478
Напомним читателям, что памятник самому Пушкину (работы скульптора Е. Ф. Белашовой) был установлен в Михайловском (Пушкинских Горах) только в 1959 году.
[Закрыть]. Блаженны те культурологи, историки или политологи, которые вознамерятся когда-либо докопаться до подоплёки этого фиаско: им, пытливым и сметливым, уготована встреча с весьма красноречивыми фактами.
С начала 1980-х годов ревностно выступал (и продолжает выступать) в поддержку идеи создания монумента «голубке» В. С. Непомнящий. Как полагает наш крупнейший пушкинист, этот памятник «надо поставить <…> не там, где он будет выглядеть экспонатом, а прямо в столице, на той самой магистрали, по которой и Пушкин, и Татьяна въезжали в Москву, – чтобы няня, со спицами в руках, сидела и тихонько ждала посреди шума современного города…» [479]479
Непомнящий.С. 131.
[Закрыть] .
Только когда исполнилось 225 лет со дня рождения Арины Родионовны, дело о монументе чуть сдвинулось с мёртвой точки.
Памятник из бронзы и гранита, созданный народным художником СССР скульптором О. К. Комовым и архитекторами М. П. Константиновым и П. С. Бутенко, воздвигли в парке старинного города Пскова и торжественно открыли 3 июня 1983 года. В положенный миг пали покровы и собравшиеся увидели: Арина Родионовна сидит подле Пушкина – а тот, стоящий, о чём-то задумался и глядит куда-то в сторону, далеко-далеко.
Большинству знатоков и простых зрителей и тогда, и впоследствии пришлось по душе произведение скульптора.
И всё же, если всмотреться и вдуматься, это был очередной рукотворный monumentumАлександру Сергеевичу Пушкину и заодностарушке.
(Кстати, спустя десятилетие вышел аннотированный каталог «Памятники А. С. Пушкину», где описывался, разумеется, и псковский монумент. «Мамушку» поэта составители даже не упомянули: работа О. К. Комова трактовалась ими как подчёркнуто пушкинская «двухфигурная композиция» [480]480
Гдалин А. Д., Дровеников Г. А., Попелюхер И. Л.Памятники А. С. Пушкину: Материалы к аннотированному каталогу // ВПК. Вып. 25. СПб., 1993. С. 88. К этому можно добавить, что и в статьях солидных справочников, посвящённых творчеству О. К. Комова, псковское детище скульптора неизменно именуется «памятником А. С. Пушкину»; см., напр.: Советский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 620.
[Закрыть] . Скульптурную композицию, в которой доминирует образ Арины Родионовны, авторы научного каталога, видимо, представили бы иначе.)
Так что памятника собственно няне в наших палестинах по-прежнему нет.
Льстим себя надеждой, что он таки будет воздвигнут. Соблюдёт себя Россия в новую, невиданно сложную, эпоху – и однофигурный памятник «светлой силе русского простонародья» появится. До прискорбия мало в стране монументов органичных, имеющих духовную привязкук родной земле, – и памятник Арине Родионовне, со спицами или без оных, когда-нибудь да пополнит их ряд.
День его открытия станет для многих людей, жалующих поэта и его легендарную «подругу», запоминающимся событием.
А для других это будет день долгожданной идеологической виктории.
Третьи же, наиболее проницательные, тихо возрадуются оттого, что удостоверятся: русское бытие длится, ибо его не покинули самые высокие, заоблачныесмыслы.
ПРИМЕЧАНИЯ
Список сокращений
Анненков – Анненков П. В.Пушкин: Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. М., 1999.
Бартенев – Бартенев П. И.О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М., 1992.
ВПК – Временник Пушкинской комиссии.
Грановская – Грановская Н. И.Рисунок Пушкина: Портреты Арины Родионовны // Временник Пушкинской комиссии: 1971. Л., 1973.
Долдобанов– Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: 1826–1837 / Сост. Г. И. Долдобанов.Т. 1. Кн. 1: 1826–1828. М., 2000.
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения.
Жуйкова – Жуйкова Р. Г.Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций. СПб., 1996.
ИВ – Исторический вестник.
Книга воспоминаний о Пушкине – Цявловский М. А.Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931.
Лернер – Лернер Н. О.Няня Пушкина. Л., 1924.
Летопись – Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. Л., 1991.
ЛН – Литературное наследство.
Лотман – Лотман Ю. М.Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983.
Непомнящий – Непомнящий В. С.Пушкин: Избранные работы 1960–1990-х гг. В 2 т. Т. 1: Поэзия и судьба. М., 2001.
Павлищев – Павлищев Л.Из семейной хроники: Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890.
ПВС-1, ПВС-2 – А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974.
ПД – Пушкинский Дом (Институт русской литературы).
ПИМ – Пушкин: Исследования и материалы.
РА – Русский архив.
PC – Русская старина.
Сумцов – Сумцов Н. Ф.А. С. Пушкин: Исследования. Харьков, 1900.
Телетова – Телетова Н. К.Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981.
Ульянский – Ульянский А. И.Няня Пушкина. М.; Л., 1940.
Ходасевич – Ходасевич В.Арина Родионовна (Скончалась в конце 1828 года) // Возрождение. Париж, 1929. № 1315. 7 января.
Щёголев– Щёголев П. Е.Пушкин и мужики: По неизданным материалам. М., 1928.
ПРИЛОЖЕНИЯ
IА. И. Ульянский О МОГИЛЕ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ [481]481
Данный очерк был впервые опубликован в журнале «Звезда» (1938, № 1). Здесь печатается – по изд.: Ульянский А. И.Няня Пушкина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 57–67. Сохранены авторские особенности орфографии, стилистики, а также принципы цитирования источников и оформления библиографических ссылок.
[Закрыть]
Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улёгся, изнуренный
Трудом и бременем годов.
Пред ним печальной головою
Склонюся; много вспомню я —
И умилённою мечтою
Душа разнежится моя.
H. М. Языков, «На смерть няни А. С. Пушкина», 1830 г.
Первые сведения о месте и годе смерти Арины Родионовны появились в печати в 1852 году, когда двоюродный дядя поэта Александр Юрьевич Пушкин писал: «Арина Родионовна находилась по смерть свою у Ольги Сергеевны Пушкиной (в замужестве Павлищевой), случившуюся в 1824 году или около того времени» [482]482
А. Ю. Пушкин.Для биографии Пушкина («Москвитянин», 1852, № 2411, декабрь, кн. 2, отд. IV, стр. 21–25).
[Закрыть].
Автор этих строк явно заблуждался, указывая этот год смерти Арины Родионовны.
В 1824–1826 годах – годы изгнания поэта – Арина Родионовна была неотлучно с поэтом в селе Михайловском, а в 1827 году в январе и марте писала ещё из Михайловского в Петербург поэту письма, сохранившиеся до настоящего времени.
В мае и июне того же 1827 года завязалась оживлённая переписка по поводу посвящённого H. М. Языковым стихотворения «К няне А. С. Пушкина», написанного им 17 мая в Дерпте [483]483
Д. П. Якубович. Пушкинские места. Л., 1936, стр. 152.
[Закрыть]. Стихотворение это начиналось словами: «Васильевна, мой свет». Препровождая его при письме от 18 мая А. Н. Вульфу, H. М. Языков говорит: «Это обещанное послание к няне (сколько помню, зовут её Васильевна?)».
Мать А. Н. Вульфа, Прасковья Александровна Осипова, в том же месяце посылает это стихотворение Языкова при своём письме А. С. Пушкину, исправив слово «Васильевна» на «Платоновна» [484]484
И. А. Шляпкин.Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903, стр. 125–126.
[Закрыть]. Видимо, сама Осипова не помнила отчества няни Пушкина.
6 июня того же года H. М. Языков, узнав, что няню зовут не Васильевна, а Родионовна, пишет Вульфу: «Мне очень жаль, что няня не Васильевна» [485]485
И. А. Шляпкини М. И. Семевский.Прогулка в Тригорское (А. Н. Вульф.Дневники. Со статьёй М. И. Семевского). М., 1929, стр. 87–88.
[Закрыть].
Стихотворение это в исправленном виде – «Свет Родионовна» – опубликовано было в «Северных Цветах» на 1828 год, ещё при жизни Арины Родионовны [486]486
«Северные Цветы» на 1828 год. СПб., стр. 43. Дозволено цензурою 3 декабря 1827 года, печатано в 1827 году.
[Закрыть].
О. С. Павлищева в своих воспоминаниях (написанных с её слов в 1851 году) говорит об Арине Родионовне: «Умерла она у нас в доме в 1828 году лет семидесяти с лишним от роду, после кратковременной болезни» [487]487
«Летописи Гос. лит. музея». М., 1936, стр. 451.
[Закрыть]. Ольге Сергеевне легко было запомнить год смерти няни, так как это год её замужества. Замужество Ольги Сергеевны состоялось 25 января 1828 года.
П. В. Анненков, пользуясь этими же воспоминаниями О. С. Павлищевой, повторяет: «Почтенная старушка умерла в 1828 году, семидесяти лет, в доме питомицы своей О. С. Павлищевой» [488]488
П. В. Анненков.А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. СПб., 1873.
[Закрыть].
Несмотря на эти публикации, П. О. Морозов относил смерть Арины Родионовны к 1829 году [489]489
Собр. соч. А. С. Пушкина. СПб., изд. т-ва «Просвещение», под ред. П. О. Морозова, II, стр. 381.
[Закрыть].
Племянник поэта Л. Павлищев в своих воспоминаниях писал, что няня «переехала в дом отца тотчас после его свадьбы, где мать моя и закрыла ей глаза в конце 1828 года» [490]490
Л. Павлищев.Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890, стр. 13.
[Закрыть].
В 1884 году В. Е. Якушкин [491]491
В. Е. Якушкин.Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее. – «Русская Старина», 1884, VII, стр. 41.
[Закрыть], изучая рукописные тетради А. С. Пушкина, впервые отмечает запись поэта, рядом с его наброском «Волненьем жизни утомлённый» [492]492
Библиотека им. В. И. Ленина в Москве. Тетрадь А. С. Пушкина № 2371, л. 16 об.
[Закрыть]:
относящуюся, видимо, к последующим за какой-то промежуток времени событиям. По положению этой записи в тетради, они относятся им к 1828 году. В. Е. Якушкин приводит указанную запись поэта без всяких комментариев.
В 1899 году, к столетию со дня рождения поэта, интерес к личности няни, её судьбе и к месту погребения и розыску её могилы ещё более усилился.
12 августа 1899 года в № 8425 петербургской газеты «Новое Время» появилась статья И. Щеглова под названием «Дом, где скончалась няня Пушкина». В этой статье И. Щеглов пишет, что в январе 1828 года, с лишком семьдесят лет назад, в доме Дмитриева по Большому Казачьему переулку поселилась «родная и единственная сестра А. С. Пушкина, Ольга Сергеевна, перевенчанная незадолго перед тем тайно от своих родителей с Николаем Ивановичем Павлищевым. Здесь Ольга Сергеевна Павлищева прожила с лишком четыре года. Отсюда поэту суждено было проводить свою любимую няню Арину Родионовну в её последнее жилище… Она скончалась на руках О. С. Павлищевой в упомянутом доме Дмитриева на восьмом десятке от роду»; и далее: «Бедная няня Пушкина! Неужели же её „смиренный крест“ так и не отыщется? Неужели эта любвеобильная женщина, так трогательно воспетая двумя поэтами, самые незначительные записки которой Пушкин берёг наравне с посланиями мировых знаменитостей… женщина, всю свою жизнь заботившаяся и молившаяся о других, останется постыдно затерянной, без достойного её самоотвержения памятника?! Нам, благополучно здравствующим обывателям столицы, должно поставить в большую вину, что мы ничего не сделали в разгар Пушкинских торжеств в память той, которая сыграла в частной и литературной жизни великого поэта оригинальную и благодетельную роль… В каком месяце скончалась, какого числа, когда и где схоронена, всё это, к искреннему прискорбию почитателей Пушкина, остаётся пока покрыто мраком неизвестности».
Почти одновременно, 28 августа, в иллюстрированном приложении к газете «Новое Время» № 8441, был помещён снимок «дома Дмитриева, в котором скончалась няня Пушкина».
На статью И. Щеглова, видимо, никто не откликнулся, и в 1902 году тот же И. Щеглов, сообщая дополнительные сведения о доме Дмитриева и могиле няни [494]494
И. Щеглов.Новое о Пушкине. СПб., 1902. О доме Дмитриева и могиле няни Пушкина – стр. 96.
[Закрыть], рассказывает, что, занимаясь розысками в доме Дмитриева в Большом Казачьем переулке, где, по его данным, жили Павлищевы с 1828 по 1832 год и где, следовательно, умерла Арина Родионовна, он получил даже упрёк за подписью какого-то «русского», почему он не посвятил свой досуг розыскам могилы няни Пушкина.
Щеглов принимал меры к обнаружению места погребения Арины Родионовны. «Тщательно рылся, – пишет он, – как в метрических книгах Введенской церкви, так равно и в церковном архиве Волкова кладбища, как старейшего; расспрашивал по этому поводу кого только мог, начиная от племянника Пушкина <Л. Н. Павлищева. – А. У.>,кончая дворником дома, где жил камердинер Пушкиных, перечёл всё, что нашёл на этот счёт по книжной части… Словом, сделал всё, что было в моих скромных средствах сделать на месте… Вопрос о месте упокоения почтеннейшей Арины Родионовны остаётся пока открытым».
Вместе с тем он отмечает, что в Опочецком уезде держатся предания, «будто бы безымянный простого тёсаного камня крест, находящийся по правую руку могилы Пушкина (между памятником Пушкина и памятником игумена Святогорского монастыря Геннадия), и есть тот крест, о котором аллегорически вспоминает Татьяна»:
Где ныне крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей.
Был Щеглов и в деревне Кобрине, «на родине няни», но и там не нашёл никаких сведений о её захоронении.
В 1911 году И. О. Лернер опубликовывает снова [495]495
Н. О. Лернер.Заметки о Пушкине. – «Русская Старина», 1911, декабрь, стр. 654.
[Закрыть]известную уже от В. Е. Якушкина запись поэта, относимую и им, Н. О. Лернером, также к 25 июня 1828 года, с весьма важным дополнением в части интересующего нас вопроса о няне: с крестиком возле слова «няня». И. О. Лернер даёт пояснение, что крестик означает смерть няни, а «Elisa е Claudio» – постановку впервые 21–22 июня 1828 года в Петербурге оперы итальянского композитора Меркаданте.
В 1925 году в «Вечерней Красной газете» появилась заметка с указанием, что «истекшим летом были предприняты попытки найти могилу Арины Родионовны, умершей в 1829 году в доме О. С. Павлищевой и похороненной на Охтенском кладбище». «Попытки найти её могилу не увенчались, к сожалению, успехом. По справке оказалось, что все документы кладбищенской конторы за XIX век давно уничтожены». Автор этой заметки был уверен [496]496
«Вечерняя Красная газета», 15 января 1925 года, «Где могила няни Пушкина?».
[Закрыть], видимо, в том, что няня похоронена на Больше-Охтенском кладбище и что остаётся только разыскать её могилу.
В 1928 году В. И. Чернышёв писал, посетив Михайловское, «что есть предание, будто няня жила, но не ужилась с Павлищевыми и вернулась в Михайловское. Там же она будто и скончалась и похоронена в Святогорском монастыре близ того места, где впоследствии был похоронен и поэт, но могила не сохранилась». Об этом месте погребения няни говорили ему и потомки священника Шкоды, современника поэта. От других слышал он там, будто она похоронена на Воронечском кладбище (от семьи бывшего управляющего Пушкиных, в деревне Навдыши) [497]497
В. И. Чернышёв.Пушкинский уголок. – «Известия Русского географического общества», т. X, 1928, стр. 351.
[Закрыть].
Вскоре после этой публикации Чернышёва, по инициативе Комиссии по охране и изучению кладбищ, на основании местных преданий (ставших почему-то впервые известными спустя сто лет), установлена была на Больше-Охтенском кладбище в весьма торжественной обстановке в присутствии представителей Академии Наук и общественных организаций мемориальная доска в память столетия со дня смерти Арины Родионовны [498]498
«Ленинградская правда», 5 декабря 1928 года, № 299.
[Закрыть].
Это обстоятельство привело к тому, что в дальнейших трудах по пушкиноведению вопрос о месте погребения Арины Родионовны стал трактоваться как определённо установленный.
А. Яцевич пишет, что О. С. Павлищева жила в Большом Казачьем переулке, в доме Дмитриева: «Здесь четыре года прожила сестра А. С. Пушкина – Ольга Сергеевна… Добрым гением дома была няня Пушкиных, Арина Родионовна… В середине 1828 года скромная похоронная процессия проводила прах доброй старушки к месту её последнего упокоения на Больше-Охтенском кладбище» [499]499
А. Яцевич.Пушкинский Петербург. Л., 1935, стр. 100–101.
[Закрыть].
В 1936 году М. А. Цявловский снова воспроизводит раньше дважды приводившуюся запись поэта (относимую им также к 25 июня 1828 года) отлично от В. Е. Якушкина и Н. О. Лернера:
25 июня Фанни
Няня †
Elisa е Claudio
Ня (далее неразборчиво)
При этом М. А Цявловский дополняет Н. О. Лернера предположением, что Фанни – имя одной полусветской дамы, известной по стихотворению «К Щербинину» (1819 г.); запись о няне поясняет также, как указание на смерть её, и наконец уточняет, что первый спектакль «Elisa е Claudio» относится к 15 июня и что возможно присутствие Пушкина на втором спектакле, 22 июня. Постановка этой оперы возобновлена была, по его данным, снова 27 июля. Впервые приведённому им слогу «Ня» он не уделяет никакого внимания.
Тут же от М. А. Цявловского мы впервые узнаём о неопубликованном письме О. М. Сомова к H. М. Языкову от 2 октября 1828 года, в котором Арина Родионовна названа покойной [500]500
Сборник «Рукою Пушкина». М., 1936, стр. 315–316.
[Закрыть].
Из всего этого вытекало, что приведённые в записи поэта события, в том числе смерть няни, относятся к промежутку времени, имеющему свою конечную дату 22 июня 1828 года, самая же запись поэта относится к 25 июня. Это делало правильность понимания записи поэта подозрительной.
Между тем во всех публикациях о месте погребения Арины Родионовны также ничего достоверного не было сказано.
Прежде всего, отметим, что возможность перевозки праха няни для похорон на родине или в селе Михайловском маловероятна. Сложность перевозки и погребения её там, несомненно, оставила бы след в воспоминаниях семьи Пушкиных, их друзей и, наконец, в каком-либо поэтическом документе самого поэта.
Посетившие Михайловское, Тригорское и Святогорский монастырь К. Тимофеев (1859 г.) и М. И. Семевский (1866 г.) беседовали там с лицами, хорошо знавшими и помнившими Арину Родионовну, и не отметили в описании этих посещений каких-нибудь сообщений о смерти и погребении её в тех местах [501]501
К. Тимофеев.Могила Пушкина в с. Михайловском. – «Журнал Министерства народного просвещения», 1859; и М. И. Семевский.Прогулка в Тригорское.
[Закрыть].
Сведения, сообщённые много позже И. Щегловым и В. И. Чернышёвым, могли рассматриваться нами лишь как результат последующих наслоений, лишённых какой-нибудь преемственности, а потому и достоверности.
Известно, что ещё в 1830 году H. М. Языков в своём стихотворении «На смерть няни А. С. Пушкина» [502]502
«Северные Цветы». СПб., 1831.
[Закрыть]писал:
Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улёгся, изнуренный
Трудом и бременем годов.
Из строк H. М. Языкова можно было предположить, что могила Арины Родионовны сравнительно вскоре после смерти была потеряна.
Стремление жителей разных местностей присвоить себе честь погребения Арины Родионовны понятно, и в этом случае всякие предания должны уступить место документальным материалам.
Утверждение, что она погребена на далёком от города и особенно от Большого Казачьего переулка загородном Больше-Охтенском кладбище (тогда находившемся ещё в пределах Петербургского уезда), вызывало у нас сомнение. Трудно предположить, что семья Пушкиных и Павлищевых, в целях какой-нибудь экономии на стоимости кладбищенского места, решилась хоронить свою замечательную няню на столь далёком кладбище, тем более, что при отсутствии тогда Охтенского моста это было связано в летнее время с переправой через Неву. Эти обстоятельства послужили для нас логическим толчком к разысканиям, которые могли бы документально подтвердить или опровергнуть легковерно принятую другими версию о погребении Арины Родионовны на Больше-Охтенском кладбище, основанную на столь подозрительно поздно дошедших до нас местных преданиях, тем более, что при проверке этих преданий на месте мы могли выяснить следующее.
Бывший могильщик Больше-Охтенского кладбища (П. А. Хандрилов), служивший на кладбище, по его словам, с 1893 года, утверждает, что помнит хорошо место, где была каменная плита с фамилией и надписью «Няня Пушкина». Плита эта около 1895 года будто бы покосилась и затем, около 1908 года, взята была, в числе других плит, для прокладки на кладбище так называемой Енотаевской дороги. Плиту эту, уложенную будто надписью вниз, можно, по его словам, обнаружить, если вскрыть ряд плит на известном ему Свияжском участке. При этом он ссылается на другого могильщика, служившего прежде на кладбище (H. Н. Маринкина).
Последний подтвердил это предание и указал нам предполагаемое место могилы няни, ныне занятое уже другой могилой, однако не мог поручиться за точность всего этого предания и наличия плиты. Побеседовав с другими старожилами этого кладбища, он мог лишь сказать нам в заключение, «что всё это один туман».
Сторож кладбища (Г. М. Никитин) показал место погребения Арины Родионовны в другом месте, правда, неподалёку от места, указанного Маринкиным.
Ссылались все они и на прежнего священника кладбища, ныне умершего, который был в курсе этого вопроса.
Приведённое утверждение об имевшейся якобы до 1908 года надгробной плите с указанной надписью придаёт всему преданию ещё более недостоверный характер, так как нельзя думать, что в Петербурге в течение 80 лет никто не примечал этой плиты и чтобы сведения о ней, как и о самой могиле, не нашли надлежащего отражения в нашей литературе, тем более после известных слов Языкова и газетной публикации Щеглова в 1899 году.
В описании истории Больше-Охтенского кладбища [503]503
Историко-статистические сведения С.-Петербургской епархии. СПб., 1883, вып. VII, стр. 252.
[Закрыть], составленном в 1883 году священником этого кладбища, в числе замечательных погребённых на нём лиц Арины Родионовны нет, тогда как, например, кормилица Александра I Евдокия Петрова, умершая в 1799 году, упомянута в этом описании. Слишком дорого имя Арины Родионовны всякому, чтобы пропустить или забыть его, и уже наверное в интересах кладбища было упомянуть побольше замечательных людей, нашедших в нём вечный приют.
Не оказалось никаких данных о могиле её и в 1914 году, ко времени составления Петербургского Некрополя [504]504
Петербургский Некрополь, под ред. В. И. Саитова. СПб., 1914.
[Закрыть], основанного на сообщениях кладбищенского духовенства, сведущих биографов, библиографов и знатоков петербургских кладбищ.
Чтобы окончательно и документально убедиться в несостоятельности этого предания, мы разыскали кладбищенские книги Больше-Охтенского кладбища, тщательно просмотрели записи захоронений 1828–1829 годов (которые, вопреки приведённой выше газетной заметке, оказались существующими) и не нашли ничего похожего на запись погребения Арины Родионовны.
При всех наших разысканиях мы считали, что, логически рассуждая, Арина Родионовна должна быть похоронена на одном из городских кладбищ. Учитывая проделанную уже И. Щегловым работу по разысканиям в приходе Введенской церкви (Семёновского полка) и на Волковом кладбище и полагая, что предпринятые им ещё в 1899 году поиски могли не иметь успеха прежде всего вследствие выполнения погребальной церемонии, по какой-либо причине, священником другого прихода, мы решили проверить церковные записи другой церкви, недалёкой от указанного И. Щегловым места жительства Павлищевых, – церкви Измайловского полка.
Последнее тем более необходимо было сделать, так как 25 января 1828 года в церкви Измайловского полка тайно от родителей венчалась Ольга Сергеевна с Павлищевым. Не без содействия «поручителей по жениху и невесте», поручиков того же полка Гаврилы Вульфа и Герцовского, венчание было устроено будто в поздний час. При таких обстоятельствах можно было предположить, что Ольга Сергеевна, только поселившаяся в Казачьем переулке, могла пригласить для выполнения траурной церемонии над прахом Арины Родионовны уже знакомых ей священнослужителей Измайловского полка.
Однако это наше предположение не подтвердилось.
Перед нами встал вопрос о достоверности публикации И. Щеглова, что первая квартира Павлищевых была в доме Дмитриева, в Большом Казачьем переулке, где они, по его данным, будто проживали с 1828 по 1832 год, и не почерпнуты ли им эти сведения не из домовых документов, а из рассказов любезных потомков М. Д. Дмитриева.
О проживании Павлищевых в доме Дмитриева мы имеем одно лишь очень ценное указание самого поэта, в письме к Нащокину от 7 октября 1831 года: «Отвечай мне как можно скорее, в Петербург, в Казачьем переулке в дом Дмитриева, О. С. Павлищевой, для доставления А. С. П.». Но проживали ли Павлищевы здесь в 1828 году, в год смерти няни?
При проверке нами записей Введенской церкви оказалось, что Павлищевых в документах 1828 года и последующих лет нет.
В 1829 году значится в этом приходе вдова купца Дмитрия Дмитриева Ксения Артемьева 70 лет, а в 1832 году купеческий сын Александр Дмитриев 25 лет. Это убедило нас в том, что дом Дмитриева числился в приходе Введенской церкви.
В 1829 году в этом же приходе нами обнаружен «Статского советника Сергея Пушкина слуга Никита Тимофеев 51 года» – известный нам Никита Тимофеевич, камердинер поэта и одно время брата его, Льва Сергеевича. Ему по ревизским сказкам села Болдина в 1816 году было 37 лет [505]505
П. Щёголев.Пушкин и мужики. М., 1928, стр. 264, 267 и 268.
[Закрыть].
О проживании Пушкиных в этом районе в 1829 году ничего не известно. Известно со слов А. П. Керн [506]506
А. П. Керн.Воспоминания. Л., 1929, стр. 274.
[Закрыть], что у Семёновского моста (в этом же приходе) проживали Пушкины в 1827 году.
Вместе с тем имеются указания, что в 1828 году Пушкины проживали в Свечном переулке в доме Касторской [507]507
М. И. Семевский.Прогулка в Тригорское; А. Н. Вульф.Дневники. М., 1929, комментарии И. С. Зильберштейна, стр. 426.
[Закрыть]. Продолжая наши разыскания истинного места жительства Павлищевых в 1828, 1829 и 1830 годах, также проверяя сведения о месте жительства Пушкиных в 1828 году, нам удалось установить, что в 1828 году в приходе Владимирской церкви (что в Придворных слободах) числятся «Г-на Павлицева» крепостные: Параскева Никитина 24 лет и Агриппина Михайлова 21 года, а в 1829 году «Г-на Павлицова» крепостной Пётр Михайлов 18 лет.
Фамилии «Павлицев» и «Павлицов» есть не что иное, как искажённая фамилия Павлищева. Это обстоятельство подтверждается прежде всего тем, что приведённые крепостные – наши старые знакомые.
Агриппина Михайлова и Пётр Михайлов известны нам как крепостные Пушкиных по селу Михайловскому, значившиеся в ревизских сказках 1816 и 1833 годов [508]508
П. Щёголев.Пушкин и мужики. М., 1928, стр. 264, 267 и 268.
[Закрыть]. Агриппина (Аграфена) Михайлова – дочь Михайлы Григорьева, которой в 1816 году значилось 10 лет. Пётр Михайлов – сын Михайлы Калашникова, управляющего Пушкиных. Ему в 1816 году значилось 3 года, а в 1833 году – 21 год. Параскева Никитина, вероятно, дочь того же Никиты Тимофеевича.