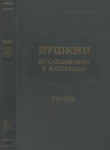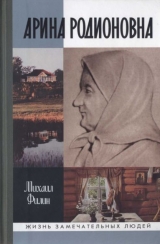
Текст книги "Арина Родионовна"
Автор книги: Михаил Филин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Вернувшись в Петербург, Александр Пушкин продолжил повесничать, заполнял между картами, дамами полусвета и дуэлями свою «красную тетрадь» (Н. А. Маркевич), упрямо дразнил полицию и правительство шумными выходками в публичных местах. Кроме того, в обществе обсуждали (и осуждали) его «антидеспотические» высказывания, а по рукам ходили пушкинские стихи весьма сомнительного политического свойства.
До поры до времени власти терпели эти «шалости», но уже в апреле 1820 года случилась беда: о поведении молодого дипломатического чиновника доложили императору Александру Павловичу.
Государь был рассержен и склонялся к тому, чтобы наказать «беспутную голову» самым строгим образом: «Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодёжь их читает» [212]212
ПВС-1. С. 103.
[Закрыть] . Однако благодаря заступничеству ряда влиятельных персон (таких, как H. М. Карамзин или директор Лицея Е. А. Энгельгардт) гроза всё-таки миновала. Как сообщил вскоре А. И. Тургенев князю П. А. Вяземскому в Варшаву, с проштрафившимся поэтом поступили по-царски «в хорошем смысле этого слова» [213]213
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. II. СПб., 1899. С. 36 (письмо от 28 апреля 1820 года).
[Закрыть] . Коллежский секретарь Пушкин был «в целях воспитания» переведён по службе в полуденные земли империи, под начало главного попечителя колонистов южного края России генерал-лейтенанта И. Н. Инзова, добрейшего старика.
Высочайшее распоряжение на этот счёт воспоследовало 4 мая 1820 года – и спустя два дня Александр Пушкин, именованный в официальных бумагах «курьером», покинул Петербург.
Осень и зима принесли в семейство Пушкиных новые неприятности.
На сей раз отличился Лёвушка, который вместе с некоторыми другими воспитанниками Благородного пансиона слишком бурно протестовал против удаления их любимого учителя и гувернёра В. К. Кюхельбекера (лицейского товарища Александра Пушкина). Пансионеры не только отказывались слушать преемника Кюхли и гасили свечи на лекциях, но заодно и «побили одного из учителей» [214]214
Летопись. С. 256 (из письма H. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву от 25 января 1821 года).
[Закрыть] или надзирателей, причём Л. С. Пушкин был в числе инициаторов скандального рукоприкладства. 26 февраля 1821 года брата поэта исключили из третьего класса пансиона.
Шестнадцатилетний барич опять оказался не у дел – однако идти в службу не торопился. По утверждению С. А. Соболевского, Лев Сергеевич иногда промышлял тем, что «ходил из дома в дом, читая наизусть какие-нибудь новые стихи брата. За это он вознаграждал себя хорошими ужинами, к которым его приглашали» [215]215
Бартенев.С. 373.
[Закрыть] . «Боюсь за его молодость, боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим…» – признавался Александр Пушкин барону А. А. Дельвигу в письме от 23 марта из Кишинёва (XIII, 26).
Волновалась и Арина Родионовна, которая с 1821 года жила в Петербурге у Пушкиных, в доме А. Ф. Клокачёва (она упомянута среди пушкинской дворни в исповедной книге храма у Покрова в Коломне [216]216
Ульянский. С.36.
[Закрыть] ). Старушке было от чего сокрушаться: судьба явно не благоволила к её питомцам. И то сказать: Оленьке шёл двадцать четвёртый год, а она всё томилась в светлице и никак не могла найти своего князя [217]217
Современники поговаривали о каком-то неудачном романе Ольги Сергеевны Пушкиной, имевшем место в Александровскую эпоху.
[Закрыть]; Лев рос каким-то забубённым, зряшным; об Александре же няне и вовсе думалось со страхом: уже другой царь невзлюбил «ангела». И если первый властитель, давнишний, лишь попенял за картуз да потопал августейшими ножками, то нынешний осерчал куда шибче: вон в какую даль спровадил безобидного юнца.
Что-то ждёт его, незадачливого, впереди?
Какие-то сведения о Пушкине до Арины Родионовны доходили. Александр, «огорчая отца язвительным от него отступничеством» [218]218
Остафьевский архив князей Вяземских. Т. II. СПб., 1899. С. 187 (из письма А. И. Тургенева к князю П. А. Вяземскому от 26 апреля 1821 года).
[Закрыть] , иногда писал братцу и сестрице, иногда петербургским знакомым – от них удавалось поживиться новостями и нянюшке. В дом Надежды Осиповны и Сергея Львовича на Фонтанке порою наведывались и приезжавшие с Юга путешественники. Они передавали приветы, поклоны и рассказывали про пушкинские будни и праздники в Екатеринославе, Кишинёве, Одессе, в иных городах и усадьбах.
В таких сообщениях было немало радостного для старухи, но мелькало и тревожное: поэт чуть поумнел, малость остепенился, однако по-прежнему вёл себя неосторожно, погуливал, сочинял всяческую чепуху, ссорился с окружающими, ставил жизнь на карту.Кто-то видел его обритым, другой – с длинными курчавыми волосами и «ногтями длиннее ногтей китайских учёных» (А. Ф. Вельтман); все в один голос повторяли, что он «находится в очень стеснённых обстоятельствах» (В. Ф. Вяземская), а иные, с умыслом или по недоразумению, даже распускали слухи о смерти Александра Пушкина. Однако такие зловещие сплетни, к счастью, быстро опровергались.
В зиму с 1821 на 1822 год старшие Пушкины, следуя семейственной традиции, сменили квартиру и перебрались в Климов переулок, в дом иностранца Гронмана. Их новое жилище располагалось неподалёку от дома А. Ф. Клокачёва и относилось к тому же церковному приходу. В исповедную книгу Покровской Больше-Коломенской церкви за 1822 год Арину Родионовну записали (под № 1479) как бывшую на исповеди дворовую «бригадира» и «статского советника» С. Л. Пушкина. С возрастом крестьянки храмовые грамотеи вновь напутали: ей начислили «70 лет» (вместо положенных шестидесяти четырёх) [219]219
Ульянский.С. 35.
[Закрыть] .
В конце февраля или в начале марта 1822 года сюда, в Климов переулок, прибыл подполковник И. П. Липранди, «добрый приятель» ( XIII 34)Пушкина по Бессарабии и Одессе. Иван Петрович (между прочим, вероятный прототип Сильвио из пушкинской повести «Выстрел»), странствовавший по служебным надобностям, привёз в Петербург из Кишинёва письма поэта к Льву Сергеевичу и другим лицам, а также новые пушкинские стихи, предназначенные для печати (XIII, 35–36).Спустя много лет И. П. Липранди описал свой визит в Коломну в воспоминаниях – и мы должны быть признательны мемуаристу за его строки об Арине Родионовне:
«При выезде моём из Кишинёва 4 февраля 1822 года в Петербург, Александр Сергеевич дал мне довольно большой пакет, включавший в себе несколько писем, чтобы передать оный не иначе, как лично брату его Льву Сергеевичу, а если, по какому-либо случаю, его на это время не будет в Петербурге, то его сестре (так пакет и был написан). <…> На другой день приезда в Петербург, исполнив обязанности службы, я прямо отправился к Сергею Львовичу, жившему по правой стороне Фонтанки, между Измайловским и Калинкиным мостами, в одноэтажном каменном с балконом доме, кажется, одним семейством Пушкина занимавшемся. Я никого не застал дома. Встретивший меня лакей, узнав, что я имею письмо от Александра Сергеевича, позвал какую-то старушку; от неё я узнал, что Александр Сергеевич предупредил уже обо мне. Само собой разумеется, что на все просьбы старушки оставить пакет я не согласился, обещая приехать вечером или на другой день. Расспросы об Александре Сергеевиче сопровождались слезами» [220]220
РА. 1866. № 10. С. 1481–1482.
[Закрыть] .
Записки И. П. Липранди, созданные на основе его дневника, «вмещавшего в себя все впечатления дня до мельчайших и самых разных подробностей», считаются у пушкинистов «исключительно ценным» [221]221
ПВС-1. С. 504.
[Закрыть] и надёжным историческим источником. Так что и к словам мемуариста о «старушке» – то есть о нашей героине – можно относиться с полным доверием. Это важно для биографа: ведь скрупулёзный И. П. Липранди в двух-трёх фразах сообщил об Арине Родионовне существенные сведения.
Из процитированного мемуарного фрагмента становится, например, ясно, что Арина Родионовна Матвеева занимала тогда в доме Пушкиных весьма привилегированное положение. В отсутствие барина и барыни она чуть ли не на правах хозяйкипринимала визитёров довольно высокого уровня – господ, да и домашние лакеи видели в ней не только старейшую прислугу, но и старшую.
Показательно и то, что няня была в курсе хозяйских дел и имела детальное представление о пушкинской переписке. Разговор с бравым офицером она вела запросто, и отнюдь не по-хамски [222]222
«Хам – прозвище лакеев, холопов или слуг; крепостной» ( В. И. Даль).
[Закрыть]: задавала гостю вопросы, предлагала свои услуги – одним словом, старушка непринуждённо беседовала.
Ну а слёзы Арины Родионовны при упоминании о её «ангеле» отметим конечно же особо. Эти рыдания крестьянки в присутствии незнакомого господина, рыдания непритворные и неудержимые, если угодно – «слишком человеческие», вряд ли требуют пространных комментариев.
Как же она тосковала по нему!
В том же 1822 году няню видел в Петербурге, возможно, и двоюродный дядя поэта – коллежский советник Александр Юрьевич Пушкин, судья Костромского совестного суда [223]223
В воспоминаниях А. Ю. Пушкина «К биографии Пушкина» об Арине Родионовне, среди прочего, сказано следующее: «…Я помню, что видел её при Сергее Львовиче и Надежде Осиповне в Москве ещё в 1822 году, куда я тогда приезжал по своим делам» (Книга воспоминаний о Пушкине. С. 18). Мы допускаем, что память подвела мемуариста и он спутал две столицы.
[Закрыть] .
Спустя полтора года после памятной встречи с подполковником И. П. Липранди Арина Родионовна, вероятно, столкнулась с другим посланцем из далёкого пушкинского мира. У нас есть основания думать, что в начале осени 1823 года петербургский дом на Фонтанке посетил одесский чиновник Дмитрий, Максимович Шварц. Позже, в декабре 1824-го, Пушкин в письме напомнил ему о нянюшке: «…Вы кажется раз её видели…» (XIII, 129) [224]224
В. В. Набоков предположил, что Дмитрий Максимович мог обратить внимание на Арину Родионовну «в Москве около 1810 г.», когда «маленький Шварц танцевал на детских праздниках с маленькой Ольгой Пушкиной» (Набоков В.Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 311). Научный редактор русского издания набоковского Комментария В. П. Старк заметил в этой связи: «Не исключён и другой, более правдоподобный вариант: Шварцы семейство петербургское, а потому вполне возможно, что их знакомство относится ещё к послелицейской юности поэта в столице. Однако у двух этих версий нет других доказательств, кроме <…> упоминания Пушкиным того, что Шварц видел Арину Родионовну. Петербургская встреча кажется более вероятной, чем московская» (Там же. С. 686).
Оба комментатора исходили из того, что Д. М. Шварц видел няню в присутствиипоэта или тогда, когда Пушкин был где-то поблизости (в том же городе, в Петербурге или Москве). Но в поле их зрения, похоже, не попал источник, позволяющий предложить совсем иную версию встречи чиновника канцелярии новороссийского генерал-губернатора с Ариной Родионовной.
Имеется в виду письмо Ф. Ф. Вигеля Пушкину от 8 октября 1823 года, направленное из Кишинёва в Одессу (XIII, 68).Из контекста этого письма вроде бы следует, что Филипп Филиппович незадолго перед тем получил послание от А. И. Тургенева из Петербурга и что тургеневская эпистолия была доставлена к Ф. Ф. Вигелю именно Д. М. Шварцем(последний, вручив письмо адресату, спешно отбыл в Одессу). Кстати, об отправленном письме Ф. Ф. Вигелю А. И. Тургенев сообщил 25 сентября князю П. А. Вяземскому (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. II. СПб., 1899. С. 352). Значит, в сентябре 1823 годаД. М. Шварц находился на невских берегах – и, заглянув тогда к Пушкиным, он мог увидеть Арину Родионовну. Ясно, что по прибытии в Одессу Д. М. Шварц тотчас рассказал Александру Пушкину о своём визите на Фонтанку.
[Закрыть] . Однако никаких подробностей визита Д. М. Шварца в Климов переулок отыскать не удалось.
(Кстати, в то время Александр Пушкин уже жительство-вал у моря, в Одессе, рассказывал княгине В. Ф. Вяземской, среди прочего, про «несправедливости его родителей» [225]225
Цит. по: Вересаев В.Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 215 (из письма В. Ф. Вяземской П. А. Вяземскому от 13 июня 1824 года из Одессы).
[Закрыть] , а начальником поэта по необременительной службе был новороссийский генерал-губернатор граф М. С. Воронцов.)
Летние месяцы в начале двадцатых годов Сергей Львович, Надежда Осиповна, Ольга, Лев и Арина Родионовна, судя по южным письмам поэта (XIII, 31, 42, 523),регулярно проводили в сельце Михайловском. Жили они, как и встарь, скромно, денег зачастую было в обрез, и в официальных бумагах о материальном положении семьи писалось почти оскорбительно: «Это фамилия мало состоятельная…» [226]226
Щёголев П. Е.А. С. Пушкин и граф М. С. Воронцов // Красный архив. 1930. № 1 (38). С. 182.
[Закрыть] Барон М. А. Корф, лицейский товарищ поэта, сосед по Коломне и довольно тенденциозный мемуарист, обрисовал петербургскую квартиру Пушкиных посредством таких красок: «Дом их был всегда наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой – пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, с баснословною неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всём, начиная от денег до последнего стакана» [227]227
ПВС-1. С. 118.
[Закрыть] .
От подобной унылой, близкой к истине прозы мы охотно перейдём к поэтическимматериалам для биографии Арины Родионовны, которые появлялись тогда же на Юге России.
За годы пребывания вне имперских столиц Александру Пушкину удалось совершить необычайный творческий рывок и выдвинуться в первый ряд российских поэтов. Он отдал в начале двадцатых годов положенную дань царившему тогда романтизму, прилежно учился у европейских и отечественных кумиров и одновременно преодолевал их влияние, открывал и расширял собственные творческие горизонты. В южный период Пушкиным были созданы, в частности, поэмы «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан», стихотворения «Погасло дневное светило…», «Чёрная шаль», «Редеет облаков летучая гряда…», «Наполеон» и многое другое – лирическое и историософское, светлое и (иногда) мрачноватое, сомнительное…
К нему пришла шумная повсеместная слава. Пушкинские творения ждали, переписывали и с восторгом заучивали, вокруг них закипали жаркие баталии в журналах и альманахах, в салонах и офицерских собраниях, в письмах дам и кавалеров. Даже император Александр Павлович, беседуя с приближёнными, аттестовал Пушкина как «повесу с большим талантом» [228]228
Цит. по: Летопись. С. 275 (из дневника П. Б. Козловского).
[Закрыть] и, кажется, подумывал о том, чтобы «помириться с ним» [229]229
Там же. С. 365 (из дневника М. П. Погодина).
[Закрыть] .
Кое-что из написанного на Юге поэт при помощи петербургских приятелей и брата Лёвушки издал почти сразу же, какие-то тексты попали в печать через несколько лет, но были и стихи, которые (в силу самых разных причин) не публиковались при жизни Пушкина.
Из помянутых подспудных произведений повышенный интерес для нас представляет сохранившееся в виде беловика с авторской правкой стихотворение 1822 года:
Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты весёлою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелён оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Младенчество прошло, как лёгкой сон.
Ты отрока беспечного любила,
Средь важных Муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила;
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнём улыбка оживилась!
Каким огнём блеснул приветный взор!
Покров, клубясь волною непослушной,
Чуть осенял твой стан полу-воздушный;
Вся в локонах, обвитая венком,
Прелестницы глава благоухала;
Грудь белая под жёлтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала… ( II, 241).
Со времён П. В. Анненкова и его «Материалов…» в науке доминирует мнение, что в этих стихах Александр Пушкин дал «портрет бабушки, Марьи Алексеевны, занимавшей его ребяческие лета» [230]230
Анненков.С. 35.
[Закрыть] .(Подкрепляется же указанная точка зрения, если разобраться, разве что авторитетом «первого пушкиниста».) Однако некоторые пушкинисты XIX–XX веков, прибегнув к различной аргументации, связали «Наперсницу волшебной старины…», с оговорками или без оных, не с М. А. Ганнибал, а с няней поэта.
К такому же выводу склоняется и автор настоящей книги.
На наш взгляд, и пленительные «напевы», и «большие очки», и «шушун», и особенно, конечно, само таинство предсонья —всё это гораздо более подходит Арине Родионовне, нежели её пожилой барыне [231]231
И в последующие годы няне посвящались преимущественно вечерниеи ночныестихи. А для досточтимой Марии Алексеевны Ганнибал, судя по имеющимся обрывочным сведениям, типичнее были всё же не напевы, а степенные рассказы, «семейные предания» (П. И. Бартенев), «драгой антик» ( I, 146)и дневноеобщение с внуком Сашей, его обучение.
[Закрыть]. К тому же поэтический образ «старушки» из стихотворения 1822 года вполне согласуется с образом «мамушки» из пушкинского «Сна» (1816) и, более того, развивает его. А тот образ, запечатлённый в лицейском Отрывке, как сказано, всё же «тяготеет к няне» (В. С. Непомнящий).
«Стихотворение „Наперсница волшебной старины“ совершенно исключительно тем, – утверждал В. Ф. Ходасевич, – что в нём старушка-няня и прелестная дева-Муза являются как два воплощения одного и того же лица. <…> Понятия няни и Музы в мечтании Пушкина были с младенчества связаны…» [232]232
Ходасевич.Выделено автором очерка.
[Закрыть] А в более раннем своём очерке, «Явления Музы» (1925), Владислав Ходасевич писал по этому поводу так: «…Традиционный образ Музы, обычно изображаемой в виде прелестной девы, на сей раз расширен и усложнён: Муза Пушкина является в двух образах, соответствующих разным биографическим моментам и разным характерам его вдохновений» [233]233
Ходасевич В.Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1997. С. 404.
[Закрыть] .
Проще говоря, Арина Родионовна воспринималась взрослеющим и становящимся большим художником Пушкиным как первый, изначальныйобраз его Музы, явившийся поэту задолго до Музы хрестоматийной, то бишь лицейской:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
………………………………
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне… (VI, 165).
Тут, в «Евгении Онегине», для публики всё более или менее понятно и приемлемо; там, в «Наперснице волшебной старины…», – тоже как будто ясно, однако та(1822 года) ясность значительную часть публики шокирует.
Неграмотная крепостная баба, находившаяся у поэтической «колыбели» и вручившая младенцу магическую «свирель» – декларация не только принципиальная, но и неслыханно дерзкая, бросающая вызов общественному мнению, ненормативнаядля сословного сознания и литературы первой четверти XIX столетия. Может быть, именно поэтому стихи и не были Пушкиным никогда опубликованы? «Поэт, слишком ещё помнивший поэтический канон XVIII века, вероятно, был несколько озадачен: в начале двадцатых годов такая модернизация могла показаться ему рискованной», – предположил В. Ф. Ходасевич [234]234
Там же. С. 407. Уточним: В. Ф. Ходасевич исходил из того, что стихотворение «Наперсница волшебной старины…» не было Пушкиным завершено. Однако большинство пушкинистов убеждены, что это всё же законченноепроизведение.
[Закрыть] .
Верна или нет догадка эмигранта, судить не берёмся. Да и проблема пушкинского «портфеля» (или «письменного стола»), по сути своей проблема очень важная, всё-таки не слишком актуальна в контексте жизнеописания Арины Родионовны. Поэтому здесь мы вполне удовольствуемся фиксацией факта – поразительного признания поэта, гордившегося своим шестисотлетним дворянством и не чуждого аристократическим замашкам из арсенала la fine de la société [235]235
Сливок общества (фр.).
[Закрыть];того творческого признания, которое он доверил бумаге в 1822 году.
Минуло несколько месяцев после создания «Наперсницы волшебной старины…» – и Александр Пушкин «с упоеньем» (XIII, 382)приступил к многолетней и многотрудной работе над романом в стихах «Евгений Онегин».
К началу декабря 1823 года он завершил в целом две первые песни (VI, 299)«свободного романа» и с февраля следующего года (VI, 303)сочинял третью главу. (Долгое время считалось за аксиому, что уже к июню 1824 года «глава <была> дописана до письма Татьяны включительно» [236]236
См., напр.: Лотман.С. 17.
[Закрыть] , однако новейшие текстологические исследования существенно скорректировали представления пушкинистов касательно хронологии и последовательности работы поэта.) Ямбические строфы «большого стихотворения» писались Пушкиным в Одессе и Кишинёве ( VI, 532) – и на одной из строф, предназначавшейся для второйпесни «Онегина», нам надлежит остановиться.
Во второй главе романа перед читателем впервые предстала Ольга Ларина [237]237
Мимоходом отметим, что эта фамилия почти тождественна имени пушкинской няни (Ларина – Арина).
[Закрыть].
В XX веке В. В. Набоков и И. М. Дьяконов [238]238
Набоков В.Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 253–254; Дьяконов И. М.Об истории замысла «Евгения Онегина» // ПИМ. Т. 10. Л., 1982. С. 84–88.
[Закрыть] подметили, что Пушкин изначально отводил ей вовсе не ту роль «второго плана», которую она в конце концов получила, а роль самую что ни на есть главную. Скорее всего, на долю миловидной девушки из усадьбы должно было выпасть жестокое испытание: впереди бедную Ольгу поджидала мучительная, неразделённая любовная страсть. «В те дни, – пишет уже С. А. Фомичёв относительно работы Александра Пушкина над черновиком соответствующих стихов об Ольге в тетради ПД № 834, – автору грезилась её трагическая судьба» [239]239
Фомичёв С. А.«Евгений Онегин»: Движение замысла. М., 2005. С. 45.
[Закрыть] . Сестры (то есть знаменитой Татьяны), при таком замысле, у Ольги Лариной не предвиделось: она оставалась, как выразился В. В. Набоков, «единственной дочерью, которую (с неизбежными литературными последствиями) должен был совратить негодяй Онегин» [240]240
Набоков В.Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 253.
[Закрыть] .
А «опорным образцом» для тойроманной Ольги, для «ландыша потаённого» (VI, 287),по остроумной догадке И. М. Дьяконова, была родная сестра поэта, Ольга Сергеевна Пушкина (выше указывалось, что она некогда тоже принесла жертву на алтарь несчастной любви).
Данное предположение должно быть особенно любезно тем, кто видит в романе «Евгений Онегин» не только художественный текст, но и своеобразные поэтические мемуарыПушкина [241]241
Более или менее развёрнутое обоснование этого воззрения дано в кн.: Филин М.Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»), С. 83–91.
[Закрыть] . Среди доводов же в пользу версии И. М. Дьяконова мы выделим один: следом за Ольгой Лариной – причём почти сразу, через несколько стихов – в черновике второй главы (а именно – в строфе XXIIб, по нумерации Большого академического собрания сочинений поэта) появилась её няня Фадеевна, в которой угадываются черты Арины Родионовны:
Ни дура Английской породы
Ни своенравная Мамзель
(В России по уставам [моды]
Необходимые досель)
Не баловали Ольги милой
Фадеевна рукою – хилой
Её качала колыбель
Стлала ей детскую постель
Помилуй мя читать учила
Гуляла с нею, средь ночей
Бову рассказывала <ей>
Она ж за Ольгою ходила
По утру наливала чай
И баловала невзначай ( VI, 287–288) [242]242
В предыдущей главе был приведён вариант белового автографа данной строфы ( VI, 566).
[Закрыть].
В черновых наслоениях пушкинской рукописи сходство Фадеевны с означенным прототипом также не ставится под сомнение:
Не портили её природы
Наставница её…
И сказку говорила ей…
И всё ж за Ольгою ходила… (VI, 288).
Позже, после ряда событий в жизни Пушкина, фабула романа «вдруг» и кардинально изменилась, и по воле автора у Ольги Лариной появилась сестра Татьяна, возведённая (вместо Ольги) в главные героини «Евгения Онегина» [243]243
Там же. С. 91–97.
[Закрыть] . Попутно подверглась переделке и помянутая строфа: в беловике второй главы имя Ольги было заменено именем Татьяны, а Фадеевна стала няней обеих девиц Лариных ( VI, 566–567).
Далее мы увидим, что однажды показавшаяся на страницах пушкинского романа нянюшка – «бесподобное лицо в русской литературе по эпической простоте и красоте типа» [244]244
Сумцов. С.111.
[Закрыть] – присутствовала там вплоть до самой последней песни.
Мораль главы, которая вместила в себя около тринадцати лет жизни нашей героини (с лета 1811-го до лета 1824 года), примерно такова.
Годы разлуки не расторгли душевного союза Арины Родионовны и её воспитанника – напротив, в тот период родство их душ и окрепло, и наполнилось качественно новыми, глубинными смыслами. Для няни где-то странствующий и всеми гонимый Александр Сергеевич не превратился в отрезанный ломоть – нет, он продолжал оставаться незабываемым «ангелом», по которому в городах и весях сохло её материнскоесердце, лились её старушечьи слёзы и которого она жаждала увидеть.
Человеку добропорядочному просто грешно не отозваться на подобную беззаветную любовь – отозваться равновеликой (или хотя бы посильной) благодарной привязанностью. Но для такого, в некотором роде обыденного и чем-то напоминающего эхо, жеста необходимы, если вдуматься, сущие пустяки быта: нужны всего-навсего встречаи сожительство,располагающий к напряжённому диалогу чувств хронотоп.
Находившийся в отдалении, ничего не знавший о своём будущем Александр Пушкин откликнулся на плач Родионовны чем только мог – высшим встречным признанием поэта: любимая с раннего детства няня стала предметом его поэзии. «Эти воспоминания (поэтические. – М.Ф.), быть может, важнее привязанности, но они всецело остаются в области поэзии», – заметил и В. Ф. Ходасевич [245]245
Ходасевич.
[Закрыть] .
Свой обыденный, человеческийответ старушке Пушкин поневоле приберёг до лучших времён.
Или – как посмотреть – до худших?
Весною 1824 года поэт сочинял в Кишинёве лирические фрагменты третьей главы «Евгения Онегина» – и не ведал, что такие времена вот-вот наступят.
Совсем к вечеру склонилась жизнь нашей нянюшки, уже и ночлег вечный где-то приуготовлен был ей. У домика у ветхого примостила о ту пору старушка телегу: пора, дескать, и тележке верной на покой, наскрипелась, древняя, вдоволь, отслужила своё.
Взошла нянюшка в домик, села в горнице к малому оконцу, стала смертный час поджидать. Ждёт-пождёт – а всё понапрасну. Вдруг в зорничник земля за голубою рекою загудела, пыль над дорогою столбом поднялась, где-то топот конский разнёсся: видать, вот оно, от мук избавленье споро движется. И всё ближе, громче сей перегуд – вот уже и на самом дворе тёмном, под домиком, ржание саврасок бабушке чудится.
Очнулась от долгой дремоты тогда нянюшка, привстала, перекрестилась напоследок, поковыляла дверь неотвратимому гостю отворять. А как распахнула створ – так и ахнула, чуть оземь не грохнулась.
Вовсе не тот гость к старухе пожаловал, не провожатый. На пороге ангел её, целый и невредимый, стоял, руки к ней, будто дитятко, тянул…