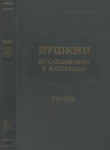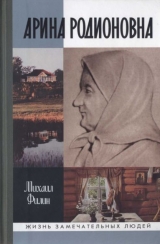
Текст книги "Арина Родионовна"
Автор книги: Михаил Филин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Арина Родионовна не терялась в догадках: она сразу увидела, что её «ангел» встретил господина в «заиндевевшей шубе и шапке» так, как никого не принимал ранее – встретил как родногочеловека. Этого было достаточно, чтобы и для няни неведомый заснеженный гость с порога, без каких бы то ни было рекомендаций, тоже стал родным.
Всего-то несколько часов, до ночи, пробыл Иван Пущин в Михайловском – а воспоминание о мимолётном свидании с трогательной старушкой он пронёс и через каторжную Сибирь, и через всю жизнь. Память декабриста сохранила множество эпизодов того дня с участием Арины Родионовны.
Он и в старости, повествуя об Александре Пушкине, ясно видел: как «среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках»; как за обедом она отведала привезённого «искромётного» Клико (!) и развеселилась; как Арина Родионовна, почему-то вообразившая, что Пущин останется погостить, «велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились», – и вся честная компания едва не угорела [296]296
ПВС-1. С. 106, 109–110.
[Закрыть] . Сам того, видимо, не подозревая, мемуарист походя создал в мемуарном тексте о Пушкине лиричный этюд о нашей героине.
Спустя месяц после посещения ссыльного друга, 18 февраля 1825 года, И. И. Пущин черкнул тому несколько строк. Примечательно, что это письмо, отосланное из Москвы, кончалось словами: «Кланяйся няне» (XIII, 144).
Пущинская весточка была доставлена адресату как раз в те февральские дни, когда Пушкин, заботясь об Арине Родионовне, расстался с домоправительницей (или экономкой) Р. Г. Горской, «мерзавкой и воровкой». «…Розу Григорьевну я принуждён был выгнать за непристойное поведение и слова, которых не должен я был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от неё худеть» – так мотивировал поэт произведённую им «перемену в министерстве» в письме к брату Льву от 23 февраля 1825 года (XIII, 146).
(П. Е. Щёголев почему-то решил, что нанесённая Арине Родионовне обида, «по всей видимости, имеет отношение к интимным делам Пушкина», то есть к его «роману» с Ольгой Калашниковой: «Ушла Роза, которая могла быть свидетельницей романа. <…> А в чём обида, можно только строить догадки» [297]297
Щёголев.С. 50.
[Закрыть] . Пушкинист весьма категорично зачислил няню в «лютые гаремные стражи» (В. Ф. Ходасевич), в «покровительницы романа»: «В узкой ограниченности барского дома и усадьбы от няни не укрылось бы ни одно вожделение любезного её сердцу питомца» [298]298
Там же. С. 48, 50. По каким-то причинам П. Е. Щёголев вообще относился к пушкинской няне с нескрываемым раздражением. Вот, к примеру, одна из его инвектив: «Она жила в таком близком общении со своим питомцем, что уж никак не могла не заметить, на кого направлены вожделеющие взоры её питомца. <…> Ох, эта Арина Родионовна! Сквозь обволакивающий её образ идеалистический туман видятся иные черты. Верноподданная не за страх, а за совесть своим господам, крепостная раба, мирволящая, потакающая барским прихотям, в закон себе поставившая их удовлетворение! Ни в чём не могла она отказать своему неуимчивому питомцу» (Там же. С. 48).
[Закрыть] .
В. В. Вересаев в очерке «Крепостной роман Пушкина» (1928) сдержанно возразил Павлу Елисеевичу: «Откуда это знает Щёголев? <…> Мы не имеем данных утверждать, что Родионовна в чём-нибудь перечила Пушкину, но также не имеем решительно никаких данных с щёголевскою уверенностью признавать её своднею в любовных делишках своего питомца. Общее уважение, которым она пользовалась в семье Пушкина, не достигается одним низкопоклонством и потаканием барским прихотям. И во всяком случае, по крайней мере, столь же вероятно, что она с осуждением, – пускай, может быть, и молчаливым, – относилась к шалостям молодого барина» [299]299
Вересаев В. В.Загадочный Пушкин. М., 1996. С. 305. Поддержал В. В. Вересаева и А. И. Ульянский: «Такое обвинение, брошенное (П. Е. Щёголевым. – М. Ф.)Арине Родионовне, не имеющее под собою никакой почвы, на основании одной лишь догадки, является по меньшей мере странным» ( Ульянский. С.41). Сам П. Е. Щёголев оценил вересаевское суждение следующим образом: «За няню обиделся на меня Вересаев. Защищая няню, он опустился до лицемерных аргументов, доносящих до нас крепостнические ароматы. <…> Но ведь он же пушкинист и должен знать, что „общему уважению семьи Пушкина“ цена – ломаный грош» (Щёголев.С. 50).
[Закрыть] .)
Уже весной, в апреле 1825 года, у поэта в Михайловском гостил другой его лицейский друг – барон А. А. Дельвиг. Очевидно, и он быстро сдружился с Ариной Родионовной. Позже барон помянул няню добрым словом в одном из писем к Пушкину (XIII, 295).
Хорошо запомнила старушку и Анна Петровна Керн, неоднократно приезжавшая в Тригорское и заодно посещавшая Михайловское. Свидетельством тому стали тёплые мемуарные строки «вавилонской блудницы» об Арине Родионовне.
Любопытное воспоминание о четырёхдневном пребывании во владениях Александра Пушкина оставил офицер Лубенского гусарского полка Александр Петрович Распопов (Роспопов), давний знакомый поэта [300]300
А. П. Распопов (1803–1882) был племянником директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта; кроме того, он встретился с Пушкиным 7 августа 1824 года на почтовой станции Могилёв. Впоследствии А. П. Распопов вышел в генерал-майоры. Хотя его воспоминание о Пушкине «совершенно недостоверно в подробностях» (Я. Л. Левкович), к «михайловским» страницам мемуаров А. П. Распопова учёные обычно относятся с определённым доверием.
[Закрыть]. Гусар наведался в сельцо Михайловское с приятелями по полку в июне или июле 1825 года. Этому эпизоду он отвёл чуть более тридцати строк своего мемуарного очерка – и вышло так, что почти половину текста офицер посвятил Арине Родионовне. Как будто именно к пушкинской няне, сделав порядочный крюк, заглянул лихой поклонник стихов и шампанского…
Она-то и встретила развесёлую офицерскую компанию в Михайловском: «Когда подходили мы к дому, на крыльце стояла пожилая женщина, вязавшая чулок; она, приглашая нас войти в комнату, спросила:
– Откудова к нам пожаловали?»
Из дальнейшего рассказа А. П. Распопова выясняется, что Арина Родионовна самым тщательным образом ухаживала за гостями все четыре летних дня: «Няня около нас хлопотала, сама приготовляла кофе, поднося, приговаривала:
– Не прогневайтесь, родные, чем Бог послал: крендели вчерашние, ничего, кушайте на доброе здоровье, а вот мой Александр Сергеевич изволит с маслом кушать ржаной…»
Да и расставание офицеров со старушкой было столь же сердечным: «Няня Арина Родионовна на дорогу одарила нас своей работы пастилой и напутствовала добрым пожеланием» [301]301
Роспопов А.Встреча с А. С. Пушкиным в Могилёве: 1824 г. // PC. 1876. № 2. С. 466–467.
[Закрыть] .
Словом, и приняла, и приветила, и проводила нянюшка нежданных гостей как натуральная радушная помещицасредней руки.
«Няня заочно у вас, Ольга Сергеевна, ручки цалует – голубушки моей», – напоминал поэт своей сестре об Арине Родионовне в августе 1825 года (XIII, 209).
А чуть раньше, во второй половине июля 1825 года, Пушкин написал на французском языке пространное письмо к верному конфиденту – H. Н. Раевскому-младшему [302]302
Возможно, данное послание так и не было отослано адресату.
[Закрыть]. Там, среди теоретических размышлений о драме, между строк о Байроне, Шекспире и прочем, присутствовали и такие знаменательные слова: «Покамест я живу в полном одиночестве <…>, и у меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии; последняя подвигается, и я доволен этим» (XIII, 197, 540–541).
(Кстати, работая над «Борисом Годуновым», Александр Пушкин, как полагают некоторые учёные, привнёс в образ мамки царевны Ксении черты своей няни.)
Да, именно «Борис Годунов» и Арина Родионовна были двумя столпамиего тогдашнего деревенского бытия – бытия в эпоху, когда поэт внезапно прозрел: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (XIII, 198, 542).
Заметим: ещё совсем недавно Пушкин запросто мог примериваться к разрушительнойсудьбе князя Андрея Курбского – теперь же он «мог творить [303]303
Выделено мной.
[Закрыть]»…
К «полному развитию» его гения была причастна и шестидесятисемилетняя крепостная старуха с неизменными спицами в руках. Повторим слова В. С. Непомнящего: «Я склонен думать, что это влияние было необычайно значительным <…>. Я думаю также: то, что мы называем художнической мудростью и объективностью Пушкина, его мужественное эпическое беспристрастие, его умение взглянуть на жизнь и на собственную судьбу „взглядом Шекспира“, оформилось в свою полную национальную меру именно в деревне, рядом с няней, когда творческий опыт его получил народный привой; ведь Шекспир и дорог был ему прежде всего как гений „народной трагедии“» [304]304
Непомнящий.С. 127.
[Закрыть] .
Через год после налёта гусарского отряда под водительством А. П. Распопова в гости к Пушкину пожаловал поэт Николай Языков, студиоз Дерптского университета, приятельствовавший с А. Н. Вульфом. Он поселился в Тригорском, но регулярно посещал и Михайловское, где пылкого стихотворца (вкупе с гулякой Алексеем Вульфом) принимала всё та же Арина Родионовна.
В языковских письмах из деревни за июнь – июль 1826 года старушка вроде бы никак не фигурировала, однако позднее Николай Михайлович почтил её стихами,посвятив нашей героине целых дваискренних послания. В этих произведениях 1827 и 1830 годов есть немало живописных подробностей об Арине Родионовне.
Судя по одному из писем H. М. Языкова к А. Н. Вульфу (от 18 мая 1827 года из Дерпта [305]305
Санктпетербургские ведомости. 1866. № 163. 17 июня.
[Закрыть] ), он летом 1826 года обещаяпушкинской няне написать стихи в её честь – и уже 17 мая следующего года H. М. Языков исполнил обещание.
Правда, автор вначале перепутал имя старушки и нарёк её Васильевной(в таком виде список стихов и попал к Пушкину через П. А. Осипову; XIII, 349–350).Смущённый своей ошибкой H. М. Языков писал 6 июня 1827 года А. Н. Вульфу в Тригорское: «Мне очень жаль, что няня не Васильевна! Вот новое доказательство той великой истины, что поэту необходимо знать совершенно предмет своего славословия прежде, нежели примется за перо стихотворное» [306]306
Языковский архив. Вып. 1: Письма H. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 413.
[Закрыть] . Стихотворец, однако, успел исправить огрех, и в альманахе «Северные цветы на 1828 год» (год издания – 1827-й) нянюшка обрела-таки надлежащее отчество.
Стихи, напечатанные в «Северных цветах» (в Отделе поэзии) под названием «К няне», можно трактовать как поэтический портрет Арины Родионовны и – одновременно – как языковский отчёт о славном совместном времяпрепровождении четырёхлиц летом 1826 года:
Свет Родионовна, забуду ли тебя?
В те дни, как сельскую свободу возлюбя,
Я покидал для ней и славу, и науки,
И немцев, и сей град профессоров и скуки.
Ты, благодатная хозяйка сени той.
Где Пушкин, не сражён суровою судьбой,
Презрев людей, молву, их ласки, их измены,
Священнодействовал при алтаре камены, —
Всегда приветами сердечной доброты
Встречала ты меня, мне здравствовала ты,
Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета,
Ходил я навещать изгнанника-поэта,
И мне сопутствовал приятель давний твой,
Ареевых наук питомец молодой [307]307
Алексей Вульф.
[Закрыть].
Как сладостно твоё святое хлебосольство
Нам баловало вкус и жажды своевольство;
С каким радушием – красою древних лет —
Ты набирала нам затейливый обед!
Сама и водку нам, и брашна подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла
На милой тесноте старинного стола!
Ты занимала нас – добра и весела —
Про стародавних бар пленительным рассказом:
Мы удивлялися почтенным их проказам,
Мы верили тебе – и смех не прерывал
Твоих бесхитростных суждений и похвал;
Свободно говорил язык словоохотный,
И лёгкие часы летели беззаботно! [308]308
Цит. по: Языков H. М.Златоглавая, святая… / Сост., вступ. ст. и примеч. Е. Ю. Филькиной. М., 2003. С. 73–74.
[Закрыть]
В стихотворении 1830 года H. М. Языков вновь обратился к «вакхическим» воспоминаниям о встречах с Ариной Родионовной в июне – июле 1826 года:
Мы пировали. Не дичилась
Ты нашей доли – и порой
К своей весне переносилась
Разгорячённою мечтой;
Любила слушать наши хоры,
Живые звуки чуждых стран,
Речей напоры и отпоры
И звон стакана об стакан!
Уж гасит ночь свои светила,
Зарёй алеет небосклон;
Я помню, что-то нам про сон
Давным-давно ты говорила.
Напрасно! взял своё токай,
Шумней удалая пирушка.
Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничать давай!
Ты расскажи нам: в дни былые,
Не правда ль, не на эту стать
Твои бояре молодые
Любили ночи коротать?
………………………………
Со мной беседовала ты,
Влекла моё воображенье… [309]309
Там же. С. 91–92.
[Закрыть]
Николай Языков покинул Тригорское и Михайловское в середине июля 1826 года – ориентировочно 17-го числа. По преданию, Арина Родионовна, прощаясь с полюбившимся ей молодым человеком, подарила тому шкатулку, изготовленную деревенским умельцем. С этим «заветным ларцем» H. М. Языков будто бы никогда не расставался, а после кончины поэта шкатулка находилась у его потомков, которые в 1951 году передали реликвию на государственное хранение.
О няниной шкатулке написано немало статей и заметок [310]310
См., напр.: Шкатулка Арины Родионовны // Литературная газета. 1950. № 43. 27 мая. С. 2; Осетров Е.Записки старого книжника. М., 1984. С. 37–46; и др.
[Закрыть] . Некоторые учёные и писатели относятся к ней весьма скептически [311]311
Определённые предпосылки для недоверия у них, признаться, имеются: вспомним хотя бы про серебряную чайную ложечку с ситечком и надписью: «Дорогому Саши на добрую память от Арины Родионовны» (см. Предисловие).
[Закрыть], другие же, напротив, горячо ратовали и ратуют за её подлинность. Среди последних был, в частности, и хранитель Пушкинского заповедника С. С. Гейченко. Вот что говорится в одном из очерков подвижника:
«Шкатулка эта прямоугольной формы, дубовая, с отделкой из вишнёвого дерева, с откидной крышкой, в центре которой – небольшое, ныне заделанное, отверстие „для копилки“. На внутренней стороне крышки – пожелтевшая от времени бумажная наклейка с надписью чернилами: „Для чорного дня. Зделан сей ящик 1826 года июля 16-го дня“. Ларец закрывается на замок, сохранность его довольно хорошая. Это единственная подлинная вещь Арины Родионовны, дошедшая до наших дней» [312]312
Гейченко С. С.У Лукоморья: Рассказы хранителя Пушкинского заповедника. Л., 1986. С. 279.
[Закрыть] .
Что ж, дата на крышке указана вполне правдоподобная – и данное обстоятельство, видимо, стоит учитывать в спорах о подлинности языковского ларца.
Ещё в начале прошлого столетия протоиерей В. Д. Смиречанский опубликовал в провинциальной печати интересный документ – роспись Воскресенской церкви погоста Вороничи Опочецкого уезда, составленную в 1825 году священником Илларионом Евдокимовым Раевским (известным «Шкодой»). Среди «дворовых людей» сельца Михайловского «помещицы Надежды Осиповой, жены Пушкиной» в росписи была отмечена и «вдова Ирина Родионова 71 г<ода>» [313]313
Смиречанский В. Д… прот<оиерей>.Дворовые и соседи А. С. Пушкина в Михайловском в 1825 году // Из Псковской старины. Вып. 1. Псков, 1916. С. 15. Возраст нашей героини, как видим, вновь указан неверно.
[Закрыть] .
Деревенская жизнь «вдовы Ирины» в годы ссылки Пушкина отнюдь не ограничивалась «домашним кругом» ( VI, 78),о чём свидетельствуют новонайденные архивные материалы.
Документы Великолукского архива извещают нас о том, что няня поэта не раз участвовала в церемониях венчания местных крестьян и дворовых. Так, 5 января 1826 года она выступила в качестве свидетельницы при бракосочетании «помещика Ганибала сельца Петровского [314]314
Сельцо Петровское входило в состав михайловских владений и принадлежало двоюродному деду Пушкина П. А. Ганнибалу.
[Закрыть]дворового человека Тимофея Стефанова 33 лет с дворовой девкой Параскевой Фёдоровой 21 года». В метрической книге было прописано: «Поручители: отец венчальный дворовый человек Егор Харитонов, мать венчальнаяпомещицы Пушкиной сельца Михайловского дворовая жена Ирина Родионова и сторонние того сельца Михайловского дворовый человек Василий Михайлов и Архип Кирилов» [315]315
Новиков Н. С.Летопись сельца Михайловского и окрестностей, которую вели местные священнослужители // Христианская культура. Пушкинская эпоха: По материалам традиционных христианских пушкинских чтений. Вып. XII. СПб., 1996. С. 41. Выделено в подлиннике.
[Закрыть] .
Другая запись в той же метрической книге гласит, что в 1826 году Арина Родионовна стала крестной матерью Варвары – первенца обвенчанных в январе дворовых людей Тимофея и Параскевы [316]316
Новиков Н. С.Указ. соч.
[Закрыть] .
Конечно, нянюшка постоянно общалась и со своими детьми и их семьями, крепостными сельца Михайловского, но об этой стороне её жизни нам, к сожалению, ничего не известно.
Так как наша героиня была человеком, что называется, публичным,то она попала в воспоминания некоторых жителей тех мест.
Например, дочь П. А. Осиповой, Мария Ивановна, поведала в 1866 году приехавшему в Псковскую губернию историку М. И. Семевскому: «Это была старушка чрезвычайно почтенная – лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца, но с одним грешком – любила выпить… Бывала она у нас <в> Тригорском часто…» [317]317
ПВС-1. С. 426.
[Закрыть]
(Стоит, пожалуй, коротко прокомментировать неосторожное высказывание М. И. Осиповой, ибо оно зачастую используется в неблаговидных целях. Под хмельком Арину Родионовну иногда, действительно, видели, однако только ангажированные щелкопёры могут вещать об «алкоголизме» нашей героини. Да, вино, случалось, веселило её изнурённое сердце, дарило душе короткую, преходящую иллюзию пира —но оно не являлось болезненной, «горькой» страстью нянюшки.)
Другому археографу, К. А. Тимофееву, удалось летом 1859 года встретиться в сельце Михайловском с Петром Парфёновым, бывшим кучером поэта, «стариком лет за 60, ещё бодрым» и «толковым». В ходе долгого разговора о Пушкине собеседники уделили внимание и его старой подруге:
«– А няню его помнишь? Правда ли, что он её очень любил?
– Арину-то Родионовну? Как же ещё любил-то, она у него вот тут и жила. И он всё с ней, коли дома. Чуть встанет утром, уж и бежит её глядеть: „здорова ли, мама?“ – он её всё мама называл. А она ему, бывало, эдак нараспев (она ведь из-за Гатчины была у них взята, с Суйды, там эдак все певком говорят): „батюшка ты, за что меня всё мамой зовёшь, какая я тебе мать“.
– Разумеется, ты мне мать: не то мать, что родила, а то, что своим молоком вскормила [318]318
Напомним читателю, что Арина Родионовна кормилицей Александра Пушкина не была.
[Закрыть]. – И уже чуть старуха занеможет там, что ли, он уж всё за ней. <…>
– А правда ли, Пётр, что Александр Сергеевич читывал няне свои стихи и сам любил слушать её сказки?
– Да, да, это бывало: сказки она ему рассказывала, а сам он ей читал ли что, не запомню: только точно, что он любил с ней толковать» [319]319
Там же. С. 429.
[Закрыть] .
Из нехитрой повести сохранившего хорошую память кучера видно, что Пушкин никоим образом не стыдился своего чувства к крепостной старухе, не прятал его от чужих глаз: он выказывал любовь к «маме» и вне дома, прилюдно.
А очередной поэтическойдекларацией его любви к Арине Родионовне стало стихотворение «Зимний вечер», которое датируется (согласно помете в цензурной рукописи; II, 920)1825 годом. Пушкин дважды напечатал эти стихи при жизни [320]320
Северные цветы на 1830 год. СПб., 1829. С. 34–35; Стихотворения А. С. Пушкина. СПб., 1832. Ч. 3. С. 190–192.
[Закрыть] :
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила [321]321
Имеется в виду народная песня «За морем синичка не пышно жила…».
[Закрыть];
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла [322]322
Подразумевается народная песня «По улице мостовой…».
[Закрыть].
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей (II, 387).
Полагаем, что «Зимний вечер» – недооценённое стихотворение. Это произведение чуть ли не космического масштаба; произведение, которое нуждается в комплексном – философическом, культурологическом, филологическом и прочем – исследовании.
Здесь мы укажем лишь на одну из принципиальных пушкинских аллюзий.
…И был вечер, «зимний вечер», когда устоявшийся мир внезапно рухнул, переродился в хаос – кружащийся, тревожный и угрюмый, полный скрытых намёков и явных угроз.
Сутью обновившегося мира стала почти беспредельная его пустота, чуть ли не тотальная ирреальность. Живые обыденные звуки, будь то звериный вой или плач ребёнка, шуршание соломы или человеческий стук в окошко, – вмиг умерли: нагрянувшая буря заглушила их или подменила субституциями. Вихрь утвердился тогда и на земле, и в поднебесье, – а тварный мир онемел и обезлюдел, то есть фактически исчез. И вроде бы возобладал непроглядный хаос повсюду, как будто переиначил на свой лад или уничтожил всё и вся – однако не сумел поглотить, разрушить одну-единственную «ветхую лачужку», и два живыхи сохранивших дар словасущества уцелели, спаслись.
Этими последнимисуществами оказались поэт и его седая няня. Первый ответствовал хаосу стихами, а «добрая подружка» могла противопоставить стихии душевную старую песню.
Так, объединив свои усилия и сдвинув кружки, они и выстроили в помрачённом мире нерушимый сердечный ковчег.
Из всех сочинений, прямо или косвенно связанных с Ариной Родионовной, «Зимний вечер» является, по-видимому, самым онтологическимпушкинским опытом. Профессор Н. Ф. Сумцов вообще считал его «одним из лучших в художественном отношении произведений» поэта [323]323
Сумцов.С. 114.
[Закрыть] . С такой оценкой согласились и другие пушкинисты, в частности И. О. Лернер [324]324
Лернер.С. 15.
[Закрыть] . «Это сквозь слёзы писано», – подметил В. Ф. Ходасевич [325]325
Ходасевич.
[Закрыть] .
Упомянута была «няня» и в строфе XXXV четвёртой главы «Евгения Онегина», которая также создавалась в Михайловском:
Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няни.
Подруги юности моей… (VI, 88).
А в черновике современные текстологи сталкиваются с такими (записанными карандашом) вариантами третьего стиха:
Читаю ныне старой няни…
Читаю доброй старой няни… (VI, 369).
В ряде авторитетных изданий, скажем, в указателе имён к соответствующему тому Большого академического собрания сочинений Пушкина (который вышел в 1937 году под редакцией Б. В. Томашевского), «старая няня» идентифицирована как Арина Родионовна ( VI, 665).Итак, в романе с некоторых пор стали сосуществовать сразу двеочень похожие на нашу героиню няни: «Филипьевна седая» и «подруга юности» самого автора «Онегина» (нотабене: однако в пределах какой-либо однойглавы встретиться им не довелось).
«Применение слова „подруга“ к старушке няне, крестьянской женщине, звучало как смелый поэтизм, утверждение права поэта самому определять эстетические ценности в окружающем его мире», – подчёркивает современный комментатор «Евгения Онегина» [326]326
Лотман.С. 247.
[Закрыть] . Эту мысль должно, однако, распространить и на ценности этическогопорядка.
«Он посвящал почтенную старушку во все тайны своего гения, – утверждал в 1855 году, ссылаясь на данный фрагмент романа в стихах, П. В. Анненков. – К несчастью, мы ничего не знаем, что думала няня о стихотворных забавах своего питомца» [327]327
Анненков. С. 96.
[Закрыть] . Эскапада «первого пушкиниста» впоследствии породила множество саркастических комментариев.
Безусловно, П. В. Анненков хватил тут через край: няня не могла быть ни соучастницей творческого процесса «ангела», ни «критиком строгим» (VI, 86)его завершённых произведений, да и литературного салона в сельце Михайловском, естественно, не существовало. Но в том, что Пушкин иногдачитал вслух при Арине Родионовне какие-либо поэтические тексты, а потом, по окончании декламации, выслушивал (пускай даже пряча улыбку) безыскусные нянины суждения, нет, как нам представляется, ничего анекдотичного. Поэт и его говорливая «мама» были столь близки, что могли запросто беседовать обо всёми в любой, даже весьма экстравагантной для неграмотной крестьянки, форме.
Текстологические наблюдения показали, что указанная строфа о няне и смежные с ней строфы четвёртой песни «Евгения Онегина» были созданы Пушкиным, скорее всего, в декабре 1825 года [328]328
Фомичёв С. А.Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835: Из текстологических наблюдений // ПИМ. Т. XI. Л., 1983. С. 44.
[Закрыть] . К этому сроку поэт, вероятно, уже знал о внезапной кончине императора Александра I, случившейся в далёком Таганроге утром 19 ноября. А 17 или 18 декабря того же года приехавший из Петербурга повар П. А. Осиповой Арсений поведал огорошенным обитателям Тригорского и Михайловского о военном бунте, который произошёл в Северной столице 14 декабря.
Вскоре в псковскую глухомань доставили и петербургские газеты с сообщениями о неслыханном кровавом злодеянии и манифестом о вступлении на всероссийский престол Николая I Павловича.
В истории империи открылся тогда новый период – начинался новый период и в жизни Александра Пушкина.
Он, мучаясь аневризмом, продолжал работать в «ветхой лачужке» над стихами. Дал, съездив в Псков, подписку о непринадлежности к тайным обществам и настойчиво просил влиятельных приятелей хлопотать о его освобождении. Пушкин извещал петербургских знакомцев и покровителей, что «не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (XIII, 266).А позже, умерив гордыню, сам отправил «холодную и сухую» (XIII, 291)бумагу на высочайшее имя.
Няня, ничегошеньки не понимая в случившемся и происходящем, но нутром чуя неладное, с тревогой взирала на него, «неуимчивого». Об этом словечке Арины Родионовны (уже упоминавшемся в нашей книге) Пушкин вспомнил в майском письме князю П. А. Вяземскому (XIII, 279).
Тем временем правительство вело разбирательство по делу бунтовщиков и параллельно собирало отовсюду сведения о ссыльном стихотворце. Выходило удивительное: тот не был причастен к разгромленному заговору и «с возмутителями 14 декабря связей политических не имел» (XIII, 257).Стекавшиеся в столицу «обстоятельные исследования» долго и тщательно проверялись чиновниками, путешествовали по высоким инстанциям, сопоставлялись и перепроверялись агентами тайной полиции.
Лишь в конце знойного лета 1826 года в Псковскую губернию было отправлено ожидаемое Пушкиным распоряжение: «Державная рука, снисходя на его прошение, вызвала его в Москву…» [329]329
Анненков.С. 141.
[Закрыть]
Фельдъегерь из Москвы, где тогда проходили торжества по случаю коронации Николая I, примчался в Псков 3 сентября. Офицер вручил губернатору Б. А. фон Адеркасу секретное предписание начальника Главного штаба барона И. И. Дибича за № 1432:
«Господину Псковскому гражданскому губернатору.
По высочайшему государя императора повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше ваше превосходительство: находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г<осподин> Пушкин может ехать в своём экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба Его Величества» (XIII, 293).
Ознакомясь с этим документом, губернатор незамедлительно послал записку в сельцо Михайловское:
«Милостивый государь мой Александр Сергеевич! Сей час получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему, – с коего копию при сём прилагаю. – Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остаётся здесь до прибытия вашего, прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне.
С совершенным почтением и преданностию пребыть честь имею: Милостивого государя моего покорнейший слуга Борис фон-Адеркас» (XIII, 293; выделено в подлиннике).
Однако командированный губернатором уездный чиновник так и не смог вручить письмо Б. А. фон Адеркаса Александру Пушкину: тот, пользуясь «прекрасной погодой» и ни о чём не догадываясь, весело проводил время с барышнями в Тригорском. К себе домой поэт вернулся в приподнятом настроении только часов в одиннадцать вечера.
А в Михайловском, вспоминала М. И. Осипова, его поджидала не одна Арина Родионовна. Помимо неё там находился потерявший всякое терпение и прискакавший из Пскова фельдъегерь («не то офицер, не то солдат», как определила няня), который с ходу объявил Пушкину высочайшую волю [330]330
ПВС-1. С. 426. Друг поэта П. В. Нащокин рассказал редактору-издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу эту историю иначе, с неточностями: «Послан был нарочный сперва к Псковскому Губернатору с приказом отпустить Пушкина. С письмом Губернатора этот нарочный прискакал к Пушкину. Он в это время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему сказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его записки (см. XI т.) и некоторые стихотворные пиесы…» и т. д. ( Бартенев.С. 350).
[Закрыть] . По словам очевидца, кучера Петра, «Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеевич её утешать: „Не плачь, мама, говорит, сыты будем; царь хоть куды ни пошлёт, а всё хлеба даст“» [331]331
ПВС-1. С. 430.
[Закрыть] .
Но как же могла сдержаться нянюшка, которая давным-давно – ещё с памятного 1800 года – знала, сколь суровы бывают петербургские владыки и сколько опасностей таится в любой встрече её «ангела» с царём?
Времени на сборы и долгое прощание не оставалось: «Пушкин успел только взять деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было» [332]332
Там же. С. 426.
[Закрыть] .
Арина Родионовна вышла на двор вслед за любимцем – и потом долго вглядывалась в ворота, в липовую аллею за ними, силясь проводить взором удаляющийся по тёмной предрассветной дороге экипаж.
До утра подруга поэта кое-как перемоглась. Даже развлекла себя в ночи, при лучине, тем, что наконец-то «по-уничтожила сыр немецкий», испускавший скверный дух и раздражавший её, но отчего-то полюбившийся «ангелу». Кому был он отныне нужен, «сыр этот проклятый»?
А на рассвете едва волочившая ноги старуха бросилась в Тригорское: поделиться с соседками горем. Лесом спустилась Арина Родионовна от опустевшего сельца к туманному озеру, потом вползла на холм, после чего миновала поле, погост, ещё один крутой скат и, пройдя мимо трёх сосен («…одна поодаль, две другие / Друг к дружке близко…»; III, 400),уже чуть живая, очутилась в знакомой усадьбе. «Она прибежала вся запыхавшись, – припоминала М. И. Осипова, – седые волосы её беспорядочными космами спадали на лицо и плечи; бедная няня плакала навзрыд» [333]333
Там же.
[Закрыть] .
Ессе femina!
Хроника жизни поэта изобилует душещипательными страницами, – но много ли сыщется в ней эпизодов, равных этому, сентябрьскому, по возвышенной и трогательной, надрывающей сердце нежности?
Вотще возражала Арина Родионовна своему «дружочку»: она и в самом деле была его «мамой».
Возвратилась наша нянюшка в домик ветхий, сызнова к малому оконцу в светлице присела, загоревала пуще прежнего.
А ангел её о ту пору, одолев 700 вёрст, уже в Москву въехал, на царский двор заворачивал. Тот же час его и в палаты государевы кликнули, сам молодой царь-батюшка вышел к гостю. Зело долго и умно толковали они, в сердца друг дружке заглядывали, – и простил государь ангела, «своим» да «умнейшим» при слугах нарёк, подмогу царскую посулил. Как прознали про то в столичном граде – прямо на руках деревенского сидельца носить стали, во всякий терем наперебой зазывали.
А нянюшка всё у оконца тогда ютилась да на ворота с тоскою посматривала. Худые вести всегда стрелами прилетают, добрые – будто калики перехожие плетутся. Но добрела-таки новость кремлёвская окольными путями и до старушки – то-то ликования и слёз светлых было!
И возымела наша нянюшка охоту пожить ещё самую капельку: дружочка своего спасённого хоть разок приголубить.