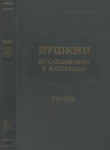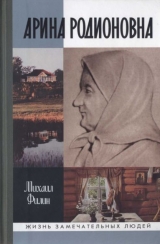
Текст книги "Арина Родионовна"
Автор книги: Михаил Филин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Глава 5
ПОДРУГА ПОЭТА
В детстве она ласкала и баюкала его; теперь она защитила его от гонения и тоски. Защитила как могла: рассказами о старине, песнями, сказками, неторопливыми разговорами… Она защитила его своею любовью.
В. С. Непомнящий
И худшие – не «кюхельбекерные», а прямо-таки отчаянные – времена настали…
Отношения Александра Пушкина с новороссийским генерал-губернатором М. С. Воронцовым давно были натянутыми, причём обаантагониста имели веские основания для неприязни. Поэт и граф, общаясь между собой сугубо официально («говоря не более четырёх слов в две недели»), на стороне выражали накопившееся недовольство в достаточно резких, подчас даже оскорбительных для чести недруга, формах. К тому же чиновник Пушкин исправно получал (по «третям») причитающееся ему казённое жалованье, но столь же исправно игнорировал службу.
В конце концов выведенный из себя аристократ М. С. Воронцов несколько раз пожаловался на Пушкина в Петербург и потребовал убрать из Одессы строптивого и злоречивого подчинённого. «…Избавьте меня от Пушкина, – писал граф Михаил Семёнович К. В. Нессельроде 2 мая 1824 года, – это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишинёве» [246]246
Цит. по: Летопись. С. 415 (подлин. на фр.).
[Закрыть] .
Пожелание раздражённого генерал-губернатора было быстро доведено до сведения императора Александра Павловича.
«Какая голова и какой сумбур в этой бедной голове!» – удивлялась сблизившаяся тогда с Пушкиным княгиня В. Ф. Вяземская [247]247
Там же. С. 430 (письмо князю П. А. Вяземскому от 23 июня 1824 года).
[Закрыть] . Она знала, что самолюбивый Александр Пушкин (называвший графа М. С. Воронцова «вандалом, придворным хамом и мелким эгоистом»; XIII, 103)сгоряча написал прошение на высочайшее имя об отставке «по слабости здоровья». Однако княгиня и не подозревала, что в те же сроки полиции стало известно содержание его частного письма, где поэт довольно рискованно высказался на духовные темы («…Беру уроки чистого афеизма…» и т. п.; XIII, 92).И жёсткая реакция властей на пушкинские проделки, видимо, была обусловлена прежде всего этим обстоятельством – «строчкой глупого письма» (XIII, 124).
Уже 8 июля 1824 года воспоследовало императорское повеление: «Находящегося в ведомстве Государственной Коллегии иностранных дел коллежского секретаря Пушкина уволить вовсе от службы». А спустя три дня Александр I распорядился перевести поэта на жительство в Псковскую губернию с тем, чтобы он «находился под надзором местного начальства» [248]248
Там же. С. 434–435.
[Закрыть] .
Тогда же управляющий Коллегией иностранных дел граф К. В. Нессельроде в записке к М. С. Воронцову разъяснил, что Александр Пушкин «слишком проникся вредными началами»; что он наказан «за дурное поведение» и посему удаляется «в имение родителей» [249]249
Анненков П. В.Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху: 1799–1826 гг. СПб., 1874. С. 262–263. Выделено в подлиннике.
[Закрыть] . Псковскому же гражданскому губернатору Б. А. фон Адеркасу было отправлено (через прибалтийского генерал-губернатора маркиза Ф. О. Паулуччи) предписание «снестись с предводителем дворянства о избрании им одного из благонадёжных дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина» [250]250
Лернер Н. О.Из неизданных материалов для биографии Пушкина // PC. 1908. № 10. С. 111–112.
[Закрыть] .
«Полу-милорд, полу-купец» одержал верх, – и общественное мнение в целомбыло на его стороне.
«Виноват один П<ушкин>, – сокрушался А. И. Тургенев в переписке с князем П. А. Вяземским. – Графиня [251]251
Имеется в виду графиня Елизавета Ксаверьевна Воронцова (1792–1880), супруга новороссийского генерал-губернатора и предмет пушкинского увлечения.
[Закрыть]его отличала, отличает, как заслуживает талант его, но он рвётся в беду свою. Больно и досадно! Куда с ним деваться?» [252]252
Летопись. С. 433 (письмо от 1 июля 1824 года).
[Закрыть] Чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе А. Я. Булгаков трактовал одесское происшествие так: «Кажется, Воронцов и добр, и снисходителен, а с ним не ужился этот повеса» [253]253
РА. 1901. № 5. С. 74 (письмо К. Я. Булгакову от 31 июля 1824 года).
[Закрыть] . А историограф H. М. Карамзин, выручивший Пушкина в 1820 году, гневался едва ли не пуще всех: «Он не сдержал слова, им мне данного в тот час, когда мысль о крепости ужасала его воображение: не переставал врать словесно и на бумаге, не мог ужиться даже с графом Воронцовым, который совсем не деспот!» [254]254
Летопись. С. 453 (письмо князю П. А. Вяземскому от 17 августа 1824 года).
[Закрыть]
С предписанием об изгнании из романтического приморского города ошеломлённый Пушкин ознакомился 29 июля.
Княгиня В. Ф. Вяземская вспоминала: «Когда решена была его высылка из Одессы, он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека от княгини Вяземской» [255]255
Бартенев.С. 380.
[Закрыть] .
Поэта отлучали от «европейского образа жизни» (XIII, 67)и отправляли – как злоумышленника – в форменную ссылку.
Через день, поутру 1 августа 1824 года, Александр Пушкин, накануне получивший 389 рублей 4 копейки прогонных денег «на три лошади», покинул Одессу – «летом песочницу, зимой чернильницу» – и направился в скучную и пустынную. Богом забытую Псковскую губернию.
Он пребывал в бешенстве и отчаянии одновременно.
В двадцать пять лет всё ему разом опостылело, – и поэт покорно ехал хоронить в глуши собственную душу. Мыслей о «грустных заблужденьях», о «строгом заслужённом осужденьи» (III, 999)у него, кажется, пока не мелькало: такие думы посетили Пушкина значительно позже.
9-го числа путник узрел знакомые с юности Михайловские рощи:
……………………………………………годы
Промчалися – и вы во мне прияли
Усталого пришельца – я ещё
Был молод – но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
……………………………………………
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя неопытная младость —
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грёзы мести бледной… (III, 996).
В сельце Михайловском, находящемся в пяти верстах от Святогорского монастыря, он обнаружил всю фамилию Пушкиных: отца с матерью и Ольгу с повзрослевшим Львом. «Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше…» – сообщил поэт В. А. Жуковскому (XIII, 116).
Вместе со «всеми» встречала его и вышедшая из своего домика старенькая Арина Родионовна.
«Лес оканчивается у самого села Михайловского. При слове „село“ не думайте о церкви и многих домах, которые ютятся около церкви в русских сёлах. В Псковской губернии селом называется просто усадьба или селение… Внизу домовой террасы по лугу извивалась река Сороть, а с правой стороны кругозора, бок о бок с рекою, лежало огромное озеро, за которым высился большой лес; с левой стороны террасы находилось ещё озеро, уходившее в другой лес; прямо перед рекою и за рекою распространились луга. Вид очаровательный» [256]256
А. Ф.Поэтический уголок Псковской губернии // Новое время. 1880. № 1598. Цит. по: Вересаев В. В.Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 228.
[Закрыть] .
Таким уголком представлялось Михайловское мечтательным умиротворённым людям позапрошлого века. Но Александру Пушкину было не до аркадских идиллий: на первых порах ему увиделась разве что «глухая деревня» (XIII, III).
Да и усадьба с запушенным «аглицким» садом на косогоре не слишком радовала глаз. Деревянный одноэтажный дом, обшитый тёсом, стоял на каменном фундаменте и был длиною всего до восьми, а шириною – до шести сажен, имел два крыльца и один балкон. К дому примыкали четыре службы, или флигеля: «один деревянного строения, крыт и обшит тёсом, комнат одна, под одной связью баня. Второй – с двумя избами и в каждой по русской печи, крыт соломой». (Это строение предназначалось, вероятно, для дворовых людей [257]257
В ту пору их в сельце Михайловском было 29 человек: 13 душ мужского и 16 женского пола.
[Закрыть].) «Третий – с тремя комнатами, четвёртый – две комнаты» [258]258
Ульянский.С. 38.
[Закрыть] . По приговору современника, барское жилище с «шатким крыльцом» очень походило на «ветхую хижину» [259]259
Любовный быт пушкинской эпохи. Т. I. М., 1994. С. 268 (запись в дневнике А. Н. Вульфа от 16 сентября 1827 года).
[Закрыть] .
Одно утешение: в двух верстах, за леском и озером, в селе Тригорском, жили Прасковья Александровна Осипова, недавно (вторично) овдовевшая помещица сорока трёх лет [260]260
В письме к княгине В. Ф. Вяземской, написанном по-французски в октябре 1824 года, Пушкин назвал П. А. Осипову «милой старушкой-соседкой» (XIII, 114, 532).
[Закрыть], с хорошенькими дочерьми Евпраксией и Анной Вульф и сыном Алексеем – дерптским студентом, весьма кстати приехавшим в усадьбу на каникулы. Заброшенный в ссылку Александр Пушкин быстро с ними сошёлся и охотно коротая время,гулял верхом на аргамаке, танцевал и пил жжёнку, вёл «патриархальные разговоры» (XIII, 114, 532),просто бездельничал под липовыми сводами и даже успешно флиртовал.
В этой весёлой и шумной компании поэту удавалось малость развеяться, обмануть гнавшуюся за ним тоску – но, увы, ненадолго: вскоре жестокая хандра вновь ловила Пушкина и цепко хватала за ворот.
Тогдашние пушкинские письма из Михайловского – безнадёжно грустные и нервныеписьма. «О моём житье-бытье ничего тебе не скажу, – читаем, например, в его послании к князю П. А. Вяземскому, – скучно вот и всё. <…> Умираю скучно» (XIII, III).«О себе говорить не намерен, я хладнокровно не могу всего этого раздумать, – писал поэт уже В. А. Жуковскому, – может быть тебя рассержу, вывалив что у меня на сердце» (XIII, 113).Да и княгине В. Ф. Вяземской Пушкин по-французски пожаловался на «бешенство скуки, снедающей <…> нелепое существование» (XIII, 114, 531).
После всех одесских и прочих потрясений кручинный анахорет сумел-таки сосредоточиться и уселся за письменный (ободранный ломберный) стол. За остаток северного лета и начало осени им было создано несколько важных сочинений. Они заносились в кожаную тетрадь, которую позднее в научной литературе стали именовать «второй масонской» (ПД № 835). И уже в этих первыхмихайловских произведениях появились стихи и строфы, относящиеся к Арине Родионовне.
По случаю свидания с «мамушкой» Александр Пушкин, можно сказать, устроил в деревне небольшой поэтический фейерверк.
В августе – октябре 1824 года были завершены черновой (не сохранившийся) и беловой варианты стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом» [261]261
Фомичёв С. А.Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835: Из текстологических наблюдений // ПИМ. Т. XI. Л., 1983. С. 54–55.
[Закрыть] . Тут, среди прочего, упоминалось и
Старушки дивное преданье (III, 784).
А в окончательной редакции стих приобрёл уже знакомый нам вид:
Старушки чудное преданье (III, 290, 784).
(Вскоре Лёвушка Пушкин увёз «Разговор» в Петербург, и в 1825 году стихотворение было напечатано в качестве предисловия к отдельному изданию первой главы «Евгения Онегина». Так продолжилась публичная литературная биография няни.)
На грубоватых белых листах «второй масонской» тетради Пушкин продолжил работу и над третьей песнью «Евгения Онегина» – той самой песнью, где влюблённая Татьяна Ларина «в темноте» разговаривает со своей няней «о старине», а затем сочиняет исповедальное письмо заглавному герою: «Я к вам пишу – чего же боле?..»
Лишь сравнительно недавно, на исходе прошлого столетия, пушкинисты провели текстологический анализ тетради ПД № 835 и установили, что «строфы, посвящённые ночной беседе Татьяны с няней (XVII–XXI), а также последующие строфы (до XXVIII включительно) были дописаны, вероятно, уже при окончательной доработке главы – очевидно, в Михайловском» [262]262
Там же. С. 36.
[Закрыть] .
Выше нами приводился рассказ романной старушки о своём раннем замужестве [263]263
Кстати, по версии А. И. Ульянского, в основу рассказа Филипьевны (Фадеевны), которая пошла под венец в тринадцать лет, могло быть положено сообщение Арины Родионовны: «Неродная бабушка её со стороны отца, Настасья Филипповна, жена Петра Полуектова, благодетеля отца Арины Родионовны, вышла замуж 13 лет» ( Ульянский.С. 42).
[Закрыть] , однако этой печальной повестью няня Фадеевна (или Филипьевна) не ограничилась. В беседе с Татьяной она затронула и другую, «фольклорную» тему:
………………………Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А нынче всё мне тёмно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!
Зашибло… (VI, 58–59).
А далее, через строфу, шли такие стихи:
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой (VI, 60).
Процитированные фрагменты, похоже, перекликаются со стихами о «мамушке» из пушкинского лицейского стихотворения «Сон (Отрывок)»:
Она, дух о в молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня… (I, 146).
В следующей, XX строфе Пушкин вновь почтил вниманием сидящую
………………на скамейке
Пред героиней молодой,
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке… (VI, 60).
«Длинная телогрейка» няни Татьяны ассоциируется со «старинным одеяньем» «мамушки» из «Сна» (1816) и в особенности с «шушуном» [264]264
«Шушун – кофта, телогрея, душегрейка» (В. И. Даль).
[Закрыть]из «Наперсницы волшебной старины…» (1822). В то же время Фадеевна (Филипьевна) одета здесь, что называется, не совсем по сезону: ведь действие главы разворачивается, судя по мелочам поэтического текста, душным летом ( VI, 58).Можно предположить, что именно так – в платке и запоминающейся длиннополой телогрейке – хаживала Арина Родионовна в Михайловском осенью 1824 года [265]265
Такой запечатлена наша героиня и на горельефе Я. П. Серякова – единственном более или менее достоверном изображении Арины Родионовны (подробнее об этом горельефе будет рассказано дальше).
[Закрыть].
Седая протагонистка заглянула и в последующие стихи этой песни «Онегина» – например, в строфу XXXV:
«Сердечный друг, уж я стара,
Стара: тупеет разум, Таня;
А то, бывало, я востра,
Бывало, слово барской воли…» (VI, 69).
Сверх того, в тексте ряда строф третьей главы (в XXXIV, XXXV, а также в черновой строфе XXXVa и зачёркнутой беловой XLII) нашлось пристанище и для некоего внукаФадеевны (Филипьевны): по воле автора мальчик тайком отправился с письмом Татьяны к Онегину. Занятно, что подходящий по возрасту внук имелся и у Арины Родионовны – это Михаил Алексеев, десятилетний сын её дочери Марии, который, правда, жил в подмосковном Захарове [266]266
Ульянский.С. 78.
[Закрыть] . Впрочем, у нашей героини могли быть и иные, приписанные как раз к Михайловскому и знакомые Пушкину, но оставшиеся не известными пушкинистам, внуки.
По однажды высказанному Т. Г. Цявловской предположению, на полях черновиков этой главы «Евгения Онегина» есть и графический портрет Арины Родионовны [267]267
Цявловская Т. Г.Рисунки Пушкина. М., 1970. С. 66. См. также: Жуйкова.С. 76 (№ 110). Надлежит, правда, отметить, что во второе издание своей книги (М., 1980) Т. Г. Цявловская данное определение не включила.
[Закрыть] . Однако далеко не все исследователи рисунков поэта согласились с подобной атрибуцией.
Как уже сказано ранее [268]268
См. главу 2 (письмо Пушкина к Д. М. Шварцу).
[Закрыть], Александр Пушкин признался, что «оригиналом», прототипом Татьяниной няни явилась Арина Родионовна. Едва ли старушка, которая всё никак не могла наглядеться на своего прилетевшего «ангела», что-либо знала об этом. А если даже и знала, то навряд ли она могла оценить по достоинству пушкинскую выдумку.
К началу октября 1824 года брульон (черновик) разбираемой песни «Евгения Онегина» был в основном завершён. Набравший ход Пушкин тотчас обратился к новым сюжетам, к «Цыганам» и прочему – и тут в сельце Михайловском произошло нечто такое, что едва не погубило поэта окончательно.
Выполняя предписание из Петербурга, псковский губернатор Б. А. фон Адеркас определил в «наблюдатели» за Александром Пушкиным опочецкого и новоржевского помещика коллежского советника И. М. Рокотова. Последний, однако, быстро и наотрез отказался шпионить за поэтом, сославшись на расстроенное здоровье (впоследствии анонимный автор очерка в «Псковских губернских ведомостях» весьма резонно предположил, что И. М. Рокотов попросту перестраховался; он «опасался пылкой натуры поэта и оттого не хотел становиться в щекотливое положение в отношении к нему» [269]269
Цит. по: Вересаев В. В.Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 227.
[Закрыть] ). И тогда губернский начальник принял поистине соломоново решение: он поручил надзирать за подозрительным дворянином его отцу, Сергею Львовичу Пушкину.
А тот, как назло, «имел слабость согласиться» (XIII, 114, 532).
В рапорте на имя маркиза Ф. О. Паулуччи, отправленном 4 октября 1824 года, Б. А. фон Адеркас доложил: «Итак, по прибытии означенного коллежского секретаря Александра Пушкина и по отобрании у него подписки [270]270
В августе или сентябре поэт был вызван в Псков, где, в присутствии губернатора, дал подписку «жить безотлучно в поместии родителя своего, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни и не распространять оных никуда».
[Закрыть]и по сношении о сём с родителем его г<осподином> статским советником Сергеем Пушкиным, известным в губернии как по его добронравию, так и честности, и который с крайним огорчением об учинённом преступлении сыном его отозвался неизвестностию, поручен в полное его смотрение с тем заверением, что он будет иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим» [271]271
Лернер Н. О.Из неизданных материалов для биографии Пушкина // PC. 1908. № 10. С. 112–113.
[Закрыть] .
Спустя неделю прибалтийский генерал-губернатор одобрил выбор Б. А. фон Адеркаса, со значением подчеркнув, что «родительская власть неограниченнее посторонней» [272]272
Там же. С. 113–114.
[Закрыть] .
Так Сергей Львович из обычного добропорядочного отца превратился в официальное лицо, на которое возложена важная государственная – причём полицейская– миссия.
К тому времени между родителями и Александром уже пробежала чёрная кошка. «Меня попрекают моей ссылкой; считают себя вовлечёнными в моё несчастье, – сообщал поэт княгине В. Ф. Вяземской, – утверждают, будто я проповедую атеизм сестре – небесному созданию – и брату – потешному юнцу, который восторгался моими стихами, но которому со мной явно скучно» (XIII, 114, 531–532).Когда же Александр Пушкин узнал о фискальных функциях родителя, их отношения испортились окончательно.
И вскоре, на исходе октября, в Михайловском разразился неслыханный доселе скандал.
Свою версию чреватой самыми непредсказуемыми последствиями ссоры растерянный поэт изложил в послании к В. А. Жуковскому, которое датировано 31 октября. Оно было отправлено в Петербург при посредничестве П. А. Осиповой:
«Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моём положении. <…> Пещуров [273]273
Подразумевается Алексей Никитич Пещуров (1779–1849), отставной штабс-капитан, владелец села Лямоново, в ту пору опочецкий уездный предводитель дворянства.
[Закрыть], назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я всё молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно… Отец осердился. Я поклонился, сел верьхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec се monstre, се fils dénaturé… [274]274
С этим чудовищем, с этим выродком-сыном… (фр.).
[Закрыть](Жуковский, думай о моём положении и суди). Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю всё, что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить… Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырём. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра – ещё раз спаси меня.
31 окт<ября>. А. П.
Поспеши: обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться – дойдёт до правительства, посуди, что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я hors la loi [275]275
Вне закона (фр.).
[Закрыть]» (XIII, 116–117; выделено Пушкиным).
В тот же день поэт вознамерился разрубить гордиев узел и набросал записку к Б. А. фон Адеркасу, прося того ходатайствовать перед царём о «последней милости»: переводе его, Александра Пушкина, из деревни «в одну из своих крепостей» (XIII, 116).Однако человек, посланный с бумагой в Псков, вероятно, подчинился распоряжению П. А. Осиповой и «нигде не нашёл» губернатора. Это и спасло Пушкина, который позднее, поостыв, счёл за благо уничтожить самоубийственную эпистолию.
После бурных сцен и безрассудных поступков, грозивших ссыльному поэту «палачём и каторгою» (XIII, 124),домашние страсти чуть поулеглись, но согласие так и не вернулось в семью Пушкиных. Сергей Львович вкупе с Надеждой Осиповной продолжали поругивать сына, а тот, не желая «выносить сору из Михайловской избы» (XIII, 118), старался пореже бывать в усадьбе, наведывался к барышням в Тригорское и галопировал по окрестным полям. Возвращаясь же, крепился, терпел «дурака» и прочие оскорбления и не вступал в дебаты.
Взаимное отчуждение день ото дня крепло.
Брат Лев Сергеевич, уехавший в Петербург в начале ноября 1824 года [276]276
В ноябре этого года Л. С. Пушкин наконец-то поступил на службу – в Департамент духовных дел иностранных исповеданий.
[Закрыть], поведал там В. А. Жуковскому, что «всё будет само собою устроено», но Александр был «столько же не прав, сколько и отец» (XIII, 119–120). Того же мнения стали держаться и хорошо изучивший пушкинскую натуру В. А. Жуковский, и П. А. Вяземский. Князь полагал, что Пушкину надо как можно быстрее «сделать первому шаги к примирению с отцом» [277]277
Пушкин.Письма. Т. I: 1815–1825 / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1926. С. 365 (из письма князя П. А. Вяземского О. С. Пушкиной, написанного в ноябре 1824 года).
[Закрыть] .
Зато Ольга Сергеевна, «милая Оля» (XIII, 127), платя неизбежную дань родственной дипломатии, кажется, взяла всё же сторону бедного брата и всячески старалась его приободрить. Но в тайных союзницах и утешительницах опального поэта О. С. Пушкина состояла очень недолго: она покинула сельцо Михайловское примерно через неделю после «пустельги» (XIII, 123) Лёвушки.
Труднее всех в сложившейся ситуации пришлось, вероятно, не принадлежавшей ни к какой из враждующих «партий» Арине Родионовне. Ведь крестьянка была истово предана всем Пушкиным, всех их, пусть и по-разному, но крепко, любила – и жестокий разлад в семье, случившийся на её глазах, не мог не причинить старушке душевных мучений. Что бы ни твердили окружающие, кого бы ни винила соседская молва, подле себя няня видела прежде всего погорячившихся и оттого страдающих кровников – и обоих упрямцев, старого и малого, она бесхитростно жалела.
Но принести мир в покачнувшийся дом Пушкиных крепостная старуха, конечно, не могла. «Дела мои всё в том же порядке», – уведомлял поэт брата (XIII, 118).
Наконец 17 или 18 ноября отбыли в Петербург и Надежда Осиповна с Сергеем Львовичем [278]278
Отметим, что C. Л. Пушкин, приехав в столицу, отказался от дальнейшего, столь обременительного, наблюдения за сыном. С декабря 1824 года эти обязанности стал отправлять упоминавшийся выше А. Н. Пещуров. Кроме того, поэт находился и под духовным надзором: его регулярно посещали монахи Святогорского монастыря.
[Закрыть]. (В последующие два года родители всячески уклонялись от общения с сыном Александром и, забирая с собою Ольгу Сергеевну, ездили не в свою псковскую деревню, а в Москву и в Ревель, на «морские купания».)
В Михайловском сразу же стало спокойнее.
Однако Пушкина, оказавшегося в «совершенном уединении» (XIII, 129),в царстве «скуки смертной» (XIII, 118)по-прежнему одолевали мрачные мысли. Он вовсю строил опасные планы. «Заветной мечтой поэта <…> сделалось одно, – утверждал впоследствии П. В. Анненков, – бежать от заточения деревенского, а если нужно, то и из России» [279]279
Цит. по: Вересаев В. В.Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 237.
[Закрыть] . Глухие намёки на это есть и в пушкинских стихах, и в переписке с братом, и в письме осведомлённой П. А. Осиповой к В. А. Жуковскому от 22 ноября 1824 года. Тригорская помещица буквально умоляла Василия Андреевича выручить Пушкина из ссылки, иначе «его талант, его поэтический гений» могли захиреть: «Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть» [280]280
РА. 1872. № 12. С. 2359–2361.
[Закрыть] .
Между тем приблизилась зима.
В целях экономии ряд помещений в господском доме (включая и залу с бильярдом) наглухо закрыли и перестали топить там печи.
Арина же Родионовна с наступлением холодов перебралась из своего летнего флигеля («домика няни») в главное строение и заняла комнату напротив пушкинской. «Комната Александра была возле крыльца <…>, – вспоминал редкий его гость. – В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всём поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожжённые кусочки перьев <…>. Вход к нему прямо из коридора…» [281]281
ПВС-1. С. 106 (из «Записок о Пушкине» И. И. Пущина).
[Закрыть]
Другой визитёр, H. М. Языков, оставил нам поэтическое описание пушкинской кельи:
Вон там – обоями худыми
Где-где прикрытая стена,
Пол нечинённый, два окна
И дверь стеклянная меж ними;
Диван под образом в углу,
Да пара стульев…
В хозяйственные дела по дому и поместью Пушкин почти не вмешивался.
А в обители няни поставили «множество пяльцев»: там с некоторых пор постоянно собирались крестьянки-швеи и трудились под началом Арины Родионовны. Среди этой «молодой команды» была и восемнадцатилетняя Ольга Калашникова, дочь управляющего («особливо доверенного человека Сергея Львовича Пушкина и семьи Пушкиных» [282]282
Щёголев.С. 13.
[Закрыть] ), вскоре пополнившая «Дон-Жуанский список» поэта и на многие месяцы ставшая его «крепостной любовью».
«Сижу дома да жду зимы», – сухо сообщал Александр Пушкин сестре 4 декабря 1824 года (XIII, 127).Разве мог он, страстно мечтавший о воле,тогда допустить, что впереди – целых две михайловских зимы и около двух лет затворничества?
Но без этих двух лет и без своей дряхлой подруги [283]283
«Слово, задушевнее и любовнее которого вообще нет в его (пушкинском. – М. Ф.)словаре» (В. Ф. Ходасевич).
[Закрыть]Арины Родионовны поэт, видимо, так и не вырос бы в «единственное явление русского духа», да и как человек «во многом был бы, может, другим» [284]284
Непомнящий.С. 127.
[Закрыть] .
Утренние и дневные часы Пушкин обычно посвящал поэтическим трудам, работал он также и над записками (позднее уничтоженными). Затем – довольно поздно – обедал. (Кухаркой, и, похоже, отменной, была в Михайловском Неонила Анафриева [285]285
Козмин В. Ю.Неонила – кухарка в Михайловском // Пушкин и его современники: Сборник научных трудов. Вып. 2 (41). СПб., 2000. С. 276–277.
[Закрыть] , а прислуживала за столом, «набирала обед», наша героиня.) После трапезы поэт садился на лошадь или пешком отправлялся в Тригорское. Возвращался оттуда к вечеру, нередко уже в темноте.
И почти все пушкинские вечера безраздельно принадлежали «мамушке».
«При завываньи бури» (III, 1007)Арина Родионовна вела неспешные беседы с «ангелом» – о них Пушкин через десятилетие написал так:
Её простые речи и советы
И полные любови укоризны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой… (III, 995–996).
Сходили на нет беседы – начинались негромкие нянины песни, а чаще всего приходил черёд её сказок, знакомых
От малых лет – но всё приятных сердцу
Как шум привычный и однообразный
Любимого ручья… (III, 998).
Эти сказки, равно как и сама Арина Родионовна, были отмечены в пушкинских письмах конца 1824-го – начала 1825 года. «…Вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания, – сообщал поэт брату в середине ноября. – Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» (XIII, 121).Спустя три недели он оповестил о том же и Д. М. Шварца: «…Вечером слушаю сказки моей няни, <…> она единственная моя подруга – и с нею только мне нескучно» (XIII, 129).А князю П. А. Вяземскому было поведано 25 января 1825 года: «…Живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни» (XIII, 135).
О старушке Пушкин упомянул и в письме к сестре Ольге, написанном 4 декабря 1824 года: «Няня исполнила твою комисию, ездила в Св<ятые> горы и отправила панихиду или что было нужно [286]286
Речь шла о панихиде по Анне Львовне Пушкиной, тётке поэта, которая скончалась в Москве 14 октября 1824 года.
[Закрыть]. Она цалует тебя…» (XIII, 127).
Вероятно, в ноябре 1824 года поэт занёс в так называемую «третью масонскую» тетрадь (ПД № 836) семь народных сказок: «Некоторый Царь задумал жениться…» [287]287
Эту сказку, в иной редакции, Пушкин записал (возможно, чуть раньше или чуть позже) и во «второй кишинёвской» тетради (ПД № 832) (XVII, 361).
[Закрыть], «Некоторый царь ехал на войну…», «Поп поехал искать работника…», «Царь Кащей безсмертный…», «Слепой Царь не веровал своей жене…», «О святках молодыя люди играют игрища…» и «Царевна заблудилася в лесу…» [288]288
Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты / Подг. к печ. и коммент. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского, Т. Г. Зенгер. М.; Л., 1935. С. 405–413.
[Закрыть] .
П. В. Анненков, напечатавший (в Приложениях к «Материалам для биографии Александра Сергеевича Пушкина»; 1855) некоторые из этих сказок, нисколько не сомневался, что они зафиксированы со слов Арины Родионовны. Так же впоследствии думали и иные авторитетные пушкинисты (к примеру, М. А. Цявловский). Отдельные учёные, правда, замечали, что «в своих родовых деревнях Пушкин слыхал сказки и от других лиц, не только от няни», однако тут же они добавляли: «Нет сомнения, что Арина Родионовна была выдающаяся сказочница, которая рассказывала художественно и прекрасным русским языком» [289]289
Чернышёв В. И.Пушкин и русские сказки. Записи // Сказки и легенды пушкинских мест. М.; Л., 1950. С. 279–280. Ср.: Иезуитова Р. В.«Жених» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов: История создания и идейно-художественная проблематика. Л., 1974. С. 35–36.
[Закрыть] . Тем самым исследователи, изучавшие записанные поэтом сказочные тексты, косвенно всё же признавали источником этих текстов нянюшку Пушкина.
Публикуя в 1855 году три «рассказа Арины Родионовны», П. В. Анненков оценил их довольно сдержанно: «Они поражают вообще хитростью и запутанностью содержания, которое иногда трудно и разобрать. <…> Изложение Пушкина, однако же, чрезвычайно бегло и едва даёт понятие о самом цвете и физиономии, так сказать, няниных рассказов» [290]290
Анненков.С. 389.
[Закрыть] . Но в XX веке фольклорист М. К. Азадовский, более глубоко проанализировавший все семь«сказок Арины Родионовны», их состав и характер, пришёл к совершенно противоположным выводам [291]291
Далее мы цитируем (с указанием страниц в тексте) очерк М. К. Азадовского «Сказки Арины Родионовны» по изд.: Азадовский М. К.Литература и фольклор. Л., 1938. С. 273–292.
[Закрыть] .
Учёный обнаружил, что в михайловских текстах поэта «есть некоторые особенности, которые позволяют говорить о некоем единстве этих записей и приурочить – если и не все тексты, то во всяком случае главнейшие – одному лицу, именно Арине Родионовне» (с. 275). К таковым особенностям можно, в частности, отнести «отчётливую печать женской манеры рассказывания» (с. 275–276) и «единство приёмов повествования» (с. 276).
В ходе анализа самих сказок М. К. Азадовский установил, что тексты Арины Родионовны порою выгодно отличаются от тематически близких им фольклорных текстов «большой стройностью, разработанностью отдельных эпизодов и наличием некоторых любопытных деталей, отсутствующих в других известных нам редакциях» (с. 277); что пушкинская старушка мастерски «владела тем, что называется „сказочной обрядностью“» (с. 287): чётко соблюдала закон трёхчленности, прибегала к рифмовке, игре слов и т. п. (с. 287–289); что она «обогащала сказку новыми деталями, создавала психологические образы, вплетала в фантастическую ткань реалистические штрихи, переводя тем самым сказочное повествование в план близкой и знакомой действительности» (с. 289).
«Так из отдельных намёков и штрихов воссоздаётся образ замечательной сказочницы начала XIX века, чьё выдающееся мастерство оказало влияние и на творчество Пушкина», – заключил свой очерк М. К. Азадовский (с. 291).
Действительно, эти пятнадцать страниц «третьей масонской» тетради с «рассказами Арины Родионовны» позднее очень пригодились поэту: они послужили материалом для пушкинскихсказок – о царе Салтане, о попе и его работнике Балде, о мёртвой царевне [292]292
Сюда можно добавить, что сказка «Некоторый царь ехал на войну…» от Пушкина позже попала к В. А. Жуковскому и, по мнению ряда пушкинистов, стала (наряду со сказкой братьев Гримм о двух королевских детях – «Die beiden Königeskinder») источником для его «Сказки о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кащея бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кащеевой дочери», опубликованной в 1833 году. Если так, то Арина Родионовна обогатила творчество и другого выдающегося писателя.
[Закрыть]. А нянина сказка «Царь Кащей безсмертный…» была переработана Пушкиным в стихи «У лукоморья дуб зелёный…», которые открыли Пролог во втором издании поэмы «Руслан и Людмила» (1828). Любопытно, что шесть начальных стихов данного Пролога (видимо, сочинённых опять-таки в ноябре 1824 года) поэт записал на внутренней стороне переплёта «третьей масонской» тетради – очевидно, в качестве эпиграфа к ней (IV, 276).
«Сказками Пушкина мы в первую очередь обязаны ей», – подытоживает в наши дни размышления о няне и пушкинских сказках и В. С. Непомнящий [293]293
Сказки Александра Сергеевича Пушкина: С приложением их главных источников, в том числе пушкинских записей народных сказок, рисунками поэта, ставшими иллюстрациями при содействии художника Георгия Юдина, а также пояснительным очерком Валентина Непомнящего. М., 1999. С. 189.
[Закрыть] .
А на соседних листах той же тетради, сразу же за сказками, поэтом были записаны и четыре народные песни: две о Сеньке, сыне Степана Разина («В городе-то было во Астра-хане…» и «Как на утренней заре, вдоль по Каме по реке…»), а также «Во славном городе во <Киеве>…» и «Как за церковью, за немецкою…» (XVII, 409–413).Обычно считается, что и эти фольклорные произведения он узнал тогда же, в деревне, от Арины Родионовны [294]294
Существует, впрочем, гипотеза, что песня «Как за церковью, за немецкою…» сочинена самимПушкиным. Об этом см., напр.: Чернышёв В. И.Стихотворения А. С. Пушкина, написанные в стиле русских народных песен // Slavia. Praha, 1929. Roč. 8. Seš. 3. S. 590–593; Берестов В.Ещё девять пушкинских строк?.. // Вопросы литературы. 1981. № 8. С. 163–190.
[Закрыть] .
«Образ жизни моей всё тот же…» – сообщал Пушкин брату в начале двадцатых чисел ноября 1824 года (XIII, 123).В других письмах он снова жаловался на меланхолию и «одиночество» (XIII, 128)и называл Михайловское «своим гнездом» (XIII, 129).Когда в середине декабря из Дерпта приехал Алексей Вульф, поэт опять зачастил в Тригорское, где «завязалось дело презабавное» (XIII, 130).
Тут и зима полностью вступила в свои права, завершилась Четыредесятница – пришёл чудный праздник Рождества. На Святках Пушкин не только обсуждал с А. Н. Вульфом план тайного отъезда в чужие края, но и параллельно работал над «Борисом Годуновым».
Тогда он ещё не мог взять в толк, что его «народная трагедия», план и первые её черновые сцены, явилась началом долгого и трудного опровержения его же незрелой, с примесью злости и даже злобы, конспирологии; что это, «Борис Годунов» и бегство, то есть история и антиистория, поэма и эпиграмма – были в сущности своей «две вещи несовместные» (VII, 134).
В деревню иногда наведывались дорогие и душевнополезные Александру Пушкину люди, которые становились, по слову В. Ф. Ходасевича, «заплатами на его одиночестве» [295]295
Ходасевич.
[Закрыть] . Они без всякой спеси и подолгу общались с Ариной Родионовной.
Первым в Михайловское, презрев возможные неприятности по службе, примчался лицейский «друг бесценный» – Иван Иванович Пущин, чиновник Московского надворного суда и член тайного Северного общества. Сани с «Большим Жанно» остановились у крыльца опального дома на рассвете 11 января 1825 года. Хотя стоял «страшный холод», Пушкин выскочил на двор встречать визитёра «босиком, в одной рубашке».
Не успели «скотобратцы» вдоволь нацеловаться, отдышаться и отогреться, как в комнате появилась Арина Родионовна. «Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один – почти голый, другой – весь забросанный снегом, – писал И. И. Пущин. – Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она всё поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, чуть не задушил её в объятиях».