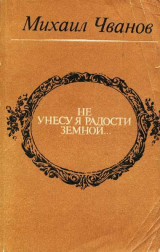
Текст книги "Не унесу я радости земной..."
Автор книги: Михаил Чванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Этого не мог не заметить и сам Есенин. Вот что вспоминает по этому поводу П. И. Чагин: «Почувствовав в стихах Наседкина слишком уж сильное свое влияние, С. Есенин, как помнится, предостерегал его против непродуманной подражательности, нашедшей выражение в некоторых тогдашних стихах В. Наседкина». Но, как пишет другой человек, хорошо знавший Наседкина, поэт Николай Рыленков, «даже в пору наиболее сильного воздействия на него поэзии Есенина Наседкин воспринимал в ней далеко не все, а только то, что ему было близко, а прежде всего те ее мотивы, которые порождены осмыслением жизни пореволюционной деревни».
Вместе с Есениным и Всеволодом Ивановым Наседкин мечтает о создании нового альманаха, который они собираются назвать «Поляне». В марте 1925 года перед первой поездкой на Кавказ Есенин писал в Госиздат Н. Накорякову:
«…для ведения редакционных дел альманаха необходимо закрепить одного человека с соответствующей оплатой по должности заведующего редакцией и секретаря альманаха.
На эту работу редакционной коллегией предоставляется тов. Наседкин, с которым я буду поддерживать связь с Кавказа».
А за 20 дней до этого Есенин сообщал писателю Н. К. Вержбицкому: «Он (Ионов – М. Ч.) предлагает мне журнал издавать у него (в Ленинграде — М. Ч.), но я решил здесь, все равно возиться буду не я, а Наседкин. Я ему верю и могу подписывать свое имя, не присутствуя».
В июне 1925 года Василий Федорович Наседкин ненадолго уехал из Москвы в Башкирию, в родную Веровку.
Не так давно в архиве С. А. Толстой, летом 1925 года ставшей женой Сергея Александровича Есенина, литературовед Виталий Вдовин обнаружил телеграмму следующего содержания:
«Москву Остоженка Троицкий пер. 3 квр. 8, Ясениным.
Привет любов в деревне с субботы скука как развод издание отъезд планы Катя милые пишите адрес Берлин Изгнанник».
Долгое время не удавалось раскрыть содержание телеграммы, посланной 29 июня из Мелеуза, и кем она послана.
Сергеем Александровичем Есениным?
Но дата отправления телеграммы исключает такое предположение: достоверно известно, что в этот день Сергей Александрович был в Москве.
Отправителем телеграммы мог быть только Василий Федорович Наседкин.
«Необычную подпись «изгнанник», – пишет Виталий Вдовин, – легко объяснить, если вспомнить, что В. Ф. Наседкин был в то время влюблен в Е. А. Есенину, но поначалу не пользовался взаимностью. «Он (В. Ф. Наседкин – В. В.) что-то прихлестывает за Катькой, и не прочь сделаться зятем, но сестру трудно уломать», – писал Есенин Н. Вержбицкому 6 марта 1925 года. Теперь становится понятным, почему в телеграмме, адресованной Есениным, упоминается имя только одной Екатерины Александровны Есениной – «Катя».
Уехав из Москвы, вдали от любимой В. Ф. Наседкин затосковал – «скука» – и чувствовал – себя «изгнанником».
Текст телеграммы во многом будет ясен, если вспомнить, что во второй половине июня, когда Василий Федорович был еще в Москве, Софья Андреевна Толстая подала заявление в суд о разводе со своим прежним мужем Сухотиным, чтобы вступить в брак с Сергеем Александровичем Есениным. Зная об этом и будучи одним из самых близких друзей семьи Есениных, Наседкин в телеграмме и спрашивает об этом – «как развод».
Упоминаемое в телеграмме и не совсем понятное «издание»?
17 июня Сергей Александрович в присутствии Наседкина написал заявление в Госиздат с просьбой издать «собрание стихотворений и поэм», и в телеграмме Наседкин интересовался судьбой издания.
Еще больше смущала последняя часть телеграммы: «пишите адрес Берлин».
Наседкин собирался в Берлин и просил писать ему туда? Или в Берлин собирался Есенин, и Наседкин спрашивал его будущий берлинский адрес?
Виталию Вдовину удалось распутать и этот узел.
В марте 1925 года Сергей Александрович уехал на Кавказ. В Батуми, после того как его ограбили бандиты и он остался без пальто, он сильно простудился, о чем восьмого апреля писал Г. А. Бениславской:
«Когда я очутился без пальто, я очень и очень простудился. Сейчас у меня вроде воспаления надкостницы. Боль ужасная. Вчера ходил к лучшему врачу здесь, но он, осмотрев меня, сказал, что легкие в порядке, но горло с жабой и нужно идти к другому врачу, этажом выше».
Но все оказалось гораздо сложнее, тем более, что сам он не очень-то заботился о своем здоровье. И в следующем письме Бениславской – одиннадцатого мая – вынужден был писать:
«Лежу в больнице. Верней, отдыхаю. Не так страшен черт, как его малютки. Только катар правого легкого. Через 5 дней выйду здоровым. Это результат батумской простуды, а потом я по дурости искупался в средине апреля в море при сильном ветре. Вот и получилось. Доктора пели на разный лад. Вплоть до скоротечной чахотки».
Но одиннадцатого письмо он не отправил и двенадцатого сделал к нему приписку:
«Письмо написал я Вам вчера, когда не было еще консилиума… С легкими действительно что-то неладно. Предписано ехать в Абас-Туман.
Соберите немного денег и пришлите. Я должен скоро ехать туда.»
Но в Абас-Туман он не поехал, и уже 12 июня писал сестре из Москвы:
«Дорогая Екатерина!
Случилось очень многое, что переменило и больше всего переменяет мою жизнь. Я женюсь на Толстой и уезжаю с ней в Крым».
Но было и другое намерение – поехать с женой на лечение в Башкирию, к Василию Федоровичу – на кумыс.
«Об этих планах Есенина В. Ф. Наседкин и спрашивает в телеграмме, – считает Виталий Вдовин, – «отъезд планы». На первый взгляд несколько неожиданными, откровенно чужеродными выглядят заключительные слова телеграммы – адрес, по которому В. Ф. Наседкин просит ему писать: «Катя милые пишите адрес Берлин». Нелепо даже предположение, чтобы Наседкин намеревался ехать из Башкирии в столицу Германии. Такой адрес можно бы, пожалуй, воспринять как розыгрыш со стороны Наседкина. Но текст телеграммы заставляет усомниться и в таком предположении. Изучение вопроса убедило меня в том, что Наседкин сообщал в телеграмме реальный адрес.
На территории Башкирии близ Уфы уже в то время действовал кумысолечебный курорт «Шафраново», ведущим специалистом в котором был врач П. Ю. Берлин. Намереваясь поехать из деревни на этот курорт, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье, В. Ф. Наседкин и сообщает Есениным условно сокращенно: «адрес Берлин» (то есть курорт Шафраново). Необычный для постороннего человека, такой адрес был хорошо понятен Есенину, его родным и близким, интересовавшимся в то время Берлином как крупным специалистом кумысолечения.»
В это время с Кавказа по служебным делам в Москву приехал П. И. Чагин, зашел к Есениным в гости и, узнав о здоровье Сергея Александровича, пригласил его на Кавказ, там он обещал создать самые лучшие условия для лечения. Предполагавшаяся поездка в Башкирию была отложена, тем более, что состояние здоровья Сергея Александровича несколько улучшилось, и 25 июля с Софьей Андреевной Толстой он выехал в Баку.
Но надежды на счастливую поездку на Кавказ не осуществились, впрочем, Есенин знал об этом и до поездки, о чем писал Н. Вержбицкому: «Все, на что надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда?». Но остановить себя он уже не мог. Вот несколько хронологически последовательных выдержек из воспоминаний Александры Александровны Есениной:
«…он вернулся (Есенин с Кавказа — М. Ч.) усталым, нервным. Дома же было как-то тихо и чуждо. Вечера мы теперь проводили одни, без посторонних людей, только свои: Сергей, Соня, Катя, я и Илья. Чаще других знакомых к нам заходил Наседкин и коротал с нами вечера… К нему хорошо относился Сергей, и Наседкин у нас был своим человеком. Даже 18 сентября, в день регистрации брака Сони и Сергея, у нас не было никого посторонних. Были все те же Илья и Василий Федорович.
19 декабря Катя и Наседкин зарегистрировали свой брак в загсе и сразу же сообщили об этом Сергею. Сергей был очень доволен этим сообщением, он уважал Василия Федоровича и сам всегда советовал сестре выйти за него замуж.
И тогда ими всеми вместе было принято решение, что и Наседкин поедет в Ленинград д будет жить вместе с ними».
И вот последний, трагический день:
«На улице еще бушевала метель. Часов в одиннадцать нарочный с почты принес нам первую настораживающую телеграмму: «Сергей болен еду Ленинград Наседкин».
Сергей болен. Что могло случиться за 5 дней, в течение которых мы не видели его? Стало тревожно, но успокаивало то, что рядом с ним Василий Федорович, свой человек».
Давая эту телеграмму, Наседкин уже знал о смерти друга, но сразу не решился сообщить об этом родным.
«Часа через три к нам снова пришел нарочный с почты и на этот раз нам принес еще две телеграммы – одну из Москвы от друга Сергея Анны Берзинь, которая писала: «Случилось несчастье приезжайте ко мне», – и вторую от Василия Федоровича из Ленинграда с сообщением о смерти Сергея».
А эти строки принадлежат Екатерине Александровне Есениной:
«Смерть Есенина была тяжелой утратой для Наседкина. Он всегда верил, что поэзия Есенина будет жить долго. Он тщательно собирает материалы к биографии Есенина, пишет воспоминания о нем. Собранные им материалы, письма Есенина к Панфилову, ранние стихи, все документы о его образовании и написанные им лично материалы в настоящее время служат основным источником к биографии Есенина».
В 1927 году выходит в свет первая книга стихов Наседкина, которую он назвал «Теплый говор». В стихах был теплый говор спелой ржи в предчувствие счастья. Вторая книга его стихов – «Ветер с поля» – появилась в 1931 году. В это время Наседкин работает в журнале «Колхозник», который был организован по инициативе А. М. Горького. В 1933 году был напечатан последний сборник стихов поэта…
И вот я еду в Веровку. Туда, где
…за сизым крутым небосклоном,
Под ногой чуть заметно пыля,
Оглашаемы свистом и звоном,
Без конца пробегают поля.
В Мелеузе узнал, что деревни уже нет, ее жители переехали в соседние деревни при укрупнении колхозов. Есть Наседкины в Ивановке, это в четырех километрах от бывшей Веровки. Едем в Ивановку с заведующим орготделом Мелеузовского райкома комсомола Анатолием Прокудиным. Он хорошо знает эти места.
Крайний дом.
– Если не ошибаюсь, вот тут и живут Наседкины.
С замиранием сердца стучу в дверь.
Вышла пожилая женщина.
– Наседкин Федор из Веровки?.. – Женщина окинула нас долгим внимательным взглядом. – А вы что, сродственниками ему будете?
Я долго и путанно стал объяснять, что к чему.
– Как не знать. Ведь сродственница я им по мужу-то. Так-то я Гребнева. Они жили в Веровке, а мы на хуторе рядом, Шарлыцким назывался. А потом хутор соединился с деревней. Когда образовался колхоз, назвали его Пугачевским. Потом и деревню по колхозу стали называть Пугачи. И сына ихнего, Василия, помню. Правда уж, не так хорошо. Времени-то сколько утекло. В Москве он жил. Приезжал он редко: то учился, то воевал. Помню, приехал как-то, в году 23, кажется. Ходит вокруг деревни по полям, тихий такой. Все рожь руками трогает, гладит колосья.
– Что с тобой, Василий? – спрашивает мужик-то мой, покойник.
– А я три года травинки не видел, не то что поле. Пески одни.
А потом как-то с женой приезжал. Тоненькая такая, как девчонка. Катей звали. Золотые руки у нее были. Полдеревни она у нас вылечила. Время было тяжелое, врачей не было, она и взялась. И сестру его, Тоню, на ноги поставила, а ведь умирала совсем. Долго потом о ней добром вспоминали, письма писали, чтобы помогла советом. Жива ли?.. Родители? Нет уж их, милый, давно. Помню, вывели их беляки на улицу, как родителей красного комиссара, и хлеб их весь подожгли: «смотрите, мол»… А Веровка-то вон, за пригорком. Тихо там теперь. И поля кругом.
(Летом 1975 года, узнав, что Екатерина Александровна Есенина-Наседкина немного приболела, я завез ей в память о тех далеких днях баночку знаменитого башкирского меда: «Выздоравливайте поскорей!»
– Как же, помню, – улыбнулась она. – Всех помню. У нас еще там сын тяжело заболел. Других-то лечила, а его не уберегла. Климат не пришелся ему, потому мы вскоре и уехали оттуда. И деревни все окрестные хорошо помню: Шарлыцкий хутор, Юрматы, Сыскан. И Мелеуз хорошо помню… Сергей все собирался в Башкирию поехать, Василий Федорович-то его постоянно звал. Да и так он Башкирией давно интересовался. Еще когда собирал материал к поэме «Пугачев»… Теперь вот дочь собирается поехать, посмотреть на родственников, на места, где родился отец…)
На пригорке мы оставили мотоцикл. До горизонта во все стороны с легким шорохом катились волнами зреющие хлеба, тепло говорили, – и ветер посвистывал в решетке ограды на братской могиле. В ней лежали солдаты, гражданской войны – одногодки и, может, даже школьные товарищи поэта и красного комиссара Василия Наседкина.
А внизу под пригорком – под знойным степным небом без единого облачка – лежала заброшенная деревня, в которой он родился. В память о которой даже в раскаленных пустынях Средней Азии ему казались «тучи соломой, дали – покатым плетнем».
Под пригорком грелась на солнце заброшенная деревня, в которой жила когда-то похожая на сотни и тысячи других крестьянок старушка мать. Она давным-давно сошла в могилу, конечно же совсем не подозревая о том, что ее полное материнской тревоги письмо к далекому сыну было последним обостренным толчком, заставившим обнажиться сердце и память другого поэта, тоже крестьянского сына, – и родились стихи, ставшие великим памятником всем матерям Росши.
Мы опустились к деревне. Два ряда заросших полынью и татарником фундаментов.
Ветлы с орущими грачами. Камышовая речка Сухайла. Мосток через нее. Пророческими оказались строки поэта:
Ветер тише – темный, дальний, древний.
Я иду обратно. Мне приветно
Машут ветлы над глухой деревней,
Очень низкой и едва заметной,
Словно вся она объята дремой
Под истлевшей, выцветшей соломой.
Я смотрю и чувствую – унижен
Этим видом азиатских хижин,
Где судьбы безрадостной немилость
Чересчур уж долго загостилась.
Пусть уходит – к смерти наготове!
Шире дверь для буйной крепкой нови,
Чтоб переиначить навсегда
Это царство нищего труда!
Жизнь переиначена. И в этой новой жизни оказалась ненужной «низкая деревня» Веровка. Остались лишь ветлы. Те самые:
На краю деревни, на поляне.
Под ветлой крестьянское собранье.
Чей-то голос, хриплый и метельный,
Говорил о жизни об артельной.
Тогда мужики и не догадывались, что это собрание и решило судьбу их деревни: при «артельной жизни» станут обузой десятки беспорядочно разбросанных по степи маленьких деревень и хуторов – они сольются в большие села без соломенных крыш.
Мы стояли на заброшенной улице заброшенной деревни. И странно – не было у этой деревни и тени печали. Со всех сторон ее обступили богатые поля, и она грелась на солнце с достоинством много потрудившегося за свой век человека. Она словно смотрела на эти поля и с гордостью говорила:
– Смотрите, это вырастили мои внуки, сыновья тех, что лежат в братской могиле на пригорке. А недавно из соседней деревни приходили ребятишки в красных галстуках, я уж не смогла узнать, чьи они, и положили к могиле цветы. А сегодня вот приехал какой-то чудак и читает вслух стихи моего сына, да еще утверждает, что обо мне написал стихи другой поэт – Сергей Есенин.
А мне слышались стихи:
Не унесу я радости земной
И золотых снопов зари вечерней.
Почувствовать оставшихся за мной
Мне не дано по-детски суеверно.
И ничего с собой я не возьму
В закатный час последнего прощанья.
Накинет на глаза покой и тьму
Холодное, высокое молчанье.
Что до земли и дома моего,
Когда померкнет звездный сад ночами,
О, если бы полдневной синевой
Мне захлебнуться жадными очами
И расплескаться в дымной синеве,
И разрыдаться ветром в час осенний,
Но только б стать родным земной листве, —
Как прежде, видеть солнечные звенья.
Стороной пропылил мотоцикл. Откуда-то из камышей потянул ветер, тронул ветлы, густо зашумела рожь. И я подумал, что десять, двадцать раз прав Николай Рыленков, написав вот это:
«Нет, то, что соединяет людей, не размывает время. Не может размыть. И все, что есть живого в стихах несправедливо забытого поэта, не только вернется к старым друзьям, но и будет находить все новых и новых друзей».
„Пока не сложим головы… “
«Генрих Фридрихович Лунгерсгаузен был выдающимся ученым с широкими разнообразными интересами. Палеонтологи, стратиграфы, тектонисты, геоморфологи и геологи-четвертичники в равной степени правы, когда считают его крупным специалистом в соответствующих областях геологических знаний. Во всех случаях его исследования приносили свежий, нередко весьма оригинальный, фактический материал, на котором строились глубокие, далеко идущие выводы и заключения.
Сейчас трудно сказать, в какой из областей геологической науки труды Г. Ф. Лунгерсгаузена имели наибольшее значение. Среди них много фундаментальных, основополагающих работ. Так, например, современная стратиграфия мезозоя Донбасса в значительной степени базируется на его исследованиях. Особенно важны работы Г. Ф. Лунгерсгаузена по стратиграфии древних немых толщ Приуралья, Чрезвычайно яркими были его статьи о древнейших ледниковых отложениях Урала и Сибири. Он первый наметил крупные зоны разломов, секущие Сибирскую платформу. Широкое признание получили работы Г. Ф. Лунгерсгаузена по вопросам цикличности развития земли, как небесного тела, зависящего в своей эволюции от общих закономерностей развития Вселенной»[1]1
Палеонтология – наука о вымерших организмах и о развитии органического мира в течение всего геологического прошлого Земли. Стратиграфия, тектоника – разделы геологии, изучающие, соответственно: первый – последовательность напластования горных пород, их пространственные взаимоотношения и геологический возраст; второй – структуру, движения, деформации и развитие земной коры. Геоморфология – наука о рельефе земной поверхности, его внешних признаках, происхождении и закономерностях развития. Четвертичная геология – геологическая дисциплина, изучающая последний, четвертичный период в развитии Земли.
[Закрыть].(Доклады Академии наук СССР)
Три встречи
Я никогда не видел его, хотя, может, не раз, как, впрочем, и вы, встречал на улицах Уфы, ведь каждую осень, после окончания очередного экспедиционного сезона, когда суровые сибирские или даже полярные снега вынуждали его возвращаться в Москву, – каждую осень, хоть ненадолго, он заезжал в наш город. К сестре, к друзьям – в город, который оставил в его судьбе благодарный и глубокий след, как он и сам оставил глубокий след в благодарной памяти наших земляков.
Я не только никогда его не видел, до последнего времени я даже не видел его фотографий, но иногда мне казалось, что я знаю его хорошо, кстати, на фотографии он оказался именно таким, каким я его представлял. Иногда я даже слышу его голос, словно не один раз катался по земле от его веселого и едкого юмора и бледнел от его сведенных в бешенстве глаз, когда он, очень добрый от природы, но вспыльчивый, приходил в ярость от чьей-нибудь нерадивости или лени.
Как это ни горько, говорить о нем приходится в прошедшем времени: чрезвычайно скромный и чрезвычайно талантливый и разносторонний ученый, – он погиб в расцвете сил, не приведя в систему свои многочисленные открытия, научные идеи, догадки, предположения, которые, соединенные воедино, несомненно, принесли бы ему мировую славу. Даже сейчас, когда со дня его смерти прошло восемь лет, в нее трудно поверить. Я понимаю, как трудно было в нее поверить тогда. Я понимаю его друзей по экспедиции, которые, вопреки разуму, в порыве отчаяния заставили врачей снова вскрыть его тело, подозревая хирургическую ошибку.
Кстати, погиб он тоже по причине своей чрезвычайной скромности. Начальник геологической партии, в которой его скрутила беда, узнав, что его гостя и начальника Генриха Фридриховича Лунгерсгаузена мучают боли в области живота, срочно вызвал по рации вертолет, но Генрих Фридрихович, случайно услышав об этом, отменил радиограмму:
– Не стоит из-за этой мелочи гонять машину. Пройдет.
Начальник партии побоялся ослушаться, боли не проходили, гость скрывал это, продолжал работать, на ночь прикладывал к животу фляжку с горячей водой, а утром опять уходил в маршрут. Со временем боли вроде бы утихли, а это, как потом оказалось, лопнул воспаленный аппендикс, а он продолжал работать, ощущая слабость, жар во всем теле и странное чувство, что кровь с каждой минутой густеет и с трудом пробивается по сосудам. И когда в конце концов страшная болезнь свалила его – до самого последнего дня чистое небо было плотно затянуто гнилыми дождями. Он был главным геологом Всесоюзного аэрогеологичёского треста, в его подчинении были десятки экспедиций, в каждой из которых были десятки самолетов и вертолетов, но из-за непогоды ни один из них не мог подняться в воздух…
Впервые о Генрихе Фридриховиче Лунгерсгаузене я услышал весной 1968 года. В редакцию Башкирской республиканской молодежной газеты, в которой я тогда работал, пришла пожилая женщина, принесла папку со стихами:
– Стихи брата. Долго работал у нас в Башкирии. Умер в экспедиции в Эвенкии.
Стихи были лиричны, неподражательны, философичны, мужественно добры. Удивило то, что автор, человек, несомненно, одаренный, никогда не пытался их публиковать, мало того, до самой его смерти, кроме самых близких людей, никто не знал, что он пишет стихи.
Подборку стихов опубликовали, сопроводив соответствующим предисловием, в номере газеты, посвященном Дню геолога, а буквально через несколько дней в одной из центральных газет я наткнулся на корреспонденцию под названием «Мертвые пещеры об истории Земли». Автор ее, Михаил Карев, писал:
«Недавно во время геологических исследований на Южном Урале и в Башкирском Приуралье советский ученый Генрих Лунгерсгаузен был поражен своеобразием отложений подземных полостей, связанных с явлением карста[2]2
Карстовые явления – явления, возникающие в растворенных водой горных породах (известняки, доломиты, мел, гипс, каменная соль) и связанные с химическим процессом их растворения. Выражаются в комплексе поверхностных (воронки, котловины) и глубинных форм (различные подземные ходы, полости, пещеры), своеобразии подземных вод.
[Закрыть]. Ни по внешнему облику, ни по генетической природе эти отложения нельзя отождествлять пи с одним из существующих типов материковых образований. Ближе к стенкам бывших пещер концентрируется крупнообломочный материал, образовавшийся при обвалах и осыпях. Ближе к центру – слой из мелких обломков. Наконец, в осевой части пещеры развит тонкослойный озерный осадок водоемов, которые были когда-то в пещерах. В нем прослеживаются светлые слои органического происхождения, чередующиеся с отложением глин и других минералов. Слои различаются по мощности. Эти колебания соответствуют приливам и отливам «волн жизни» в древних водоемах, причем ритмы этих волн близки к общеизвестным климатическим циклам: 3–5 лет, 11 лет, 20–22 года – и так далее: в мертвых пещерах, в вечном мраке земных глубин обнаружились следы солнечных циклов. Солнечные циклы отражались на интенсивности развития множества водных беспозвоночных животных в открытых водоемах, от этого несколько менялся состав растворенных в воде веществ».
Третья встреча с Генрихом Фридриховичем Лунгерсгаузеном произошла летом того же года на Камчатке. Много дней мы шли без троп по малоисследованной части полуострова – через вулканическую пустыню, через тундру, через болота, и вот наконец перевалили через покрытый снежниками Толбачинский перевал в долину реки Левой Щапины. До первого человеческого жилья было еще очень далеко, но неожиданно на звериной тропе наткнулись на следы кирзовых сапог. Свежие следы!
Заторопились. И – чудо: на пригорке между двух бирюзовых озер в голубичнике сидел на бревне широченный мужчина с огромной седой бородой. Рядом две девушки лотками собирали голубику.
– Охраняю от медведей, – улыбнулся он сквозь бороду. – Одни боятся. Радист. Из отряда экспедиции Всесоюзного аэрогеологического треста.
– Всесоюзного аэрогеологического треста?
– Да.
– У вас главным геологом был Лунгерсгаузен?
– Да. А откуда вы его знаете?
– Он у нас в Башкирии долгое время работал.
– Он умер, – сказал мужчина, улыбка сошла с его лица.
– Я знаю. Недавно в своей молодежной газете мы его стихи опубликовали.
– Какие стихи?
– Сестра принесла к нам в редакцию. Она в Уфе живет.
– Его стихи?.. Мы с ним много лет вместе работали. На Ангаре, в Заполярье, а вот что он стихи писал, не знал. Да и никто, наверное, не знал… Стихи… Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Такой уж он был человек. Во всем талантливый… Я знаю, как он умирал. Все получилось очень нелепо. Никого из друзей рядом не было, и погода была нелетная. Да и сам он виноват. Все молчал, запустил. Повезли на оленях, потом на тягаче. Сопровождала его какая-то девушка, кажется, приехала в экспедицию после института в первый свой полевой сезон. Толком не знаю. Потом вездеходчик, в каком-то аэропорту мы случайно встретились, рассказывал: «Она плачет, а он ее успокаивает: «Ну, что ж ты, милая, к каждому это рано или поздно приходит». Он знал, что умирает. «Я хорошо прожил жизнь. Мало, конечно, но что делать? Мне не страшно. Правда, нет у меня никого, ни жены, ни детей. Никого после меня не останется. Всю жизнь свою вложил в геологическую карту. Жаль только, что не все успел сделать. А ты не плачь, милая. У тебя все впереди. Не плачь, а то морщины появятся. Улыбнись…» А вот что он стихи писал, не знал…
Поиски
После возвращения с Камчатки я зашел в Башкирское геологоуправление к своему давнему знакомому, впрочем, к всеобщему знакомому людей странствующих, – Феодосию Феодосьевичу Чебаевскому. Не помню, коим образом наш разговор коснулся карандашного рисунка на стене: «Гора Иремель».
– Рисунок Лунза. Мы с ним как-то вместе на Иремеле были, вот перед отъездом из Уфы он и подарил мне на память… Генриха Лунгерсгаузена, – видя, что я ничего не понимаю, пояснил он. – В своем кругу мы его Лунзом звали. Слышали о таком? Работал у нас в Башкирии, в войну.
Меня уже давно заинтересовала личность этого необыкновенного человека. А после встречи с Чебаевским я твердо решил: как только немного разгребусь с делами, найду его сестру Ирину Фридриховну, ведь она живет в Уфе. Но все откладывал: то отрывали дела, то болезни. Шли месяцы, даже годы – и когда наконец собрался, оказалось, что Ирина Фридриховна умерла, и никто не помнил ни ее адреса, ни хотя бы фамилии по мужу.
Я снова пошел к Чебаевскому, но он тоже не помнил, зато дал адрес уфимского геолога Афанасия Ивановича Демчука, одного из первооткрывателей знаменитых учалинских меднорудных месторождений, организатора и первого начальника созданного в 1948 году Южноуральского горного округа:
– Когда Лунгерсгаузен жил в Уфе, они были с ним очень дружны. А потом какое-то время вместе работали в Сибири.
Меня встретил человек на костылях:
– Ирина Фридриховна? Адреса не помню. Вот если бы пойти по улице Карла Маркса от вокзала вверх на гору, сразу бы нашел этот дом, да вот ногу сломал… Ну, что я могу о нем рассказать, давно ведь мы с ним расстались. Да, работали вместе. Трудная была работа, очень трудная. Редкой души был человек. Очень добрый, но как начальник очень строгий. Я как-то писал рецензию на одну из его работ. Это была моя лучшая в жизни рецензия. Не потому, что я семи пядей во лбу, а потому, что была блестящей работа, которую я рецензировал. Больше таких работ рецензировать мне не приходилось. Если можно так сказать, он был поэтом в геологии. А вот что он на самом деле стихи писал… Я был близким ему человеком, но об этом даже не догадывался… О его гибели узнал только месяца через три. Потому что тоже в поле был. Так это было неожиданно.
Передо мной сидел человек, много повидавший на своем веку. За его плечами были трудные дороги: Север, Сибирь, годы Средней Азии, война, человеческая несправедливость, болезни, потери товарищей. Он говорил медленно и скупо, он знал цену словам, он привык говорить фактами, он считал, что сказал мне очень много, а мне нужны были нюансы, детали. И, чувству я это, Афанасий Иванович сказал на прощанье:
– Вот подождите, встану на ноги, и мы найдем этот дом.
Я не стал дожидаться выздоровления Афанасия Ивановича, как-то вечером пошел по улице Карла Маркса с единственной целью: попытаться найти дом, в котором жила сестра Лунгерсгаузена, в котором часто бывал он сам и в котором еще могли жить люди, близко знавшие его. Я знал, что моя затея наивна, но под предлогом вечерней прогулки все-таки пошел. Медленно поднимайся от вокзала вверх на гору, внимательно всматривался в каждый дом – и вдруг по какому-то наитию на углу улиц Карла Маркса и бульвара Ибрагимова сказал себе:
«Вот этот дом!» И, самое странное, как потом оказалось, я не ошибся.
И вот однажды, в ветреный и сырой мартовский вечер, я постучался в квартиру номер четыре этого дома, в которой живут дочь Ирины Фридриховны Елена Павловна и ее муж Илья Петрович Горбуновы. Еще с порога увидел на стене мужской портрет. Сразу догадался – его. Рядом – видавшая виды полевая сумка. А потом передо мной разложили его письма, документы, стихи, альбомы экспедиционных фотографий. Я понял: память о нем здесь свята.
Лев-Генрих Фридрихович Лунгерсгаузен родился 20 августа 1910 года в городе Данкове (ныне в Рязанской области), в семье профессора геологии Ф. В. Лунгерсгаузена. Когда Лунгерсгаузены попали в Россию, сейчас судить трудно. По крайней мере еще прадед Генриха Фридриховича родился уже в России.
Генриху Лунгерсгаузену не было еще и пятнадцати лет, когда он под руководством отца, который в то время работал в Белорусской сельскохозяйственной академии, начал вести геологические исследования. Первая его серьезная научная работа «К вопросу о простирании северно-белорусских конечных морен и о возрасте белорусского леса», написанная в двадцать один год, была опубликована в сборнике Академии наук Украинской ССР. Этой работой студент Киевского горно-геологического института, который, кстати, он закончил всего за полтора года, заявил о себе как о талантливом ученом-исследователе. Не случайно, что следующая его работа через год была опубликована в «Трудах комиссии по изучению четвертичного периода» Академии наук СССР.
До 1941 года Генрих Лунгерсгаузен работал в Белоруссии, на Украине, в Молдавии, проводя геологическую съемку, геоморфологические и палеогеоморфологические исследования. В 1939 году одна из его работ, посвященных геологии Подолии, была отмечена первой премией на конкурсе молодых ученых Украины. В то же время им была написана кандидатская диссертация по строению древних толщ Донбасса, которую, не по его вине, он смог защитить только в 1946 году и о которой тридцать Лет спустя напишут: «Высказанные им идеи о тектоническом строении Украины и Большого Донбасса после продолжительной проверки временем положены в основу современных тектонических построений».
В этом же 1939 году Лунгерсгаузена пригласили на работу в Академию наук Украины. Об авторитете молодого ученого говорит тот факт, что том «Геология Украины» в многотомном издании «Советской геологии» более чем наполовину был написан им. В 1941 году – еще более солидное приглашение: в советскую секцию Международной ассоциации по изучению четвертичного периода, которая находилась тогда при Всесоюзном геологическом институте в Ленинграде.
Но проработал Лунгерсгаузен в Ленинграде недолго. К нему даже не успела переехать из Киева жена, как началась война…
Годы в Уфе
Война поставила перед геологами неотложные задачи по расширению минерально-сырьевой базы в глуби страны, и уже в октябре 1941 года Лунгерсгаузен направлен на большую производственную работу на Урал, в Башкирское территориальное геологическое управление.








