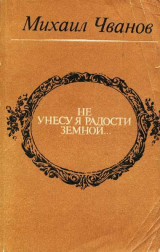
Текст книги "Не унесу я радости земной..."
Автор книги: Михаил Чванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– А в Бирске тогда не было гимназии? Дядя в то время был инспектором народных училищ Бирского района. Не мог он в связи с этим переехать в Бирск?
– Нет, в Бирске гимназии не было.
– А в Уфимское реальное училище он мог его определить?
– Пожалуй, мог. Реальное обучение было ближе к жизни, а ведь, как вы говорите, дядя хотел сделать из него инженера. Подождите, может, потому он его и перевел в реальное училище, а? Программа его отличалась от программы классической гимназии, но в начальных классах это различие было незначительным. Из второго класса он вполне без ущерба знаний мог перейти в реальное. Но архивов реального училища, как вы знаете, не сохранилось, как и архивов частных гимназий. Но я не думаю, что Альбанов, учась в частной гимназии, мог получить приличное образование. За редким исключением, там учились оболтусы из богатых семей… А никаких других документов в личном деле не сохранилось?
– В том-то и дело. Да они и не могли сохраниться. Как свидетельствует приписка, все документы «выданы гимназисту Альбанову под расписку».
Еще и еще раз перечитываю прошение дяди. Что же за семейные обстоятельства это все-таки могли быть, которые заставили его забрать племянника из гимназии? И не нахожу ответа.
На всякий случай запрашиваю в архиве списки учителей и всех, могущих иметь отношение к просвещению в Бирском учебном районе. Ни среди них, ни среди учеников фамилии Альбанова нет. Листаю «Вестник Оренбургского учебного округа», всевозможные справочные книжки Оренбургской губернии – никаких Альбановых не нахожу. А что если забрали его не Альбановы, а родственники по матери, девичьей фамилии которой я не знаю?
После загадочного отчисления Валериана Альбанова из гимназии личность дяди стала для меня еще более загадочной. Какой он был, дядя? Добрый, отзывчивый? Или наоборот? Добрый, отзывчивый вряд ли бы отказал в средствах на существование. Нужно каким-то образом искать сведения о дяде. Теперь только они могут дать ниточку для дальнейшего поиска.
Инспектор народных училищ. А что если попробовать покопаться в архивных фондах директора народных училищ?
И вот после долгих поисков у меня в руках «Формулярный список о службе инспектора народных училищ Уфимской губернии Белебеевского района (уже Белебеевского!) статского советника Алексея Петровича Альбанова»:
«Сын священника (прав был Гудков, утверждая, что Альбановы – фамилия, скорее всего, священническая). Окончил Казанскую духовную семинарию. Кандидат богословия. В 1877 году определен на работу в Уфимскую духовную семинарию, одновременно с 1879 по 1881 год преподавал русский язык в Уфимской женской гимназии.
Женат первым браком на дочери протоиерея Добровидова Анне Алексеевне. Чада: Николай, родился 12 ноября 1891 года и Петр – 16 июня 1894 года. Имеет дом в Уфе.
1883 год. Инспектор Киргизской школы Букеевской орды.
1889. Инспектор Оренбургской киргизской учительской школы.
1891. Инспектор народных училищ Бирского района.
1893. Заведование и школами Белебеевского уезда.
1896. Назначен инспектором народных училищ Белебеевского уезда.
1902. Определен на пенсию за выслугу 25 лет. Оставлен на службе.
1904, 1 января. Уволен в отставку».
Значит, ни в 1894, ни в 1895 годах Алексей Петрович Альбанов из Уфы не уезжал. Уезжал раньше – в Оренбург, где вместе с ним, а не с матерью, был и Валериан, поступивший там в приготовительный класс. Не уезжал Алексей Петрович из Уфы и до 1904 года. Тогда какие же семейные обстоятельства заставили его забрать племянника из гимназии? Правда, в июне 1894 года (прошение об отчислении Валериана Альбанова подписано декабрем) у него родился второй сын. Неужели это событие каким-то образом могло повлиять на судьбу Валериана Альбанова? Непоседа, он стал лишним в семье?
На все эти вопросы я пока не в силах ответить. Но зато мы теперь в какой-то мере можем представить атмосферу, в которой воспитывался Валериан Альбанов: дед – священник, дядя – кандидат богословия, его жена – дочь священника. Гости – священники… Он не раз, видимо, заставлял краснеть это благочинное семейство– уж хотя бы закон-то божий он мог знать лучше чем на «тройку»!
В архиве директора народных училищ сохранились пространные отчеты, доклады инспектора училищ Алексея Петровича Альбанова о состоянии просвещения во вверенных ему районах. Ради справедливости нужно сказать, что в этой должности он сделал многое в деле просвещения края. А в его ведении были школы в нынешних Бирском, Благовещенском, Мишкинском, Белебеевском, Миякинском и других районах Башкирии. Он много и часто ездил, его отчеты отличаются заботой о деле, конкретностью, точностью, иногда они резки, когда он обнаруживал, что какой-то сельский учитель или священник плохо относится к своим обязанностям или запил. Будем считать, что статский советник, инспектор народных училищ Алексей Петрович Альбанов внес свой достойный вклад в дело просвещения края, хотя и не мог препятствовать «дурному» и неправильному, по его мнению, направлению ума своего племянника. Эти отчеты заставили меня относиться к нему с большим уважением, чем прежде, хотя какое-то интуитивно предвзятое отношение к нему почему-то осталось.
Но оставим дядю в покое. Тем более, что интересует он нас постольку, поскольку у него воспитывался выдающийся полярный штурман Валериан Иванович Альбанов. Тем не менее благодаря ему мы узнали, что отца Валериана Альбанова звали Иван Петрович, это, может, даст нить для дополнительного поиска. А может, дядя поможет нам узнать, где жил в Уфе Валериан Альбанов?
Перелистываю десятки всевозможных «Справочных книжек и адресных календарей», «Календарей и справочных книжек» Уфимской губернии за разные годы. Бесполезно. Наконец в «Списке имеющих, на основании Высочайше утвержденного 11 июня 1892 года городового положения, право участия в выборах городских гласных по городу Уфе и кандидатов к ним на четырехлетие 1901–1904 гг.» под номером шесть нахожу:
«Фамилия, имя, отчество – Альбанов Алексей Петрович, статский советник.
В какой части и улице города находится недвижимое имущество: 2, Аксаковская.
Стоимость недвижимого имущества по городской оценке: одного – 1000 рублей, всех – 1000 рублей».
Значит, жили Альбановы на Аксаковской улице в небольшом по тем временам собственном доме. Но как найти этот дом, если он сохранился? За последние годы Аксаковская улица сильно изменилась. С начала этой улицы хорошо видна Белая, дали за ней – синие, в дымке.
Запрашиваю еще один список – «Список лиц, имеющих право быть присяжными в 1901 году по Уфимскому уезду». Фамилия статского советника Альбанова в нем есть, но дальше меня ждало разочарование: напротив графы «местожительство» стояло просто – г. Уфа.
И снова обращаюсь к «Адресам-календарям». И надо же – до 1904 года в них не указывались подробные адреса должностных лиц, потому что до 1904 года в Уфе не было нумерации домов, а в 1904 году, когда ее наконец ввели – в «Адрес-календаре» вместо Альбанова в должности инспектора народных училищ Белебеевского района числится уже некий коллежский секретарь С. А. Дворжецкий. А. П. Альбанов в этом году подал в отставку.
Но это не страшно: в связи с введением нумерации домов по решению городской думы была издана книга «Список улиц и домов владений г. Уфы». Она-то уж мне обязательно поможет.
Странно, фамилии А. П. Альбанова в ней не нахожу. Есть Альбанов, но другой – Михаил Васильевич, чиновник, проживающий на углу Маминской и Водопроводной.
В чем же дело? Что касается «Адреса-календаря», то все понятно, туда включали только должностных лиц, а Алексей Петрович ушел в отставку. Но почему его фамилии нет в списке домовладений? Статский советник, пусть даже отставной, – заметная фигура в тогдашней Уфе.
Неужели, подав в отставку, он уехал из Уфы? Скорее всего, ведь у него было два сына, и ни одного из них ни в те годы, ни позже нет в списках уфимской гимназии. Впрочем, Алексей Петрович мог определить их в частные гимназии, в духовную семинарию или реальное училище. Старший сын, Николай, родился в 1891 году, и не мог же он до 1904 года, то есть до предполагаемого отъезда отца из Уфы, болтаться неучем.
Интересно, кем они стали, сыновья Алексея Петровича? Вот они-то многое могли рассказать, они-то уж обязательно знали о судьбе своего двоюродного брата. Священниками – по семейной традиции? Или отец, как и племянника, хотел видеть их инженерами? Кем они стали во время революции, в гражданскую войну? В 1917 одному из них было двадцать шесть, другому – двадцать три года.
В фондах Музея Арктики и Антарктики, откуда мне коротко сообщили, что «музей не располагает сведениями о личной жизни В. И. Альбанова», среди немногочисленных документов В. И. Альбанова хранятся две особенно интересующие меня фотографии: «В. И. Альбанов в возрасте восьми лет с сестрой», «Альбанов-гимназист с сестрой». Значит, у него была сестра. Но тогда где воспитывалась она? У других родственников, или вместе с братом приехала в Уфу? Была она старше брата или моложе? Мне, к сожалению, пока не удалось побывать в Музее Арктики и Антарктики, и я не видел этих фотографий.
Как попали они в музей, как, впрочем, и все другие документы Альбанова: книжка для внесения сведений о службе на морских судах в судоводительских званиях, книжка члена Всероссийского союза моряков и речников торгового флота, другие фотографии? Кто-то же передал их туда. Но кто? Кто случайно оказался рядом в день его смерти? Сослуживцы, родственники? Александр Конрад?
Вот кто мог бы, наверное, рассказать о нем больше чем кто-либо. Но Александр Конрад умер в 1940 году. Говорят, что в Музей Арктики и Антарктики как-то заходила его дочь; но мне из музея так и не ответили: есть ли в нем ее адрес.
Человек, помоги себе сам!
И снова он передо мной – смутный и уплывающий образ: то гимназист, тихий, застенчивый, хотя, скорее всего, он не был ни тихим, ни застенчивым, то такой, каким видим его на фотографии последних лет.
Стараюсь быть беспристрастным. И все думаю о том, что было бы со «Святой Анной» и ее экипажем, если бы он не ушел с нее. Имел ли он моральное право уходить с нее? Не стал ли этот уход для «Святой Анны» той трагической гранью между жизнью и смертью, после которой оставшиеся на ней пали духом, лишившись единственного реального руководителя, способного вывести их из критического положения. Может быть, «Святая Анна», подобно «Фраму», рано или поздно сама освободилась бы изо льдов?
Нет.
Стараюсь быть беспристрастным. И опять думаю об этом. И опять – все-таки нет. Альбанов из-за ссоры с Брусиловым уже давно не имел на судне не только решающего, но даже совещательного голоса, тем более что экспедиция была финансирована дядей Брусилова, и Альбанов служил в ней лишь по найму.
Да, может быть, все изменилось бы в дальнейшем, в какую-то критическую ситуацию, – это не исключено, – экипаж полностью мог бы встать на сторону Альбанова, но тогда все равно было бы уже поздно. Единственный шанс на спасение – единственная находящаяся в относительной близости суша – Земля Франца-Иосифа к тому времени уже давно осталась бы позади, а «Святой Анне» все равно никогда уже не было суждено самостоятельно вырваться изо льдов. Это Альбанов знал твердо, и, как показало время, он был прав. Ее, несомненно, рано или поздно раздавило бы льдами, ее корпус не был специально сконструирован для полярных путешествий, расчитанных на встречную подвижку льдов, как, например, корпус того же «Фрама». Это во-первых.
А во-вторых, если «Фрам» придрейфовал к омывающему западные берега Шпицбергена и проникающему дальше на север теплому течению в самое благоприятное время года– в июле, то «Святой Анне», если бы ее миновала судьба быть раздавленной, предстояло там быть только в ноябре-декабре, когда кромка льдов находится гораздо южнее. Возможность освобождения ее ото льдов откладывалась бы до лета 1915 года у берегов Гренландии, в местах, даже летом далеко не благоприятных для судоходства.
Альбанов это знал, тем не менее не хотел отбирать у верящих в такое спасение надежды на счастливый случай и своим уходом с судна увеличивал их шансы на этот случай. Кроме того, что оставшимся хватало продовольствия еще на полгода, у них появлялась дополнительная надежда, что ушедшие на землю рано или поздно сообщат там о них, и к ним придет помощь.
Сам же он, увеличивая их шансы на счастливую случайность, в отличие от Брусилова и многих других, предпочитал жить не отвлеченной надеждой, которая была, по его мнению, ничем иным как трусостью, боязнью заглянуть з будущее, а реальной возможностью. А реальной возможностью в их положении было лишь одно – надеяться только на самого себя. Человек, помоги себе сам – был его жестокий, без иллюзий лозунг. Это в наши дни в Арктике, когда всесильными стали радиосвязь, авиация и ледокольный флот, почти всегда можно надеяться на помощь, а тогда?.. Тогда можно было надеяться только на самого себя. Только на себя – и больше ни на кого! «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – горький юмор афоризма Ильфа и Петрова применительно к этому случаю нужно читать без иронической улыбки.
Но это не значит, что Альбанов вообще не верил в людей и в человеческую взаимопомощь. Он верил, и больше чем кто-либо на «Святой Анне», но верил он опять-таки не в отвлеченную счастливую случайность, а в конкретную помощь людей, породненных суровой Арктикой. А конкретной и единственной помощью была тогда оставленная двадцать лет назад на Земле Франца-Иосифа база английского полярного исследователя Фридерика Джексона.
И эта вера подарила Альбанову победу! Тяжелую, оплаченную жестокой ценой, но победу.
Это была не просто победа!
Это было торжество веры во взаимовыручку людей, связавших свою судьбу с Арктикой. Не мог же полярный исследователь Фридерик Джексон, если он был настоящим полярником, а он был таковым, покинуть Землю Франца-Иосифа, не заложив на ней хотя бы продовольственного склада на случай других полярных экспедиций, к которым вдруг нагрянет беда.
После тяжелых взаимоотношений на «Святой Анне» это было вдвойне победой, она укрепила веру Альбанова в неразрывную связь людей. Помощь, пришедшая через двадцать лет! Рука единомышленника, протянутая через льды протяженностью в двадцать лет!
И вообще надо сказать, что у английского полярного исследователя Фридерика Джексона была счастливая судьба и легкая рука. Может быть, он не очень многого достиг как ученый, хотя заслуги его в исследовании Земли Франца-Иосифа несомненны, но сам того, может, не подозревая, он совершил в Арктике много других больших дел: в 1894 году на мысе Флора он встретил возвращавшегося от полюса Нансена (еще неизвестно, чем бы кончилась эта дорога для Нансена, если бы не эта встреча), и вот через двадцать лет на этом же самом мысе он спас Альбанова с Конрадом. И не только их, а всех оставшихся в живых из экспедиции лейтенанта Седова, дав их кораблю топливо, а те, в свою очередь, во второй раз спасли Альбанова с Конрадом, забрав их на теплую землю. А до этого похода по плавучим льдам, еще в самом начале Альбанову помог Нансен – своим мужественным примером, своей книгой «Среди льдов и во мраке полярной ночи», картой-наброском в этой книге, по которой шел Альбанов.
Взаимопомощь людей, связавших свою судьбу с Арктикой! Альбанов не вернулся бы на теплую землю, если бы не помощь Нансена, Джексона, Седова, – посланная ему в разные годы. А Цансену в свое время помогла, подсказала решение трагическая судьба американской полярной экспедиции Джорджа де Лонга: в сентябре 1879 года судно этой экспедиции «Жаннета» было зажато льдами возле острова Врангеля и начало свой двадцатиодномесячный дрейф в юго-западном направлении. Летом 1881 года «Жаннета» была раздавлена льдами. Экипаж по плавучим льдам пошел к Новосибирским островам, а затем на материк.
Многим, в том числе начальнику экспедиции, эта дорога стоила жизни, остальных спасли якуты. Через три года у берегов Гренландии были обнаружены некоторые вещи, принадлежавшие экспедиции де Лонга. Эта находка навела Нансена на мысль о существовании постоянного дрейфа льдов от берегов Сибири через Северный Ледовитый океан в Гренландское море. В результате он и предпринял свою экспедицию – дрейф через Полярный бассейн – на «Фраме».
Взаимопомощь людей, связавших свою судьбу с жестокой и все равно манящей Арктикой! Погибали и через много лет протягивали руку помощи другим, ступившим на их путь. Нет, ни одна смерть в суровых льдах не была напрасной. Нет! Это – как лестница, лестница человеческого познания, где почти каждая ступенька вверх оплачена жизнью. Но чем выше по этой лестнице, тем меньше жертв, потому что ранее погибшие своими открытиями, своими ошибками уже проторили тебе часть дороги и сегодня помогают найти правильное решение. Лестница человеческого познания, лестница освоения нашей маленькой, а когда-то кажущейся такой огромной, планеты, а теперь и – космоса.
И гибель «Святой Анны» не была напрасной, хотя ее капитан и не ставил перед экспедицией больших, научных целей. Канув в белую неизвестность, «Святая Анна» невольно открыла, протянув за собой по карте два природных явления, названных в честь ее «течением Анны» и «желобом Анны».
Волей трагических обстоятельств она попала в полярные области доселе совершенно неведомые человеку. В результате ее дрейф – от берегов Ямала по направлению к полюсу – в корне изменил представление о движении льдов в Полярном бассейне. Ее дрейф проходил как раз в тех широтах, где на картах красовалась предполагаемая «Земля Петермана», а чуть позже Альбанов со своими спутниками прошел, не обнаружив никаких признаков близкой земли, через другой красовавшийся на тогдашних картах архипелаг – «Землю короля Оскара». Существование этих полярных архипелагов, правда, уже было поставлено под сомнение итальянской экспедицией герцога Абруцкого и экспедицией Фиала, снаряженной на средства американского капиталиста Циглера, но вконец развеял эту легенду лишь ледовый поход Альбанова. Кроме того метеорологические наблюдения, проводимые на «Святой Анне», дали некоторые сведения о климатическом режиме по всему ходу дрейфа, а промеры глубин – представление о характере рельефа морского дна северной части Карского моря.
Но все это оказалось бы напрасным, кануло бы в вечность. Подвиг Валериана Ивановича Альбанова не только и не столько в том, что он, презрев смерть, смог вернуться на теплую землю, хотя это, несомненно, выдающийся подвиг, его подвиг и в том, что он принес к людям вахтенный журнал «Святой Анны» и записи метеорологических наблюдений за все время ее дрейфа вплоть до его ухода с корабля. Это не только позволило полностью восстановить все обстоятельства дрейфа «Святой Анны». В 1924 году Владимир Юльевич Визе, тщательно проанализировав все наблюдения, сделанные экипажем «Святой Анны», натолкнулся на любопытную особенность ее дрейфа в Карском море между 78-й и 80-й параллелями и между 72-м и 78-м мередианами. Здесь судно, дрейфовавшее в общем на север, отклонялось от направления ветра не вправо, как следовало из наблюдений Нансена, а влево. Отсюда Визе пришел к выводу, что эта особенность может быть объяснена лишь тем, что в указанных координатах находится суша. Владимир Юльевич нанес на карту ее предположительное местонахождение.
В 1930 году экспедиция на ледокольном пароходе «Г. Седов», в составе которой был и Владимир Юльевич Визе, обнаружила предсказанную сушу. Она по справедливости была названа островом Визе.
Научное значение экспедиции Брусилова и в самом дневнике Альбанова. «Дневник Альбанова – редкий и ценный человеческий документ, – писал позднее участник седовской экспедиции Н. В. Пинегин. – В историю полярных исследований занесено несколько случаев гибели целых экспедиций с большим количеством людей. Мы не знаем почти ничего об обстоятельствах, вызывавших и сопровождавших такие полярные трагедии. Альбанов своим рассказом приоткрывает завесу над причинами одной из таких трагедий и вместе с тем дает право сделать несколько обобщений и в вопросе о подчинении воле человека суровой, но богатой полярной природы».
Стараясь быть беспристрастным, я снова и снова думаю о взаимоотношениях Альбанова с Брусиловым. Ведь мы знаем все, что случилось между ними, лишь со слов одной стороны. Брусилов, канувший в неизвестность, ничего не может сказать ни в свою защиту, ни о том, почему он отказался покинуть «Святую Анну».
Несомненно, что Георгий Львович Брусилов был человеком смелым, энергичным, решительным.
Но несомненно и другое. Он не всегда соизмерял свои силы с возможным, был вспыльчив, самолюбив. Да, он был очень смелым, но эта смелость, непродуманная, не подкрепленная опытом, при определенных обстоятельствах становилась пороком. Стараюсь быть беспристрастным, но, видимо, нельзя не согласиться с фактом, что он – начальник экспедиции и командир корабля, и это в их положении самое страшное, – оказался психологически не подготовленным к тяжким испытаниям, которые преподнесла всем им судьба. При наличии на корабле более сильной индивидуальности, а такой, несомненно, был Альбанов, конфликт был неизбежен.
На первых порах все эти далеко не лучшие для тяжелого полярного путешествия черты не бросались в глаза, может, даже не замечались, но, обостренные тяжелой и продолжительной болезнью, приобрели галлюцинирующие формы: твердость превратилась в упрямство, смелость – в безрассудство, предприимчивость и энергичность – в унизительную мелочность.
После болезни Георгий Львович стал раздражительным, мнительным и капризным, его решения стали входить в противоречие со здравым смыслом, порой он, видимо, понимал это, но ничего уже не мог с собой поделать, взрывался по любому поводу, вместо того чтобы спокойно и строго обдумать создавшееся положение или дать возможность другим принять самостоятельное решение.
Вспомните его спор с Альбановым по поводу шлюпки, которую он предлагает, – впрочем, не предлагает, приказывает – Альбанову взять е собой в путь по торосистым льдам. Альбанов, хорошо знающий Север, кстати, потому и приглашенный Брусиловым стать старшим помощником и штурманом экспедиции, уверен, что строить нужно легкие нарты и каяки по типу эскимосских, которые можно бы легко перетаскивать по тяжелым торосам от одного разводья к другому. Брусилов же, срываясь на крик, не вдумываясь в реальность предлагаемого, скорее всего только ради принципа, приказывает брать тяжелую промысловую шлюпку, под которую, если ее брать в путь, нужно строить чуть ли не тракторные сани.
Или эпизод со снаряжением, которое Альбанов берет с собой в дорогу. Оно принадлежат Брусилову, как и все на корабле, и Георгий Львович мелочно и скрупулезно несколько раз пересчитывает его, составляет подробный список и просит Альбанова потом непременно вернуть снаряжение, вплоть до каяков и нарт, построенных Альбановым, которые за дорогу, разумеется, развалятся. Валериан Иванович еле сдерживается, чтобы не взорваться: можно было подумать, что они отправляются не в тяжелый путь, который еще неизвестно чем кончится, а на легкую прогулку.
Я привожу в качестве иллюстрации отрывок из «Записок…», кажется, единственный, неосторожно характеризующий Брусилова, потому что до этого и позже Альбанов всячески старался избегать давать оценки поступкам командира. Этот отрывок ярко характеризует состояние этого в свое время добродушного, благородного и смелого человека:
«Уже поздно вечером Георгий Львович в третий раз позвал меня к себе в каюту и прочитал список предметов, которые мы брали с собой и которые, по возможности, мы должны были вернуть ему. Вот этот список, помещенный на копии Судовой Роли:
2 винтовки Ремингтон, 1 винтовка норвежская, 1 двуствольное дробовое ружье центрального боя, 2 магазина шестизарядные, 1 механический лаг, из которого был сделан одометр, 2 гарпуна, 2 топора, 1 пила, 2 компаса, 14 пар лыж, 1 малица 1-го сорта, 12 малиц 2-го сорта, 1 совок, 1 хронометр, 1 секстан, 14 заспинных сумок, 1 бинокль малого размера.
Георгий Львович спросил меня, не забыл ли он что-нибудь записать. По правде сказать, при чтении этого списка я уже начинал чувствовать знакомое мне раздражение, и спазмы стали подступать к моему горлу. Меня удивила эта мелочность. Георгий Львович словно забыл, какой путь ожидает нас. Как будто у трапа будут стоять лошади, которые и отвезут рассчитавшуюся команду на ближайшую железнодорожную станцию или пристань. Неужели он забыл, что мы идем в тяжелый путь, по дрейфующему льду, к неведомой земле, при условиях худших, чем когда-либо кто-нибудь шел? Неужели в последний вечер у него не нашлось никакой заботы поважнее, чем забота о заспинных сумках, топорах, поломанном лаге, пиле и гарпунах? Мне казалось тогда, что другие заботы сделали его в последний день несколько вдумчивее, серьезнее… Я сдержал себя и напомнил Георгию Львовичу, что он забыл записать палатку, каяки, нарты, кружки, чашки и ведро оцинкованное. Палатка была записана сейчас же, а посуду было решено не записывать. «Про каяки и нарты я тоже не пишу, – сказал он, – по всей вероятности, они к концу пути будут сильно поломаны, да и доставка их со Шпицбергена будет стоить дороже, чем они сами стоили в то время. Но если бы вам удалось доставить их в Александровск, то сдайте их на хранение исправнику». Я согласился с ним.
Сильно возбужденный, ушел я из каюты командира вниз».
Альбанов, невольно дав оценку поведению Брусилова, старается быть до конца объективным и самокритичным, поэтому сразу же оговаривается:
«Сейчас, когда прошло уже много времени с тех пор, когда я спокойно могу оглянуться назад и беспристрастно анализировать наши отношения, мне представляется, что в то время мы оба были нервнобольными людьми. Неудачи с самого начала экспедиции, повальные болезни зимы 1912–1913 года, тяжелое настоящее положение и грозное неизвестное будущее с неизбежным голодом впереди, все это, конечно, создавало благоприятную почву для нервного заболевания. Из разных мелочей, неизбежных при долгом совместном жилье в тяжелых условиях, создавалась мало-помалу уже крупная преграда между нами. Терпеливо разобрать эту преграду путем объяснений, выяснить и устранить недочеты нашей жизни у нас; не хватало ни решимости, ни. хладнокровия, и недовольство все накоплялось и накоплялось.
С болезненной раздражительностью мы не могли бороться никакими силами, внезапно у обоих появлялась сильная одышка, голос прерывался, спазмы подступали к горлу, и мы должны были прекращать наше объяснение, ничего не выяснив, а часто даже позабыв о самой причине, вызвавшей их. Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы после сентября 1913 года мы хоть раз поговорили с Георгием Львовичем как следует, хладнокровно, не торопясь скомкать объяснение и разойтись по своим углам. А между тем, я уверен теперь, объяснись мы хоть раз до конца, пусть это объяснение сначала было бы несколько шумным, пусть для этого нам пришлось бы закрыть двери, но в конце концов для нас обоих стало бы ясно, что нет у нас причин для ссоры, а если и были, то легко устранимые, и устранение этих причин должно было только служить к всеобщему благополучию. Но, к сожалению, у нас такого решительного объяснения ни разу не состоялось, и мы расставались, хотя и по добровольному соглашению, но не друзьями».
И в такой вот обстановке нервозности, непонимания и даже скрытой враждебности Альбанов уходит с судна. Все это мешало хотя бы более или менее хорошо подготовиться к походу, а и без этого многого из снаряжения и продовольствия не хватало. Да и поджимало время. Давайте попытаемся представить Альбанова в последние дни на «Святой Анне».
Решение твердое, но все-таки не может не глодать сомнение: что ждет впереди? Сначала он решил уходить один. Это ведь только потом, видя его непреклонную решимость, к нему присоединятся другие. Любопытная, кое о чем говорящая деталь: с судна с ним уходила самая демократическая часть экипажа: матросы, кочегары…
Решиться уходить одному с еще не терпящего бедствие корабля, дрейфующего чуть ли не у самого Северного полюса! На такой шаг, несомненно, мог решиться или сумасшедший, или человек невероятнейшего мужества. Никто в истории освоения Арктики и Антарктики – ни до него, ни после – не собирался и не предпринимал подобное путешествие в одиночку.
Мало того, у него не было каких-нибудь мало-мальски годных карт района, по которому предстояло идти: «Мы тогда даже не были уверены в том месте, где мы находимся и где мы должны встретить землю. На судне у нас не было карты Земли Франца-Иосифа. Для нанесения своего дрейфа мы пользовались самодельной (географической) сеткой, на которую я нанес увеличенную карточку этой земли, приложенную к описанию путешествия Нансена. Про эту предварительную карточку сам Нансен говорит, что не придает ей серьезного значения, а помещает ее только для того, чтобы дать понятие об архипелаге Земли Франца-Иосифа. Мыс Флигели на нашей карте находился на широте 82 градуса 12 минут. К северу от этого мыса у нас была нанесена большая Земля Петермана, а на северо-запад – Земля короля Оскара. Каково же было наше недоумение, когда астрономические определения марта и первых чисел апреля давали наши места как раз на этих сушах и в то же время только бесконечные ледяные поля по-старому окружали нас».
На что же он все-таки надеялся?
Только на самого себя. Вы прочитали его «Записки…» взахлеб, торопясь – что же будет дальше?
Прочтите их еще раз – и не торопясь, вдумчиво. Проследите за его спокойными и, может быть, даже, с первого взгляда, холодными мыслями. Его ничто не может заставить хоть на мгновенье потерять самообладание. Его мужеству можно удивляться снова и снова. Откуда это – непоколебимое, что бы ни случилось, – спокойствие духа?
Его «Записки…» потрясают прежде всего простотой, чувством меры, которого порой не хватает и маститым литераторам, в них нет и тени трагического нагнетания. Но литературный талант – талантом, он несомненен (вспомните его «тройку» по русскому языку), главное в другом – их мог написать только человек очень мужественный, и не просто мужественный, а даже не подозревающий в себе этого качества, точнее, считающий его само собой разумеющейся чертой каждого, берущего на себя право называться мужчиной.
Нельзя без содрогания читать строки из дневника Альбанова о смерти Нильсена. Они потрясают прежде всего опять-таки своей мужественной простотой:
«К этой могиле был подвезен Нильсен на нарте, и в ней его похоронили, наложив сверху холм из камней. Никто из нас не поплакал над этой одинокой, далекой могилой, мы как-то отупели, зачерствели. Смерть этого человека не очень поразила нас, как будто произошло самое обычное дело. Только как-то странно было: вот человек шел вместе с нами три месяца, терпел, выбивался из сил, и вот, он ушел уже… ему больше никуда не надо… вся работа, все труды и лишения пошли насмарку. А нам еще надо добраться вон до того острова, до которого целых 12 миль. И казалось, что эти 12 миль такое большое расстояние, так труден путь до этого острова, что Нильсен просто не захотел идти дальше и выбрал более легкое. Но эти мысли только промелькнули как-то в голове, повторяю, что – смерть нашего товарища не поразила нас. Конечно, это не было черствостью, бессердечием. Это было ненормальное отупение перед лицом смерти, которая у всех лас стояла за плечами. Как будто и враждебно поглядывали теперь мы на следующего «кандидата», на Шпаковского, мысленно гадая, «дойдет он, или уйдет ранее». Один из шутников даже как бы со злости прикрикнул на него: «Ну, чего ты сидишь, мокрая курица! За Нильсеном, что ли, захотел! Иди, ищи плавник, шевелись!» Когда Шпаковский покорно пошел, по временам запинаясь, то ему еще вдогонку закричал: «Позапинайся ты у меня, позапинайся!» Это не было враждебностью к Шпаковскому, который никому ничего плохого не сделал. Не важен был теперь и плавник. Это было озлобление более здорового человека против болезни, забирающей товарища, призыв бороться со смертью до конца».








