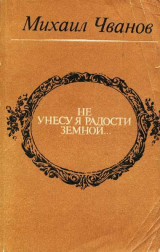
Текст книги "Не унесу я радости земной..."
Автор книги: Михаил Чванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Тысячи и тысячи людей болели и гибли от страшной и до конца еще не разгаданной болезни полярных стран – цинги. У человека начинают заплетаться ноги, выпадать зубы, на него наваливается апатия, слабеет воля. И врачи зачастую бессильны были против нее. Не избежал этой печальной участи и экипаж «Святой Анны», хотя на судне была доброкачественная витаминизированная пища и, казалось, не было никаких предпосылок к цинге.
Почти все переболели этой страшной болезнью. Среди нескольких минувших ее был Альбанов, признаки цинги были и у него, но он перенес ее на ногах. Он объясняет это тем, что занимался самолечением, а самолечение его заключалось в одном: держать себя в руках, не поддаваться унынию, которое сопровождает обычно начальную стадию цинги, а потому – двигаться, двигаться, двигаться. Он был беспощаден к себе, он был беспощаден к другим – ради их же блага. Впрочем, что я говорю: какого блага – он надеялся довести их до земли, к родным – к жизни, а пока они были между жизнью и смертью:
«Цинготных» у меня теперь двое: Губанов тоже заболел, и десны у него кровоточат и припухли.
Все лечение мое ограничивается тем, что посылаю их на лыжах искать дорогу, на разведку, даю на сон облатку хины, а Луняеву, кроме того, к чаю выдаю сушеной вишни или черники. Мне кажется, что цинга в этом начальном периоде выражается, главным образом, в нежелании больного двигаться. Не так страшна сама боль в ногах, как больной преувеличивает ее, не желая лишний раз пошевелиться и тем невольно становясь союзником начинающейся болезни.
Не знаю, конечно, может быть, я ошибаюсь, но это мне так представляется, и этот способ лечения, т. е. не давать залеживаться, единственный, которым я могу пользоваться, если не считать хину. Мне не раз приходилось слышать, что русские колонисты на Крайнем Севере с заболевшим своим товарищем поступают так: когда он уже отказывается двигаться, хотя особенной слабости по виду еще незаметно, то его берут насильно под руки и водят взад-вперед до тех пор, пока «доктора» сами не выбьются из сил.
Может быть, это жестокий способ лечения, но не надо забывать, что я говорю только про начальный период болезни, когда человек еще не утратил физической силы, но у него ослабевает энергия, нет нравственной силы».
Человек безграничного мужества, Альбанов не уважает, нет – презирает людей, которые не могут, нет – не хотят бороться за свою жизнь. Он считает, он уверен в этом, что нет безвыходных положений. И он не может понять своих спутников, которые мечтают лишь об одном: как бы при первом удобном случае поспать, увильнуть от работы. И в его дневнике появляются горькие строки:
«Я не берусь объяснять психологию этих людей, но одно могу сказать по личному опыту: тяжело, очень тяжело, даже страшно очутиться с такими людьми в тяжелом положении. Хуже, чем одиноко, чувствуешь себя. Когда ты один, то ты свободен. Если хочешь жить, то борись за эту жизнь, пока имеешь силы и желание. Если никто и не поддержит тебя в трудную минуту, зато никто не будет тебя за руки хватать и тянуть ко дну тогда, когда ты еще можешь держаться на воде. Не следует упускать из виду, что в данном случае «хватают за руки» не потому, что сами не могут «плыть», а потому, что не желают, потому что легче «плыть» держась за другого, чем самому бороться».
Отправляясь в трудный путь, Альбанов не выбирал себе спутников. С ним уходили все, кто желал, и он никому не мог отказать, каждый имел право на выбор, на жизнь, но когда путь стал особенно тяжелым, нашлись люди, которые были не прочь выжить за счет других, и Альбанов вынужден был стать жестоким:
«Но если я кого-нибудь поймаю на месте преступления, то собственноручно застрелю негодяя, решившего воровать у своих товарищей, находящихся и без этого в тяжелом положении. Как ни горько, но должен сознаться, что есть у меня в партии три или четыре человека, с которыми мне ничего не хотелось бы иметь общего».
В другой раз он взрывается, когда утопили предпоследнюю винтовку: «Это разгильдяйство, нерасторопность возмутили меня. К стыду своему, должен признаться, что не смог сдержать себя, и на этот раз кой-кому попало порядочно. Кто войдет в мое положение, тот не осудит меня. Это уже второе ружье, утопленное моими разгильдяями за время нашего пути по льду. Осталась только одна винтовка такая же… Остаться же в нашем положении без винтовки вряд ли захотел бы здравомыслящий человек».
Но был ли он на самом деле жестоким? Нет. Когда двое, почуяв землю, сбежали, забрав лучшее из одежды и продовольствия, забрав даже документы, уверенные, что оставшиеся непременно погибнут, все порывались сейчас же догнать их. Беглецы несомненно были бы убиты, но Альбанов остановил своих спутников. «Остановил не потому, что жалел ушедших, а потому, что погоня была бесполезна», – написал он в своем дневнике. Но все-таки это было не совсем так. Он не то чтобы жалел их, он не хотел расправы над ними, а сделать это прежде всего должен был он, если он человек слова. А может, и жалел. Потому что уже через день он заметил в бинокль беглецов, маячивших впереди, но не оказал об этом своим спутникам. А когда беглецов все-таки случайно настигли, он простил их.
Как я уже говорил, Альбанов в своих «Записках…» специально не называет фамилий беглецов. Но однажды я неожиданно подумал, не Конрад ли это был? Ведь он был самым деятельным из спутников Альбанова, другим было на все наплевать. И ведь именно он со Шпаковским все соблазнял Альбанова бросить каяки и нарты, чтобы добраться до Земли Франца-Иосифа налегке на лыжах. Он по нескольку раз в день заводил этот разговор, но Альбанов был непреклонен: конечно, легче всего до ближайшей суши добежать на лыжах, но он знал, что каяки и нарты будут нужны в дальнейшем, без них они просто-напросто пропадут.
Если это так, то Конрад вдвойне обязан Альбанову. Может быть, именно в этом и кроется его дальнейшая трогательная привязанность к Валериану Ивановичу: он переходит с ним с судна на судно, где бы Альбанов ни служил. Тогда Альбанов не только спас его от смерти, забрав со «Святой Анны», не только простил подлость, когда тот бежал, но и, поверив в него, заставил его внутренне переродиться.
Нет, это все-таки был не Конрад. И не Шпаковский. Иначе бы Альбанов позднее не мог написать о Шпаковском, когда того вконец стала скручивать цинга: «Это не было враждебностью к Шпаковскому, который никому ничего плохого не сделал».
…Но все же – на что Альбанов надеялся? Да – мужество, и не просто мужество, а граничащее с невероятным. Но всему есть пределы. Ну хорошо, дойдут они до Земли Франца-Иосифа, несмотря на свою никудышную карту! Ну если даже найдут базу Джексона! Но это ведь еще далеко не спасение! Видимо, он верил еще во что-то. Ведь этого мало, чтобы верить только в базу Джексона.
Да, верит. «Перезимуем на мысе Флора, – успокаивает он своих несчастных спутников, – а там можно будет подумать о Шпицбергене или о Новой Земле».
Он не теряет веры в спасение даже тогда, когда они остаются только вдвоем с Конрадом и в самом бедственном положении: мокрые, без одежды, без продовольствия, вместе с Луняевым и Шпаковским пропала их последняя винтовка. Он спокойно записывает в своем дневнике: «…по прибытии на мыс Флоры нам предстояло позаботиться об устройстве лука, стрел и различных капканов и силков. Мне приходилось читать в одном специальном официальном издании, что много лет тому назад партия русских промышленников, потерпевших крушение, высадилась на один из многочисленных островов архипелага Шпицберген, не имея никакого оружия. Эти робинзоны сравнительно благополучно прожили на острове в течение семи лет, добывая себе пропитание и одежду только охотой, для чего пользовались исключительно луками, стрелами и капканами. Впоследствии они были взяты с этого острова случайно попавшим туда судном. Этот случай заслуживает внимания».
Вот еще один пример взаимовыручки людей, связавших свою судьбу с суровым Севером. Русские поморы-мезенцы Инковы (в некоторых изданиях их фамилии искажены на Химковых), Шарапов и Веригин, мужественно встретившие беду в 1743 году, спасали и спасли не только свою жизнь. Своим мужественным примером они помогли полтора века спустя укрепить веру в спасение другому полярному мореходу, Валериану Ивановичу Альбанову, который, несмотря ни на что, тоже верил в возвращение на теплую землю.
Он выжил совсем не потому, что физически был сильнее своих спутников или ему везло больше других. Да, несомненно, в очередности, с которой смерть одного за другим, а то и по нескольку сразу, забирала его спутников, был и элемент случайности, но Альбанов выжил потому, что был сильнее их духовно, потому что хотел выжить, они робко мечтали об этом, а он хотел.
Человек! Все-таки странно и велико он устроен! Даже глупо – если подойти к этому вопросу с точки зрения обывательской, да почему обязательно обывательской – простой человеческой логики.
Шел человек много дней, недель и даже месяцев – два года! – к теплой земле, к жизни, не раз давал себе слово: «Ну, только бы выбраться! Только бы выбраться! Больше меня сюда не заманить никакими благами!»
Шел человек к жизни, к людям, ему это удалось – в числе двоих из двадцати трех. Шел я мечтал о теплых морях: «Если я благополучно вернусь домой, поступлю на службу куда-нибудь на Черное или Каспийское море. Тепло там… В одной рубашке можно ходить и даже босиком».
Пришел и, вопреки всякой человеческой логике, опять уходит работать на Север.
Ну разве это не глупо?! Ну, скажите, зачем, зачем ему снова был нужен Север?! Ну что бы – уже после всего этого-то – не остановиться: поехал бы на южное море, после опубликования «Записок…» он стал известным, дожил бы до внуков. Но ничто не могло его остановить: ни порка в детстве (а почему бы ему не стать инженером, в то время эта профессия была редка и почетна), ни отказ дяди в средствах на существование, когда он собирался поступать в мореходные классы, ни сам батюшка Север, суровый и даже жестокий. Альбанов опять вернулся к нему. Уже в 1914 году он снова в Арктике – плавает на ледорезе «Канада». Вместе с ним Конрад.
Впрочем, я не прав, бурный век вряд ли бы дал дожить ему до внуков.
Сестра милосердия
И еще одно, что меня глубоко волнует. Любил ли он? Был ли любим? Была ли у него семья?
В книге Н. Северина и М. Чачко «Дальние горизонты» я вычитал такую романтическую версию: Ерминия Александровна Жданко отдает уходящему со «Святой Анны» Альбанову пакет с просьбой отправить его, когда Альбанов доберется до земли, самому дорогому ей человеку: адрес указан на внутреннем конверте. В Архангельске Альбанов разрывает внешний пакет и обнаруживает, что письмо адресовано ему.
Конечно, все это очень заманчиво для романтического литературного сюжета, но никакими документальными данными или воспоминаниями эта версия, мне кажется, не подкреплена, хотя и вполне вероятна: если кто на «Святой Анне» и был достоин любви этой нежной и мужественной девушки, то прежде всего, конечно, Альбанов.
Может быть, это и было так. Не знаю.
Знаю твердо только одно, что сестра милосердия Ерминия Александровна Жданко была едва ли не самым мужественным человеком на «Святой Анне», хотя и совершенно случайно оказалась на ее борту. Приехала в порт проводить судно в дальнее плавание, не прибыл врач, уходило время, экспедиция была на грани срыва, и она решилась в эту в общем-то чуждую для нее дорогу.
Она, бесспорно, была едва ли не самым мужественным человеком на «Святой Анне». Когда на судне один за другим тяжело заболевали неизвестной болезнью, становились беспомощными и даже капризными, как дети, доселе сильные и благородные мужчины, она мужественно, несмотря на собственное недомогание, выхаживала их одного за другим, заставляла верить в выздоровление, стесняться своей немощи и духовной слабости. Особенно много хлопот приносил ей никто иной, как сам начальник экспедиции, до болезни изысканно вежливый и деликатный: «От капризов и раздражительности его страдала главным образом «наша барышня», Ерминия Александровна, неутомимая сиделка у кровати больного. Трудно ей приходилось в это время; Георгий Львович здоровый – обыкновенно изысканно вежливый, деликатный, будучи больным, становился грубым до крайности. Частенько в сиделку летели и чашки и тарелки, когда она слишком настойчиво уговаривала больного покушать бульона или каши. При этом слышалась такая отборная ругань, которую Георгий Львович только слышал, но вряд ли когда-нибудь употреблял будучи здоровым. Но Ерминия Александровна все терпеливо переносила и очень трудно ее было каждый раз уговорить идти отдохнуть, так как в противном случае она сама сляжет».
И добилась своего: благодаря ей, на судне не только никто не умер, все встали на ноги.
Несмотря на все невзгоды и лишения, которые выпали на ее долю, – а она была скорее всего самой молодой на судне, не считая, может, двух учеников мореходных классов, – в отличие от многих других членов экипажа, она ни разу не пожалела о том, что связала свою судьбу с этой трагической экспедицией. Несомненно, она тяжело переживала разлад между Брусиловым и Альбановым.
«На судне остаются, кроме меня и Е. А. Жданко, оба гарпунера, боцман, ст. машинист, стюарт, повар, 2 молодых матроса…», – занес Брусилов в «Выписку из судового журнала», которую Альбанов понес на теплую землю. Хотел Георгий Львович или случайно, но он подчеркнул этой записью свои особые отношения с Жданко. Может быть, она любила все-таки его, а не Валериана Ивановича и потому осталась на судне, решительно отказавшись уходить с Альбановым? Может быть, только потому она и вообще отправилась в плавание, ведь она приехала провожать, скорее всего, именно Брусилова?
Или Георгий Львович имел в виду просто их далекое родство?
Не знаю.
Если же все-таки Ерминия Александровна любила Альбанова, то тогда ее подвиг еще выше… Это был по-настоящему святой человек на «Святой Анне». Если она все-таки любила Валериана Ивановича! И, несмотря на это, осталась, зная, что нужна здесь, на судне. Кто-то же, по ее мнению, сильный, должен остаться на нем. Другой сильный – Валериан Иванович Альбанов – уходил, значит, должна остаться она.
После ухода Альбанова она, несомненно, оставалась на «Святой Анне» самым мужественным человеком. Правда, на судне оставался еще один сильный человек – добрый, отзывчивый, мужественный, но, к сожалению, не имеющий реальной власти. Это гарпунер Денисов. Как он старался примирить Брусилова и Альбанова! Как трогательно провожал уходящих в далекий и тяжелый путь: даже через несколько дней после их ухода три раза догонял с горячей пищей. Он неугомонен и неутомим, он способен ежедневно делать на лыжах верст по пятьдесят-шестьдесят. Он бы и еще несколько раз принес уходящим горячей пищи, но боялся потерять свои следы при передвижке льдов. В своих «Записках…» Валериан Иванович Альбанов неизменно вспоминает о нем с теплотой и отзывается как о самом деятельном и предприимчивом из всех оставшихся на судне.
Интересна его судьба, чем-то похожая на судьбу самого Альбанова. «Мальчишкой лет тринадцати удрал он из дома, откуда-то из Малороссии, не поладив с родными. Пробрался за границу в трюме парохода, много плавал на парусных и паровых заграничных судах и в конце концов попал на китобойные промыслы около Южной Георгии. Здесь он окончательно сделался норвежцем китобоем-гарпунером, по временам наезжая в Норвегию. Там он женился на норвеженке и находил, что в Норвегии жить можно нисколько не хуже, чем в России. Прослышав случайно, что Брусилов купил шхуну и собирается заняться китобойным промыслом на Востоке, он явился к нему, предлагая свои услуги, и поступил на службу на условиях гораздо худших, чем работал в Норвегии. Утешался он только тем, что наконец-то попал на русского китобоя. Несмотря на то, что Денисов устроился в Норвегии как дома, Россию он любил страстно, и попасть на русского китобоя было всегда его заветною мечтою. К сожалению, только их нет в России».
Но если она любила Альбанова, почему же не сказала ему о своей любви даже в такую минуту, когда знала, что вряд ли больше увидит его? Ничего не сказала, а написала письмо, если верить версии Северина и Чачко, которое он должен был вскрыть на теплой земле. Обыграла все безобидным обманом – чтобы он ничего не заподозрил:
– Валериан Иванович. Это письмо моему самому близкому человеку. Его адрес во внутреннем конверте. А этот, внешний, на случай, если пакет попадет в воду. Когда доберетесь до ближайшей почты, разорвите его, а внутренний отправьте, пожалуйста, по указанному адресу.
Почему же она так поступила, если все на самом деле было так?
Я долго ломал над этим голову, пока меня неожиданно не озарило: «Боже мой, до чего же все просто! Если бы она сказала, он бы не пошел к теплой земле, без нее бы не пошел, а она не могла пойти, потому что была нужна здесь– в белом безмолвии. Ведь она сестра милосердия!»
Какое точное и красивое имя носила прежде эта профессия: сестра милосердия!..
Когда «Святой Фока» с Альбановым наконец приполз к большой земле, две поисковые экспедиции на «Герте» и «Эклипсе» уже были в Северном Ледовитом океане. «Святую Анну» искали в Карском море. Альбанов, уже прочитавший письмо, если оно, конечно, было, при всем желании не мог попасть на них. Но было ли письмо и стремился ли он попасть в состав спасательных экспедиций? Ведь его опыт им был нужен, как ничей иной, но, как известно, его не было в числе экипажей «Герты» и «Андромеды», посланных Главным гидрографическим управлением в 1915 году на поиски «Святой Анны».
Ерминия Александровна Жданко, разделившая до конца участь экспедиции на «Святой Анне»! Я стараюсь ее представить на уходящем в святую вечность корабле среди бесконечных льдов, холода, голода, среди двенадцати физически и душевно больных мужчин. Сырая промозглая каюта, свет коптилки…
«При входе в помещение вы видите небольшое красноватое пятно вокруг маленького, слабого, дрожащего огонька, а к этому огоньку жмутся со своей работой какие-то силуэты. Лучше пусть остаются они «силуэтами», не рассматривайте их… Они очень грязны, сильно закоптели… Бедная «наша барышня», теперь, если вы покраснеете, то этого не будет видно под копотью, покрывающей ваше лицо!»
Но эти строки из «Записок…» Альбанова относятся к тому времени, когда Альбанов еще был на судне, когда все еще были увлечены работой, когда еще были дрова и продовольствие, когда еще не потухла надежда на спасение. А что было потом?
Об этом можно только догадываться. Эта мысль постоянно точила и Альбанова, и он писал в своих «Записках…»: «Как в белом одеянии, лежит и спит красавица «Св. Анна», убранная прихотливой рукой мороза и по самый планширь засыпанная снегом. Временами гирлянды инея срываются с такелажа и с тихим шуршанием, как цветы, осыпаются вниз на спящую. С высоты судно кажется гораздо уже и длиннее. Стройный, высокий, правильный рангоут его кажется еще выше, еще тоньше. Как светящиеся лучи, бежит далеко вниз заиндевевший стальной такелаж, словно освещая заснувшую «Св. Анну». Полтора года уже спокойно спит она на своем ледяном ложе. Суждено ли тебе и дальше спокойно проспать тяжелое время, чтобы в одно прекрасное утро, незаметно вместе с ложем твоим, на котором ты почила далеко в Карском море у берегов Ямала, очутиться где-нибудь между Шпицбергеном и Гренландией? Проснешься ли ты тогда, спокойно сойдешь со своего ложа, ковра-самолета, на родную тебе стихию – воду, расправишь широкие белые крылья свои и радостно полетишь по голубому морю на далекий теплый юг из царства смерти к жизни, где залечат твои раны, и все пережитое тобою на далеком севере будет казаться только тяжелым сном?
Или в холодную, бурную, полярную ночь, когда кругом завывает метель, когда не видно ни луны, ни звезд, ни северного сияния, ты внезапно будешь грубо пробуждена от своего сна ужасным треском, злобным визгом, шипением и содроганием твоего спокойного до сего времени ложа; с грохотом полетят вниз твои мачты, стеньги и реи, ломаясь сами и ломая все на палубе?
В предсмертных конвульсиях затрепещет твой корпус, затрещат, ломаясь, все суставы твои, и через некоторое время лишь кучи бесформенных обломков да лишний свежий ледяной холм укажут твою могилу. Вьюга будет петь над тобой погребальную песню и скоро запорошит свежим снегом место катастрофы. А у ближайших ропаков кучка людей в темноте будет в отчаянии спасать что можно из своего имущества, все еще хватаясь за жизнь, все еще не теряя надежды…»
Владимир Юльевич Визе, впоследствии детально рассчитавший дрейф «Святой Анны», был уверен, что все произошло, скорее всего, именно так, как это описал Валериан Иванович Альбанов. «Святая Анна» канула в белую неизвестность вместе со святой Ерминией Александровной Жданко, как вечный памятник мужества, любви, женской жертвенности и гражданского долга, как канул в вечность «Геркулес» Русанова, на борту которого врачом была тоже юная и прекрасная, горячо любящая женщина.
Трагический 1912 год, когда неведомые нам явления, происходившие где-то в глубинах космоса, сдвигали на нашей, тогда еще совсем мало изученной, планете полярные льды на теплую землю, ломали отважные человеческие судьбы, мечты и надежды.
1912 год. Год, когда над Арктикой витал, погибая и обретая вечность, дух мужества и жертвенной любви.
Несостоявшаяся встреча
И в заключение мне хочется рассказать еще о некоторых интересных фактах, связанных с трагической эпопеей «Святой Анны», а именно: о первых в мировой практике и малоизвестных полетах на самолете над Арктикой.
Вспомним: в 1912 году в Арктику ушли три русские экспедиции. Они были организованы на частные средства, и снаряжение их ни в коей мере не соответствовало тем большим задачам, которые эти экспедиции перед собой ставили. Все три экспедиции славно растворились в студеных туманах Северного Ледовитого океана. И только весной 1914 года организуются поиски, но крайне нерасторопно и как бы нехотя.
Впрочем, теперь легко говорить, что тогда нужно было делать и чего нельзя. Тогда же никому толком не было известно, где их искать, на пропавших судах не было радио, тогда еще не было настоящего ледокольного флота, и поиски велись вслепую. К тому же, – как это всегда бывает в таких случаях, – начальником экспедиции назначается не тот, кто действительно рвется спасать, а равнодушный служака, который никуда не торопится, который знает, что ему не прибавится орденов от того, спасет он или не спасет этих людей.
А их еще можно было спасти. Еще наверняка кто-то был жив из экипажа «Геркулеса», еще не все палубные надстройки и каюты были сожжены на «Святом Фоке», еще шестеро из четырнадцати – а не двое – было в отряде Альбанова, еще не канула в неизвестность «Святая Анна». Но начальник экспедиции капитан Ислямов долго не соглашается грузить на пароход гидросамолет лейтенанта (еще одного лейтенанта!) Яна Нагурского, решившегося совершить поисковые полеты над Арктикой:
– Напрасная затея, только место занимает ваша игрушка. Там, на Севере, на собаках не пройти, а вы летать вздумали, чепуха все это.
Впрочем, сначала летчиков было трое, но один из них, увидев Север, даже не стал собирать свою машину. Подполковник Александров разбил свой «фарман» при первой же попытке подняться в воздух, и Нагурский остался один.
Любопытно, что судьба Нагурского тесно связана с судьбой великого русского летчика Петра Николаевича Нестерова. Не предполагая, что судьба сведет их вместе, пехотный поручик Нагурский служит в Хабаровске, а артиллерийский поручик Нестеров во Владивостоке. Оба в один год уезжают с Дальнего Востока, каждый мечтает о небе. В аэроклубе в Петербурге Нагурский и Нестеров знакомятся. Нагурский уже допущен к полетам, Нестеров же пока вынужден заниматься теорией полета. Он говорит о необходимости крена самолета при развороте, что тогдашним летчикам казалось невероятным. Через год они вместе поступают в авиационный отдел офицерской воздухоплавательной школы, но в группе авиаторов Нестерову не хватает места, помимо его желания его зачисляют в аэростатическую группу. Нагурский делится с ним своими впечатлениями о полетах и первым в мире выполняет разворот «по-нестеровски» – с креном крыла.
…И вот наконец корабли спасательной экспедиции идут на север. Они ищут пропавших в Карском море, Нагурский же собирается начать свои первые в мире полеты над Арктикой с Панкратьевых островов на северо-запад. Он знает, куда полетит – к Земле Франца-Иосифа. Интуитивно он чувствует, что лететь нужно именно туда, словно знает, что сейчас по этим обледенелым островам идут, падают и ползут оставшиеся из отряда Альбанова, а чуть севернее дрейфует «Святая Анна». Но пароход зафрахтован только до Новой Земли, и капитан дальше идти отказался, и, скрепя сердце, Нагурский опускает самолет на воду здесь, а драгоценное время уходит.
22 июля он поднял свой самолет в воздух, но заболел механик Кузнецов. 21 августа Нагурский наконец вылетает в сторону Земли Франца-Иосифа, но из-за непогоды вынужден сесть у Панкратьевых островов. При посадке получает пробоину в поплавке. Ожидание парохода – у дымных холодных костров из плавника. Нагурский смотрит желтую, задумчивую игру огня и не подозревает, что всего в двухстах километрах от него на траверсе мыса Адмиралтейства тащится к жизни «Святой Фока» с седовцами и Альбановым.
Нагурский смотрит в задумчивое пламя костра и не подозревает, что сегодня, двадцать шестого августа, погиб в бою, совершив воздушный таран, Нестеров. В норвежской избушке на Панкратьевых островах найдена записка уже давно ушедшего в мир иной Седова, что на пути к полюсу он сделает остановку на Земле Франца-Иосифа, на мысе Флора, и Нагурский просит капитана пришедшего за ним парохода подбросить его к этому архипелагу, чтобы оттуда организовать полеты дальше на север. Теперь мы знаем, что эти полеты могли бы спасти «Святую Анну», а может, и экспедицию Русанова, но – старая история: пароход зафрахтован только до Панкратьевых островов, и, отчаявшись, Нагурский поднимает в воздух свой самолет отсюда, мало веря в успех, в сторону Земли Франца-Иосифа. Он ушел от земли на немыслимое в то время расстояние – на сто километров: внизу плывут обледенелые острова Земли Франца-Иосифа, где-то чуть севернее гибнет «Святая Анна», но нужно возвращаться назад, горючее на исходе.
Мир уже опутан войной, и поиски пришлось прекратить – Нагурского отзывают на фронт.
Вернувшись с Севера, он представил морскому ведомству рапорт, в котором есть такие строки: «Прошлые экспедиции, стремящиеся пройти Северный полюс, все неудачны, ибо плохо учитывались силы и энергия человека с тысячеверстным расстоянием, которое нужно преодолеть, – полное преград и самых тяжелых условий. Авиация, как колоссально быстрый способ передвижения, есть единственный способ для разрешения этой задачи».
Нагурский сам мечтает о полюсе, но война есть война. В памяти летчиков еще жива мертвая петля Нестерова, но о ней больше говорят как о красивом трюке, который вряд ли кто повторит, тем более на самолетах других типов.
Но Нагурский считает иначе. В перерыве между боев он собирает своих друзей и садится в самолет. И над изумленными однополчанами 17 сентября 1916 года впервые в мире делает мертвую петлю на гидросамолете.
Друзья бегут поздравлять его, но он останавливает их:
– Я только исполнил то, что давно доказано Нестеровым, и горжусь тем, что имел счастье лично знать этого замечательного летчика и чудесного человека.
Таким был первый в мире поднявшийся на самолете над Арктикой, первый из летчиков, дерзнувший оторваться от суши и уйти далеко в Полярный бассейн.
Вторым был известный советский летчик Борис Григорьевич Чухновский. Вот что он писал о своем предшественнике: «Полеты Нагурского – свидетельство большого мастерства и необычайной смелости. В наши дни, когда авиация достигла невиданных вершин техники, кажутся невероятными полеты над льдами Арктики, по существу на авиетке (самолет Нагурского весил 450 килограммов, мощность двигателя 70 лошадиных сил, скорость 90 километров в час) без знания метеообстановки на трассе, без радиосвязи, с ненадежным мотором, без наземного обслуживания и, что, пожалуй, самое существенное, – без приборов слепого полета, отсутствие которых грозит любому самолету срывом в штопор или падением после вхождения в туман или облачность, то есть во всех случаях потери летчиком видимого горизонта».
Как сложилась дальнейшая судьба Яна Иосифовича Нагурского? В 1917 году он был сбит над Балтийским морем. Это подтверждает Большая Советская Энциклопедия, где, правда, искажено имя летчика: «Нагурский Иван Иосифович (1883–1917)».
Но утверждение: не верь глазам своим, – к счастью, иногда бывает справедливым. Писатель Ю. Гальперин несколько лет назад встретился с Яном Иосифовичем Нагурским в Варшаве. Оказывается, что тогда около сбитого самолета его подобрала русская подводная лодка. После революции Нагурский решил съездить на родину – в Польшу, но тут началась гражданская война. Вернуться в Россию было невозможно. В различных анкетах и документах тогдашнего времени в графе «воинское звание» Нагурский неизменно писал: «нижний чин», иначе как кадрового офицера бывшей царской армии его бы непременно заставили воевать против Советской России…
Я смотрю на карту Северного Ледовитого океана и думаю о несостоявшейся встрече Альбанова и Нагурского. О чем бы они говорили?
Их встреча так и не состоялась, хотя и сегодня они совсем рядом: на острове Гукера Земли Франца-Иосифа один из мысов носит имя Альбанова, а на острове Александры – Нагурского. Впрочем, рядом и мыс Ерминии Александровны Жданко, и Конрада, и ледовый купол Брусилова. Все они там – некогда ушедшие со «Святой Анны» на теплую землю, со временем снова вернулись в страну белого безмолвия, чтобы разделить с товарищами по славным подвигам и несчастью вечность и память потомков.
Потом я смотрю в окно. Прошел дождь. Полдень. Под желтыми кленами, вороша палые листья, задумчиво бредет мальчишка с ранцем за спиной. Кем он станет? И я снова невольно думаю о Валериане Ивановиче Альбанове, душа которого для меня по-прежнему осталась загадкой. Помогите мне: если кто-нибудь из вас знает о нем, о его спутниках, родственниках больше, чем я, напишите мне, пожалуйста! Я буду вам очень благодарен.
* * *
Когда очерк уже был подготовлен к печати, пришло письмо из Астрахани от дочери Александра Эдуардовича Конрада Тамары Александровны Колесник. Мне помогли отыскать ее сотрудники Астраханского областного адресного бюро. С волнением я вскрыл конверт. Тамара Александровна писала:








