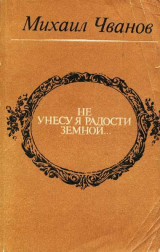
Текст книги "Не унесу я радости земной..."
Автор книги: Михаил Чванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
«Боюсь, что мало чем смогу вам помочь. Про Валериана Ивановича Альбанова я знаю только по рассказам отца, я родилась в 1923 году. По его словам, это был человек огромной силы воли, чуткий к своим друзьям, энергичный, смелый, с обостренным чувством справедливости. Папа говорил, что таких людей он больше не встречал в своей жизни, что равных ему нет и вряд ли будут.
Валериан Иванович бывал у нас дома, они с папой были очень большими друзьями. Папа родился в 1890 году в Риге, он хорошо знал немецкий и английский языки, страшно любил море. Он не представлял жизни без моря. Это прежде всего их, видимо, и сдружило, а потом и та ужасная дорога. Они потому и выжили, что сильнее других были духом. Папа плавал всю свою жизнь, более тридцати лет, в советское время – механиком на судах Совторгфлота. Он был очень уважаемый человек, и его портрет всегда был на доске Почета.
В 1940 году летом папа заболел плевритом и, проболев полтора месяца, умер. Хоронил его весь Совторгфлот. За два-три дня до смерти его к нам пришли из Музея Арктики и Антарктики и просили подробно рассказать об Альбанове, но папа уже не мог говорить и часто терял сознание. Тогда они попросили, чтобы мы отдали его вещи в музей. Мама отдала дневник, который папа вел, и все фотографии Альбанова, которые у нас были.
Когда я бываю в Ленинграде, то обязательно захожу в музей и вижу портрет Альбанова, а рядом – портрет папы, а под стеклом его дневник.
Если будут какие-нибудь вопросы, пишите. Постараюсь ответить».
Я тут же, авиапочтой, среди других вопросов задал Тамаре Александровне не дававший мне покоя вопрос: «Была ли семья у Альбанова? Был ли женат во время той трагической экспедиции Александр Эдуардович?» Это было для меня очень важно. Это многое говорило об их характерах. Какими они уходили в ту жестокую дорогу?
Тамара Александровна тут же ответила: «Альбанов был женат, но детей, насколько я знаю, у них не было. Отец женился в 1910, мой брат родился в октябре 1912 года (он погиб в 1942 году в Великую Отечественную войну, мама умерла в блокадном Ленинграде)».
Теперь становится еще более очевидной зыбкость версии Северина и Чачко. Впрочем, то, что Альбанов был женат, нисколько не мешало Ерминии Александровне Жданко полюбить его. Если это все-таки так, тогда даже понятнее становится, почему она не сказала ему о своем чувстве, а только при прощании отдала письмо.
А Конрад! Можно представить, как он любил море, если уходил в такое плавание, ожидая своего первенца. Он увидел его, когда тому исполнилось уже два года…
А недавно я получил письмо из Государственного архива Красноярского края:
«В документальных материалах архивного фонда Красноярского Совета имеется письмо губернского исполкома в военный отдел от 18 мая 1918 года следующего содержания: «Исполнительный комитет предлагает Вам предъявителю сего Альбанову В. И., моряку военного флота, для нужд Гидрографической экспедиции выдать паровой котел и машину во временное пользование».
Других сведений о полярном исследователе В. И. Альбанове не обнаружено. Обнаружены сведения о его сестре, Альбановой Варваре Ивановне, которая работала старшей воспитательницей в доме матери и ребенка г. Красноярска».
Как много важных сведений в этом коротком с виду письме! Во-первых, оно развеивает сомнения некоторых об участии Валериана Ивановича Альбанова в гражданской войне, точнее, на чьей стороне он в ней участвовал. Во-вторых, становится известно, что в Красноярск он переехал не один, а с семьей, забрал с собой и сестру, которая, очевидно, была моложе его. Будучи сиротой, она посвятила свою жизнь другим сиротам.
Жива ли она? Живы ли ее родственники? Что стало с женой Валериана Ивановича Альбанова? К сожалению, письмо из Красноярского архива на эти вопросы не давало ответа. Нужно опять ждать. Надо же, в Красноярске я был несколько раз, если бы знать раньше!
К письму из архива была приписка: «Одновременно рекомендуем обратиться в Иркутск к Яцковскому Алексею Иосифовичу, который занимается изучением жизни и деятельности Альбанова».
Алексей Иосифович Яцковский? Почему-то мне знакома эта фамилия. Откуда она мне знакома? Я долго ломал над этим голову, но так и не мог вспомнить. Недавно, возвращаясь в очередной раз с Камчатки, при посадке в Иркутске я пытался дозвониться до Алексея Иосифовича, но выяснилось, что он в отъезде: то ли в Москве, то ли в Ленинграде, будет дома только глубокой осенью, и опять я думал: откуда так знакома мне эта фамилия?
А потом неожиданно, как это всегда бывает, вспомнил: да наши пути ведь уже пересекались, ведь это он в свое время с группой альпинистов смог покорить на Камчатке до тех пор неприступную, забитую льдом вершину Корякской сопки!
И я с нетерпением ждал письма от Алексея Иосифовича. Я был уверен, что он знает о Валериане Ивановиче Альбанове то, чего не знаю я.
Но, увы – его ответ (Алексей Иосифович в последние годы работал старшим инженером лаборатории ионосферных исследований Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распределения радиоволн АН СССР, сейчас – пенсионер) был неутешительным:
«Да, Варвара Ивановна Альбанова в течение пятидесяти лет безвыездно жила в Красноярске – жила очень скромно, даже чрезмерно скромно, довольствуясь малоденежной работой по линии детских учреждений. Умерла в 1969 году. (Надо же – я был в Красноярске летом 1968 года! В промежутке между самолетами целые сутки бесцельно болтался по городу!). Я видел дом, в одной из комнаток которого одиноко, не будучи замужем, она жила. Я видел кое-что из ее вещей, которые «расползлись» по соседским рукам. В частности, видел небольшой сундучок, который, как мне рассказывали сослуживицы Альбановой, был привезен Валерианом Ивановичем еще из Петрограда, когда он привез на Енисей свою мать и двух сестер. По рассказам, вторая сестра умерла в 1919 году от тифа, мать – в начале 30-х годов (имена неизвестны). Содержимое того сундучка – как хлам – выбросили или сожгли. Есть предположение, что среди бумаг, которые находились в заветном сундучке Варвары Ивановны, было кое-что и весьма интересное, возможно, некоторые бумаги или даже дневники Валериана Ивановича. Впрочем, тут нужна оговорка: по рассказам сослуживицы Варвары Ивановны, которая с ней была особенно дружна, кто-то когда-то взял у Варвары Ивановны какие-то ценные бумаги, что-то пообещал, – она не помнит, кто, когда, что, – но так и не выполнил своего обещания…»
На днях, уже читая корректуру этой книжки, я получил новое письмо от Алексея Иосифовича: «Найти место, где похоронен В. И. Альбанов (если он был «нормально» похоронен), – дело почти безнадежное. Вот что ответил на мой запрос краевед из Ачинска М. И. Павленко: «…в 1919 году на станции Ачинск-1 взрывы были, снимали с поездов и больных тифом, умерших или замерзших. Недалеко от станции на пустыре был устроен тифозный барак, а около него – яма, куда хоронили умерших или погибших при взрывах. Лет десять назад, при строительстве железнодорожной больницы, это «кладбище» было обнаружено. Старожилы подтвердили, что в эту яму хоронили собранные трупы погибших при взрывах и умерших от тифа. Я побывал в ЗАГСе. Книги похороненных за 1919 год не нашли…»
История, случившаяся с „Гнедыми стихами“
Я не слыхал роднее клича
С детских лет, когда вдали
По заре степной, курлыча,
Пролетали журавли.
……
Вот вчера, в час вешней лени
Вдруг на небе, как штрихи,
И от них такое пенье…
Будто вновь Сергей Есенин
Мне читал свои стихи.
В. Наседкин
«Почти у каждого из нас есть заветная сторона, вторая родина – где ты, может быть, никогда не был, но, как и на родине, знаешь каждую тропинку, каждый ручеек, спрятавшийся в тени кустов. У одних это Михайловское, у других – Таруса, у третьих – Кинешма…
Я бы везде хотел быть, но больше всего я люблю Рязанщину. Я никогда ее не видел, но эта грустная и звонкая сторона стала для меня второй родиной. Своей любовью к ней я обязан Есенину. Он, а потом Паустовский, помогли мне увидеть и по-настоящему полюбить красоту средней полосы России. Экзотика поражает, но скоро приедается. Все великое просто, зачастую неприметно.
Я тоскую по Рязани и часто вижу ее во сне. Каждый год я собираюсь туда поехать – и обязательно в сентябре. Я даже знаю, как это будет: я сойду на каком-нибудь тихом полустанке, заброшу за спину тощий рюкзак и пойду березовыми лесами, вслушиваясь в шорох жухлой травы. Буду всматриваться в холодную воду стариц, пахнущую тиной, и спать в ворохах листьев или в стогах сена.
Но каждый раз мне что-нибудь да мешает поехать в Рязань…»
Эти строки я написал несколько лет назад после поездки на северо-восток Башкирии, в Мечетлинский район. Была лучшая в году пора – бабье лето, и, очарованный тихим и желтым от тишины краем, я писал: «…мне казалось, что никакой Рязани и не существует, и писал Есенин совсем не о ней, а об этих вот мечетлинских перелесках, о здешних кобылах, ржущих в синюю стынь, о разбойничьем посвисте башкирских ветров, о золоте здешних полей».
Признаюсь: тогда за этими строчками ничего не стояло, ну, может быть, более или менее удачный художественный образ. Тогда я даже не подозревал, что в них была большая доля правды.
Если я скажу, что прообразами великим есенинским «Письмам» – к матери («Ты жива еще, моя старушка…»), от матери, к деду – послужили не только мать самого Есенина и рязанское село Константиново, но и в какой-то степени мать-крестьянка из башкирских степей и деревня Веровка, затерявшаяся в этих степях, – несомненно, кое-кто назовет меня сумасшедшим. Но прошу вас: не торопитесь с выводами.
Один из друзей подарил мне в день рождения сборник стихов, вышедший несколько лет назад в издательстве «Советская Россия». Назывался сборник «Ветер с поля». Имя автора – В. Наседкин – мне было незнакомо. Я положил книгу на полку и на время забыл о ней. Но как-то, собираясь в командировку, вспомнил и взял с собой.
В вагоне раскрыл книгу:
Вражду и дружбу обойдя,
Спокойно провожая лето,
Я песню древнюю дождя
Сегодня слушал до рассвета.
С рассветом дождь ушел в зарю,
И где-то тонко пела просинь…
Стихи были несколько грустные, но в то же время какие-то очень безыскусные, чистые, сочные:
И мирный свет, и шорох древней воли.
В ногах – земля, и месяц – под рукой.
Глухой костер в туманно-синем поле
И долгих песен эхо над рекой.
Взгляд грустного смущения и боли
И горького раздумья над строкой.
Горит костер в туманно-синем поле,
Сжигая эхо песни над рекой.
Или вот еще одно, совсем короткое, но удивительно большое по мысли:
Ребенок я – и степь как бубенец.
Я – юноша. Минута и – отец.
И вот теперь я под руку с бедой
Пред целым миром голый и седой.
Но вдруг в стихах начинала звенеть торжественная и немного тревожная медь:
Я посмотрел на запад. Там
В батальных, но высоких красках
Стояло небо. Словно где-то
Горели яро хутора
И в дым пылающих построек
Ржал ветер и бросал их пламя
В седую высь. А между тем
Все было очень сонно, глухо,
Как в старой сказке иль в краю,
Далеком и забытом всеми.
……..
Закат блистал. Кровавым светом
Он пробуждал тревогу, ту,
Знакомую, с которой жили
Когда-то мы не день…
И вот
Услышал я: восток и юг
Вдруг превратились в гулкий топот,
Безмерно частый. И оттуда
На запад, пенясь и хрипя,
Спешили конные полки,
Знамена смерти развевая.
А вот эти, космические стихи, написаны в 1924 году. Почти 9 лет по России металась война, в стране разруха, и мозги миллионов голодных людей сверлила мысль о хлебе насущном:
Дорогой неотмеченной, разбитой,
Плывет земля, как миллионы лет,
А с ней и мы по вогнутой орбите,
Напоминая скопища планет,
Смешных планет, как птицы у застрехи,
И слепо пропускающих во тьму
Вселенские сторожевые вехи.
Не это ль горько сердцу моему,
Что на пути великом и безмерном,
Ведем себя, как у двери пещерной?
Потом было еще одно стихотворение – о простом и великом обычае: демобилизующимся
фронтовикам-красноармейцам перед торжественно выстроившимся полком взамен винтовки вручают косу.
Поэт заинтересовал меня, но была досада, что я ничего не знал о нем раньше. Заглянул в предисловие, оказалось, вина моя не столь велика: первый его посмертный сборник вышел в свет только в 1960 году. И еще в предисловии, написанном поэтом Николаем Рыленковым, я прочел: «Сын хлебороба из воспетой Аксаковым Уфимской губернии».
«Сын хлебороба из воспетой Аксаковым Уфимской губернии?» Это уже интересно. Вернувшись в Уфу, нашел в библиотеке сборник поэта, вышедший в свет в 1960 году. В предисловии, написанном П. И. Чагиным, который, как известно, был одним из лучших друзей Сергея Александровича Есенина, читаю:
«В двадцатых и в начале тридцатых годов довольно часто можно было встретить на страницах наших литературных журналов стихи за подписью: В. Наседкин. Они привлекали внимание теплом, душевным лиризмом, высоким пафосом любви к родной природе, к ее степным и лесным просторам, к сини ее неба и рек, к ее ветрам, к красоте ее утренних рассветов и закатов… Любимым пейзажам вторили в его стихах воспоминания о детстве, проведенном в деревне… Наседкин считался в начале двадцатых годов одним их лучших, способнейших учеников в Литературном институте, которым руководил Валерий Брюсов. Это отмечал и сам В. Брюсов, внимательно следивший за творческим ростом молодого поэта, и С. Есенин, его старший собрат ив то же время, можно сказать, крестный отец».
А еще в предисловии я прочел:
«Родился Василий Федорович Наседкин в 1894 году в деревне Веровка бывшей Уфимской губернии. После сельской школы учился в Стерлитамаке в четырехгодичной учительской семинарии».
Снова, только уже другими глазами – глазами земляка – вчитываюсь в стихи. Почти в каждом узнаю Башкирию. Но одно стихотворение – «Гнедые стихи» – вызывало странное чувство. Темой, душевным настроем оно очень уж напоминало знаменитый есенинский цикл «Писем» в деревню и из деревни.
Вот это стихотворение:
Написал мне отец недавно:
«Повидаться бы надо, сынок.
А у нас родился очень славный
В мясоед белоногий телок.
А Чубарка объягнилась двойней,
Вот и шерстка тебе на чулки.
Поживаем, в час молвить, спокойно,
Как и прочие мужики.
А еще поздравляем с поэтом.
Побасенщик, должно, в отца.
Пропиши, сколько платят за это,
Поденно аль по месяцам?
И если рукомесло не плоше,
Чем, скажем, сапожник аль портной,
То обязательно присылай на лошадь,
Чтоб обсемениться весной.
Да пора бы, ты наш хороший,
Посмотреть на патрет снохи,
А главное – лошадь, лошадь!
Как можно чаще пиши стихи».
Вам смешно вот, а мне – беда:
Лошадьми за стихи не платят.
Да и много ли могут дать,
Если брюки и те в заплатах.
Но не в этом несчастье, нет, —
В бедноте я не падаю духом, —
А мерещится в каждый след
Мне родная моя гнедуха.
И куда б ни пошел – везде
Ржет мне в уши моя куплянка,
И минуты нельзя просидеть —
То в телеге она, то в рыдванке.
И, конечно, стихи – никак.
Я к бумаге, она – за ржанье.
То зачешется вдруг о косяк.
Настоящее наказанье!
А теперь вот, когда написал,
Стало скучно: молчит гнедуха,
Словно всыпал ей мерку овса
Иль поднес аржаную краюху.
Но в написанном ряде строк
Замечаю все те же следы я:
Будто рифмы, – копыта ног,
А стихи на подбор – гнедые.
Снова перечитываю те и другие стихи. Сходство между ними несомненно. К тому же оба написаны в одно время – в 1924 году. Что это? Слепое подражание Есенину?
Начинаю перечитывать все написанное о Есенине: воспоминания, письма его друзей, критические статьи, письма самого Есенина. Безуспешно. Фамилия Наседкина иногда встречалась, но просто в перечислении других фамилий. Много раз мне попадала на глаза известная фотография 1925 года: «Слева направо: В. Наседкин, Е. Есенина, А. Есенина, А. Сахаров, С. Есенин, С. Толстая». Но и она не давала ответа на возникший вопрос, хотя надежду подогревала: фотография-то семейная, значит, Есенина и Наседкина связывали более крепкие узы, чем просто знакомство? Снова, еще более внимательно, перечитываю воспоминания людей, сфотографировавшихся вместе с Есениным. И вот у сестры его, Екатерины Александровны, нахожу:
«В начале 1924 года в журнале «Красная новь» Наседкин встретился с Есениным и тут же был приглашен к нему на обед. Я сестра С. А. Есенина, меня не удивило новое лицо за нашим обедом, но удивило другое: этот поэт, товарищ Сергея по университету Шанявского и ровесник его, явно стеснялся Есенина, когда читал ему свои стихи. Лицо его покрылось красными пятнами. Сергей сидел, опустив низко голову, чтобы не смущать товарища, и хвалил стихи Наседкина, особенно стихотворение «Гнедые стихи»… Есенин почти три года не был в своей деревне. «Я последний поэт деревни» – было его прощальное стихотворение. Но, черт возьми, деревня-то жива! Встреча с Наседкиным очень обрадовала Есенина, и одна из первых работ его после встречи с Наседкиным называлась «Письмо к матери»: «Ты жива еще, моя старушка…». Форма писем в стихах Есенина навеяна Наседкиным».
А вот еще несколько строк из ее воспоминаний, которые еще сильнее заставили биться мое сердце:
«Наседкин был самым близким другом для Есенина. Встречи и разговоры с ним давали возможность лучше и острее чувствовать прошедшие годы революции и все события тех лет».
Талантливый советский поэт, близкий друг Есенина, к тому же еще человек, которому мы все в какой-то степени обязаны тем, что был написан целый цикл стихов великого поэта, – наш земляк?
Немедленно же найти эту деревню, в которой Есенин никогда не был, но может, только благодаря которой и появились его удивительные стихи. С линейкой – сантиметр за сантиметром – изучаю карту Башкирии: ни в одном районе республики деревни Веровки нет. Десятки Александровой Михайловок, Ивановок – и ни одной Веровки. «Учился в Стерлитамаке» – значит, скорее всего, нужно искать где-то недалеко от этого города. К тому же вокруг Стерлитамака, особенно южнее его, больше всего деревень с подобными названиями: Варварино, Дарьино, Татьяновка, Ульяновка… Звоню в Стерлитамак, Мелеуз, Ишимбай, Федоровку, в другие районные центры – нет такой деревни.
Остается одна надежда – искать на старых картах. Может быть, в последние годы деревни не стало, и все забыли о ней. Так и есть: на старой карте Башкирии мелким шрифтом на территории Федоровского района, почти на границе с Мелеузовским, на речке Сухайле – Веровка.
Снова звоню в Федоровку:
– На старой карте в вашем районе нашел деревню Веровку.
– Правда?.. Тогда подождите, выясним. Через час позвоним.
И вот долгожданный звонок:
– Да, оказывается, есть. По крайней мере пять лет назад была, а потом все разъехалась.
Но говорят, что вроде бы несколько семей там еще живут…
В оставшиеся перед отъездом в Веровку вечера сижу в республиканской библиотеке – перелистываю десятки книг, старых журналов и газет, в которых надеюсь что-нибудь найти о Наседкине. За темным окном то ветер, то льет дождь. Я собираю по крупицам страницы случайно рассыпанной человеческой жизни. То ветер, то дождь. Все мы тысячи раз в своей жизни видим дождь, но только один человек из тысяч смог увидеть его вот таким:
Где-то далеко сети
Дождь распустил (как снится!).
Это танцуют дети,
Те, что должны родиться.
И уже только за это мы должны ему быть благодарны. Отдельные крупицы, скупые и отрывочные, чаще всего случайные, разорванные дустотой сведения, которые мне удалось узнать от людей, лично знавших Василия Наседкина, найти в воспоминаниях о Есенине, в письмах его современников, в книге самого Наседкина «Последний год Есенина», изданной в 1927 году и ставшей теперь библиографической редкостью, – нанизываю на спицу давно улетевшего времени.
Василий Федорович Наседкин родился, как и Есенин, в 1895 году 13 января. (П. И. Чагин, указывая 1894 год, имел в виду старый стиль). И тоже в крестьянской семье. Дружил с башкирскими ребятишками, потому свободно говорил по-башкирски. Очень хотел учиться, но в семье он был самый младший и единственный сын (кроме него были четыре сестры), и отец не хотел его отпускать от себя. Тайком-бегал в приходскую школу, с завистью смотрел на своих счастливых сверстников. Видя это, сельский учитель пришел к отцу: «Раз не пускаешь в школу, пусть приходит заниматься ко мне домой, он у тебя очень способный». Поломался отец, поломался, в конце концов согласился. Так Василий Наседкин окончил приходскую школу.
Ему хотелось учиться дальше, но отец отказал в средствах на обучение. Тогда Василий ушел из дому. Как говорят в народе, «пошел по людям». Получил прозвище – Василий-Кульмяк (по-башкирски кульдяк – рубаха), потому что кроме длинной рубахи, сшитой из грубой мешковины, ничего у него не было.
Жил впроголодь. Тем не менее, окончил в Стерлитамаке учительскую семинарию. В 1913 году едет в Москву и поступает на физико-математический факультет Московского университета, подрабатывает репетиторством.
В это время среди студентов Московского университета все большее распространение получают идеи большевиков, и Наседкин скоро становится членом РСДРП. Неудовлетворенный учебой в Московском университете, он переходит в университет имени Шанявского, который в то время был одним из лучших и демократических учебных заведений страны. Как поэт Наседкин уже известен среди однокурсников, к этому времени относится и его знакомство с Сергеем Есениным. Вот несколько строчек из воспоминаний о Есенине однокурсника Есенина и Наседкина по университету Шанявского Б. А. Сорокина:
«В скверике я жду Васю Наседкина, чтобы пойти в большую аудиторию на лекцию профессора Айхенвальда. С Васей мы живем в комнатушке неказистого домишки в одном из переулков около Миусской площади. Он приехал из Башкирии. Пишет стихи. В них много солнца, ветра, тихой грусти к людям бедных деревень, разбросанных в неоглядных просторах пахучих степей. Спим мы на одной кровати, и иногда по ночам он будит меня и читает свои стихи.
– А, вот ты где? – подходя, еще издали громко говорит Наседкин. С ним стройный, в сером пиджаке паренек. – Познакомься, это Сергей Есенин, наш шаняевец, первокурсник. Пишет стихи. Из Рязани».
Ровесники, выходцы из патриархальных крестьянских семей, – один из Рязани, другой из Башкирии, – без средств на существование отправившиеся в столицу ловить поэтическую «жар-птицу», Есенин и Наседкин крепко подружились. В свободное время они вместе бродят по старинным улицам Москвы, смотрят с галерки «Вишневый сад» Чехова, читают друг другу свои стихи. Жил в то время Есенин далеко от университета, в Замоскворечье, и поэтому после занятий, особенно в ненастную погоду, часто заходил к жившим недалеко от университета Наседкину и Сорокину. Вот еще несколько строк из воспоминаний Сорокина:
«За окном сыро, а у нас на столе кипит самовар, и мы втроем – Наседкин, я и Есенин – пьем чай… Отхлебывая маленькими глотками чай, Сергей, повернув голову к окну, настороженно слушает стихи Наседкина. Они певучи и солнечны, и кажется, что в комнату входит веселый летний день.
– Хорошо, Василий, – говорит он. Твои стихи близки мне, но у тебя степи, а у меня приокский край, мещерская глухомань, березы и рябины. У вас в Башкирии и ветел-то, должно, нет? А у нас без ветел не обходится ни одно село…»
В 1915 году по совету большевиков Наседкин оставляет университет Шанявского и уходит добровольцем в армию. Примерно в это же время уходит из университета и Есенин, как позже сам он писал – «по материальным обстоятельствам».
Но в армци Наседкин прослужил недолго. Его направляют учиться в юнкерское училище. И здесь по заданию большевиков он продолжает пропагандистскую работу. В 1936 году под впечатлением встречи со старым боевым другом М. А. Розенштейном, который в последний год перед революцией был партийным организатором в Благуше-Лефортовском районе Москвы, Наседкин написал стихотворение «Встреча» с посвящением: «Красногвардейцу М. А. Розенштейну». М. А. Розенштейну принадлежат вот эти строки:
«В нашем районе находились части телеграфно-прожекторного полка, три роты и учебная команда, имевшие довольно хорошую парторганизацию, руководимую солдатами, окончившими полковую учебную команду, во время прохождения которой среди них велась усиленная партийная работа тов. Наседкиным. Идеи нашей партии были разнесены ими по всем ротам полка… Партийная работа в воинских частях оправдала себя в октябрьско-ноябрьские дни, – и эти воинские части сыграли значительную роль в решительный момент».
В дни революции Наседкин руководит юнкерами, перешедшими на сторону Советов, и совместно с солдатами телеграфно-прожекторного полка участвует в захвате телеграфа, почты, телефонной станции и Кремля. Он – член полкового комитета, потом его назначают комиссаром полка. С 1918 по 1920 год Наседкин – в действующей армии. В 1920 году послан в Туркестан на борьбу с басмачами. Так, в отличие от Есенина, у него началось знакомство с Востоком:
Травы реже.
Дымились барханы кой-где.
Поезд громко кому-то кричал о свиданье,
И шипели пески, будто в черной беде,
Уползая с крыльца станционного зданья.
Читая стихи Наседкина этого времени, нельзя не заметить и другие удивительные строки:
Бредет устало караван мой.
Спокойны думы о костях…
Блажен, кто был в краю коранном
На вековых его путях.
Во время тяжелых пустынных переходов, на коротких стоянках между боями родился цикл стихов «Согдиана. Стихи о Туркестане». В стихах была уверенность, что и в этот древний край придет новая жизнь.
Возвращается Наседкин из Туркестана только в 1923 году. Демобилизовавшись из армии, поступает в Литературный институт, одновременно работает редактором в журнале «Город и деревня». В 1924 году вновь встречается с Есениным. Вот как описывает он сам эту встречу:
«Как-то в конце лета я встретился в «Красной нови» с одним из своих знакомых, и по давней привычке запели народные пески. Во время пения в редакцию вошел Есенин. Пели с полчаса, выбирая наиболее интересные и многим совсем неизвестные старинные песни. Имея слушателем такого любителя песен, как Есенин, мы старались вовсю.
Есенин слушал с большим вниманием. Последняя песня «День тоскую, ночь горюю» ему понравилась больше первых, а слова
В небе чисто, в небе ясно,
В небе звездочки горят.
Ты гори, мое колечко,
Мое золотое…
вызвали улыбку восхищения.
Позже Есенин читал:
Гори, звезда моя, не падай,
Роняй холодные лучи».
В этот вечер Наседкин был приглашен к Есенину домой, где он и прочел ему свои «Гнедые стихи». Старый университетский товарищ, Наседкин скоро становится своим человеком в семье Есениных. И теперь вечерами Есенин и Наседкин пели вместе, и время от времени Сергей просил друга исполнить полюбившуюся ему песню оренбургских казаков «День тоскую, ночь горюю».
Я снова обращаюсь к воспоминаниям. На этот раз слово младшей сестре Есенина, Александре Александровне:
«Знатоки и любители народной песни находились и среди наших гостей. Среди них выделялся своим глуховатым тенором Василий Наседкин. Как сейчас вижу его, подперевшего щеку рукой, полузакрывшего глаза. И как сейчас слышу негромкую, полную тревожной печали, протяжную песню оренбургских казаков «День тоскую, ночь горюю».
Есенина и Наседкина сближали и возраст, и некоторая общность поэтических судеб, а главное – думы о будущем родной деревни. Мучимого душевными разногласиями Есенина тянуло к Наседкину, который тоже с грустью простился с патриархальной деревней, но, в отличие от Есенина, сразу без всяких колебаний и оговорок принял новую, и не только принял, но и утверждал ее в течение семи лет с винтовкой в руках;
О родное, любимое поле!
В далях снова твой древний лик
И расплесканный по раздолью
Лебединый зовущий крик.
Выткал сердцем твои узоры,
Чтобы можно любить и петь,
Но беда ли, что каменный город
Будет тракторами гудеть.
Пусть приходит. Смешон же, право,
Этот детский ненужный страх.
Все равно ведь весенние травы
Не замолкнут в степных краях.
Наседкин одним из первых, не в пример многочисленным мнимым друзьям поэта, понял истинное значение поэзии Есенина. В книге «Последний год Есенина» он писал:
«С той поры, как я приобрел тонкую тетрадочную книжку стихов «Исповедь хулигана», я полюбил Есенина как величайшего лирика наших дней. Новая встреча с ним после годичной разлуки мне показалась счастьем. Но почти этого же я испугался. Мне тогда часто думалось, что рядом с Есениным все поэты «крестьянствующего» толка, значит, и я, не имели никакого права на литературное существование».
Но в этом была и своя обратная сторона. Я немного отвлекусь. 27 ноября 1872 года грандиозный пожар почти полностью уничтожил город Чикаго. Долгое время виновницей случившегося считали корову, якобы опрокинувшую в стойле керосиновую лампу. Но очевидцы пожара рассказывали невероятные вещи, в которые было трудно поверить. День был совершенно безветренный, но дома, стоявшие далеко друг от друга, вспыхивали, как спички. Горел даже мрамор; металлический стапель, стоявший в стороне от построек на берегу реки, сплавился в один кусок. Необычайно выглядели и жертвы пожара. Сотни трупов людей, пытавшихся спастись от пожара бегством из города, были найдены в окрестностях Чикаго без видимых следов ожогов. Время все уносит с собой в бесшумную Лету, постепенно забылась бы и эта, так и неразгаданная человеческая трагедия, если бы ею в свое время не заинтересовался молодой американский ученый Чемберлен. Он столкнулся с любопытным фактом. Оказывается, одновременно с Чикаго многочисленные пожары прошли широкой полосой через весь североамериканский континент. В одной из старых газет Чемберлен нашел описание пожара со слов очевидца: «Огонь падает дождем, огненные камни падали подобно летящим из пожара головням». В специальной литературе Чемберлен нашел сообщение, что в этот же день, 27 ноября 1872 года, в различных районах мира, в том числе и в Северной Америке, прошел метеоритный дождь. Точка на небосводе, из которой он шел, совпадает с той, где в этот день ожидалось появление открытой несколько десятков лет назад кометы, которая через каждые 6 лет и 9 месяцев проносилась через солнечную систему. Больше эту комету не видели, метеоритный дождь 27 ноября 1872 года, спаливший Чикаго, был ничем иным, как ворвавшимися в атмосферу Земли ее раскаленными остатками.
Если в 1915 году Наседкин и Есенин расстались подающими надежду крестьянскими юношами, то теперь перед Наседкиным был великий поэт. И ослепленный неожиданно ворвавшимся в литературу каменного языка и вспыхнувшим в ней необычайно ярким, трагическим светилом, Наседкин, сам того не сознавая, на какое-то время оказался в хвосте этой стремительно несущейся к вершинам поэзии, но одновременно и приближающейся к земле, а потому еще более стремительно и ярко сгорающей кометы. И еще долгое время его стихи будут светиться благородным, но все-таки чужим отраженным светом, и по-есенински будут говорить с небом, с ветром башкирские степи.








